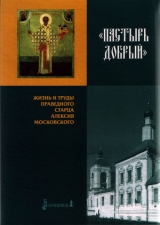
Текст книги "Пастырь Добрый"
Автор книги: Сергей Фомин
Жанры:
Религиоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 57 страниц)
У Батюшки на Маросейке. Елена Апушкина
Верить в Бога и молиться научил меня мой дедушка [58]58
Дедушка автора воспоминаний – Петр Быков.
[Закрыть], очень меня любивший как первую внучку. Сам он был глубоко верующим человеком. И потом Господь не оставлял меня и всегда посылал людей, которые поддерживали во мне искру веры, несмотря на многие неблагоприятные в этом отношении обстоятельства. Однако, несмотря на это, к моменту окончания средней школы я была почти неверующей. Мне казалось, что в Церкви нет ничего «интересного», что все это старое, отжившее. Раз в год на Страстной неделе я говела, но делала это «ради мамы». При этом я иногда получала очень большую, но непонятную радость и удивлялась себе самой.
После окончания школы я поступила в университет, думая в философии найти «смысл жизни». Мне казалось, что можно всю жизнь делать и неинтересное дело ради хлеба насущного, но заниматься надо тем, что поможет найти Истину.
Помимо университета я посещала разные лекции и диспуты, ходила во «Дворец Искусств» в «Вольную Академию Духовной Культуры» [59]59
Вольная академия духовной культуры (Вольфила) – возникла в 1919 г.
[Закрыть]. В последней Вячеслав Иванов [60]60
Вячеслав Иванович Иванов (1866—1949) – поэт, философ, теоретик символизма. «В. Иванов, – писал Н. А. Бердяев, – был виртуозом в овладении душами людей. Его пронизывающий змеиный взгляд на многих, особенно на женщин, действовал неотразимо. Но в конце концов люди от него уходили. Его отношение к людям было деспотическое, иногда даже вампирическое, но внимательное, широко благожелательное» (Бердяев Н. А. Самопознание. (Опыт философской автобиографии). М. 1991. С.156).
[Закрыть] своим «Мистическим курсом древней Греции», проводя некоторые параллели, заинтересовал меня церковным богослужением и вообщехристианством.
Я стала несколько чаще бывать в церкви. Настоятель нашего приходского храма (Николы Явленного [61]61
Храм Святителя Николая Явленного на Арбате был освящен 2.10.1860 (престолы Никольский и Покровский, придел равноапп. Кирилла и Мефодия) на месте разобранной церкви, известной с 1593 г. В октябре 1929 г. президиум Моссовета постановил снести храм. Разрушен в 1931 г. На пустыре была построена школа, занятая впоследствии Главным управлением народного образования исполкома Моссовета.
[Закрыть]) о. Александр Добролюбов [62]62
Протоиерей Александр Добролюбов (1864 – ?) – арестован по «делу об изъятии церковных ценностей» (1922); Московским революционным трибуналом был осужден по делу о сопротивлении изъятию церковных ценностей (8.5.1922). «После столкновений, которые произошли в ряде московских храмов в марте–апреле (1922 г.) (в связи с изъятием церковных ценностей), начались аресты среди московского духовенства. Несколько дней спустя после Благовещения [были] арестованы: протоиерей В. Соколов, настоятель храма Николы Явленного на Арбате, благочинный храмов центрального района Москвы, […] благочинный прот. А. Добролюбов и многие другие. 26 апреля в помещении Политехнического музея начался этот громкий процесс по делу о сопротивлении изъятию церковных ценностей в Москве. Дело вел революционный трибунал под предводительством Бека. На скамье подсудимых – 17 человек разных сословий и положения. Рядом с известными священнослужителями – инженер и декадентский поэт, старый профессор–юрист и 22–летняя девушка. Приговор был объявлен в воскресенье 8 мая в 2 часа дня: протоиерей А. Заозерский (42 года), протоиерей А. Добролюбов (56 лет) […] – приговорены к высшей мере «социальной защиты» – расстрелу. Да еще с конфискацией имущества. В итоге (после кассации): трое были оправданы, трое были приговорены к различным срокам заключения. Четверо […] были расстреляны» (Владимир Русак. Пир сатаны. Русская Православная Церковь в «ленинский» период (1917—1924). Издательство «Заря». Канада. 1991. С.99—100). Настоятель храма Свт. Николая Явленного прот. Василий Александрович Соколов (1876 20.5.1922) был расстрелян, а о. Александр Добролюбов получил срок (10 лет). Приговор к расстрелу последнего был отменен по ходатайству «прогрессивного духовенства».
[Закрыть] на исповеди отнесся ко мне очень тепло. В храме увидела я знакомые лица Тани [63]63
Татьяна Ивановна Куприянова (31.3.1900 – 11.2.1954) – родилась в семье офицера–артиллериста. Некоторое время жила в Пензе. Из–за болезни (туберкулез) получила домашнее образование. До 1914 г. проходила курс лечения в Италии и Швейцарии. Воспитанница Московского дворянского института имени Императора Александра III (1915—1918). Закончила философское отделение Московского университета (1918—1923). Одновременно занималась живописью в Училище живописи и ваяния. Была, по воспоминаниям знавших ее, человеком одаренным. Ученица Г. И. Челпанова (см. прим.12), она была замечательным логопедом, серьезным психологом и философом. В студенческие годы стала прихожанкой храма свт. Николая на Маросейке. В начале 1930–х гг. вместе с другими прихожанами (в т. ч. автором воспоминаний Е. В. Апушкиной) была арестована, но вскоре освобождена. Вышла замуж за находившегося в ссылке Бориса Александровича Васильева (1932), тайно рукоположенного в священники. Отрывки из ее автобиографических записок, а также дневника (1924 г.) были опубликованы в сб.: Надежда. Вып.7. Франкфурт–на–Майне. 1982. С.298—327. Протоиерей Владимир Богданов.
[Закрыть] и Жени – наших институток, старших меня. Мы стали бывать друг у друга. Таня заинтересовалась философским отделением (до того она училась живописи во ВХУТЕМАСе) и поступила в университет. Вместе мы посещали лекции, вместе готовились к зачетам (помню первый был по логике – по Гуссерлю), но мы больше разговаривали, чем занимались. Разговоры были самые жаркие. Таня рассказывала мне о себе, о своем детстве, о церковной жизни Пензы, откуда она только что приехала. Постепенно я познакомилась со многими ее тамошними друзьями и загорелась желанием поехать на каникулы вместе с Таней. Осуществить это мне не пришлось, так как я не сумела достать командировки, а в те годы иначе нельзя было никуда поехать.
В этом году мы уже вместе с Таней говели, вместе читали книгу епископа Михаила о Таинствах. Впервые я исповедалась сознательно, до глубины, рассказала о самом больном. Впервые и причастилась с верой и пониманием совершающегося.
***
Однажды в раздевалке Психологического Института мы с Таней сидели на подножии пустых вешалок. К нам подошел один из студентов (которого мы считали большим чудаком, в особенности потому, что он иногда почему–то приходил в университет босым) и сказал нам: «Мне кажется, что мы с вами одного духа». Он пригласил нас на свой доклад о русской культуре, который должен был состояться в частной квартире где–то на Пречистенском бульваре 25–го марта. Мы пришли туда. Студент, пригласивший нас, Володя Чертков сделал доклад, содержания которого я теперь уже не помню, но который начинался эпиграфом: «У лукоморья дуб зеленый»… Доклад имел чересчур общий и «всеобъемлющий» характер, мне он скорее не понравился, да видно и других не «зажег», потому что, хотя и говорили, что надо бы еще собраться, но так и не сделали этого до следующего года.
Но через год уже интересы наши изменились. Может быть и другие чувствовали недостаточность философии, но как–то все сошлись на том, что надо изучать религиозный опыт Святых Отцов, что только здесь мы найдем истинное, вечное, насущно–необходимое. Попробовали раза два собраться одни на квартире у Тани, но разговоры сразу пошли заумные – об отрицательном богословии, о «Божественном Ничто» и проч., что очень напугало нас, в особенности Женю. Мы поняли, что нам нужен в этих занятиях знающий и опытный руководитель.
Володя к тому времени бывал уже иногда на Маросейке (хотя был духовным сыном о. Владимира Богданова [64]64
Протоиерей Владимир Богданов (19.4.1865 – 10.11.1931) – родился в Москве; его отец, А. П. Богданов, знаменитый русский антрополог и зоолог, директор Московского зоологического музея. После окончания физико–математического факультета Московского университета (1888) преподавал в 1–м Московском реальном училище (1888—1900). Заведовал отделами чтений по физике и естествознанию в Комиссии по устройству общеобразовательных чтений для московских рабочих (с 1902). Кандидат математических наук. Товарищ начальника отдела прикладной физики Политехнического музея (1900—1917). Духовный сын прот. Валентина Амфитеатрова, ученик прп. Варсонофия Оптинского, неоднократно обращался за советами к прп. Варнаве Гефсиманскому. Рукоположен во иерея целибатом (17.5.1914). Служил в храмах (1915—1927): Спаса Преображения на Песках в Спасопесковском переулке; апостола Филиппа (Иерусалимское подворье); прп. Серафима Саровского при Серафимовском комитете помощи раненым на Сивцевом Вражке (настоятель до 1921 г.). От епископской хиротонии, предложенной Патриархом Тихоном, отказался. Был в тайном постриге (с именем Серафим). Подолгу жил в Дивеевском и Серафимо–Понетаевском монастырях, в Аносиной пустыни. Арестован (1923). Сидел в Бутырской тюрьме. В 1923 (1924?) г. находился в ссылке в Зырянском краю (Усть–Сысольск, Усть–Вымь, с. Корчемье) вместе с митрополитом Кириллом (Смирновым), архиепископом Фаддеем, архиепископом Неофитом, епископом Николаем и епископом Афанасием (Сахаровым). См. записанные его духовными детьми «Практические советы духовной жизни» (Жизнь вечная. М. 1995. № 12. С.4—13). Последнюю Литургию служил в Москве 13.4.1927. Находясь в оппозиции к митрополиту Сергию (Страгородскому), служил в сельских храмах и дома. В последние годы нелегально жил в пос. Пушкино под Москвой, где и скончался. Похоронен на городском кладбище Сергиева Посада.
[Закрыть]), знал и о. Сергия Дурылина [65]65
Священник Сергий Дурылин – автор воспоминаний об о. Алексии Мечеве «Во граде, яко в пустыне живый…» и «Маросейский Батюшка», публикуемых в наст. изд.
[Закрыть] и о. Сергия Мечева. Мы с Таней уже отчасти знали С. Н. Дурылина по его выступлениям в Вольной Академии Духовной Культуры, и нам он казался подходящим для этой роли. Но в конце концов решили обратиться к Батюшке о. Алексию с просьбой порекомендовать нам, к кому обратиться. Володя вызвался побывать на Маросейке. Батюшка направил его к о. Сергию. Последний очень горячо отозвался на нашу просьбу, говоря, что такие занятия – дело его жизни, но окончательное согласие отложил до личного свидания с нами. Был назначен день, в который он обещался прийти к нам (на квартиру к Е. С.).
Этого дня мы ждали с нетерпением и с некоторым страхом. Дверь открылась и вошел высокий и худенький молодой священник, довольно коротко подстриженный, темноволосый, с живым взглядом больших темных глаз. На рясе был прикреплен университетский значок. Нам с Таней последнее не понравилось: мы побоялись университетской учености, заумности. Мне еще он показался строгим, и я сразу стала его бояться. О. Сергий сделал небольшое введение, говоря о двух путях, формах христианской жизни – семейной и безбрачной, а затем стал расспрашивать всех по очереди о том, каким путем желает каждый идти, чего ищет в жизни, чего ждет от занятий. Все отвечали, только одна я не смогла открыть рта, стеснялась и пряталась за чужие спины.
Со следующего раза стал говорить о. Сергий. Трудно передать, с какою радостью мы его слушали. Казалось, он открывал нам совершенно новый мир. Это были не отвлеченные университетские лекции, это была сама жизнь, это был хлеб насущный. Мы жили от одного понедельника до другого, едва могли дождаться как пройдет неделя. Помню, первая беседа была о церковном понимании слова «Мiр», об отвержении Мiра, как греха. Затем были беседы о Церкви, о молитве, о страхе Божием, о совести, о рассудительности, о выборе духовного руководителя и др. Вся жизнь озарилась новым светом.
Не все остались в нашем «кружке», кое–кто ушел. Оставшиеся почти все сделались духовными детьми о. Сергия. Всем казалось: куда же еще идти, когда тут тот, кто открывал нам Христовы «глаголы жизни вечной»? Я же все еще боялась и стеснялась о. Сергия, не умела даже с ним разговаривать и чувствовала, что не в силах пойти к нему, хотя он был дорог душе. Что же делать? Я надумала обратиться к его отцу – Батюшке о. Алексею. Батюшка принял меня.
Кроме понедельников у Е. С. я стала посещать беседы о. Сергия в храме. Батюшка благословил меня вести записки по ним, а позднее мы с Таней записывали и проповеди о. Сергия во время богослужения [66]66
Записи Т. И. Куприяновой (см. прим.6) нашли отражение в ее рукописи «Жизнь в Церкви как общение с Господом в Богослужении», частично опубликованной в сб.: Надежда. Вып.7. С.327—358.
[Закрыть]. Учение, которое мы слышали от о. Сергия и жизнь под руководством Батюшки слились для меня в одно целое. Самого о. Сергия я по–прежнему боялась и не умела ни разговаривать с ним, ни исповедываться у него. Батюшка, впрочем, и не позволял этого. «У них, у молодых, свои методы», – говорил он. Даже когда Батюшка был болен и под домашним арестом, он не позволял мне исповедываться ни у кого, а исповеди я ему писала и время от времени, крадучись, попадала к нему.
Но вот Батюшка стал все чаще и чаще говорить о своей приближающейся кончине (день смерти о. Лазаря, день Ангела Батюшки [67]67
Священник Лазарь Судаков скончался 25 декабря 1922 г. Память прп. Алексия, человека Божия 17 марта.
[Закрыть]), а в день Св. Пасхи, когда мы тайком рано утром пришли к нему христосоваться, он прошептал мне, когда я наклонилась к нему, лежавшему в постели: «Теперь исповедывайся у о. Сергия!» Выйдя от него, я горько заплакала, поняв, что Батюшка уходит от нас. Еще несколько раз пришлось мне повидать Батюшку, но наступило 9–е июня и Батюшки не стало.
***
Когда умер Батюшка, мне от всей души хотелось вспомнить каждое слово, от него слышанное, вспомнить и никогда не забывать все, с ним связанное, все впечатления от его личности, от его молитвы, от обращения с людьми (и со мной), так сильно действовавшего на душу. Влияние Батюшки не ограничивалось лишь смыслом его слов, но было во всем его существе, в звуке его голоса, в его движениях. Хотелось все восстановить в памяти, записать, закрепить. В первые недели после его кончины я и делала это, вторично переживая жизнь с ним.
С тех пор истекает уже 30 лет. Ушла молодость, давно оземленилась внутренняя жизнь души, но еще светится в глубине ее радость и озарение почти полутора лет общения с Батюшкой и приобщения через него к вечной жизни, встает его образ светлый, светящийся, заставляя понимать, почему на иконах головы угодников Божиих окружает сияние; встает и будит унылую душу, вновь подымает ее, согревает и зовет горе.
Многие видели от Батюшки случаи прозорливости, чудеса молитвы, – я много об этом слышала впоследствии. Но в моем непосредственном опыте главным было не то. Главное: Батюшка вел к Богу, Батюшка, в тебе самой показывая, выявлял чистоту и святость, на фоне которой особенно стыдной была грязь ежедневных грехов. И еще, самое важное, Батюшка являл нам любовь Божию, Батюшка своею любовью приобщал нас к переживанию любви Божией.
При общении, при беседе с ним казалось, что он любит тебя со всею исключительностью, как можно любить только самого родного человека, одного из всех, но когда случалось собраться вместе многим духовным его детям, то с такою же полнотою жившая в нем любовь изливалась на всех, всех наполняла и объединяла, во всех рождала такое же чувство, ободряла душу; направляла ее к Богу, к добру. Может быть потому не было около него соперничества, ревности и проч. греховного, разделяющего. Зато бывало, если встретишь кого–нибудь из Батюшкиных, хотя бы и мало знакомых, то казалось встретил самого близкого родного.
Батюшка не требовал каких–либо особых подвигов, не налагал больших молитвенных правил, но требовал, чтобы имеющееся малое исполнялось неукоснительно, не взирая на усталость и другие обстоятельства. И в жизни Батюшка от меня, например, не требовал многого, – а лишь хорошего отношения к близким родным. Зато уж это он неукоснительно требовал на каждой исповеди. Кроткие его упреки и обличения поражали душу стыдом, как на Суде: «Мне больно за вас»… «Я краснею за тебя». Хотелось сквозь землю провалиться. И тут же надо было во что бы то ни стало дать обещание так больше не грешить: «Нет, ты скажи: ты больше не будешь так поступать? Ты будешь хорошей?» И приходилось обещать и потом, хоть и неизменно падая, все же стараться сдержать свое слово, а потом каяться с еще большим стыдом.
Свои воспоминания я делала для себя, нет даже хронологического порядка. Дорого в них лишь, что в них передано много его подлинных слов.
***
Впервые увидела я Батюшку о. Алексея под день его Ангела в марте 1922 г. Это было в его храме, на Маросейке. Поздно вечером, после университетских лекций зашла я туда. Всенощная уже отошла, кончился и молебен у иконы св. Алексия, Человека Божия. Батюшка стоял перед нею с крестом в руках, благословлял и принимал поздравления, улыбаясь необычайно ласковой и светлой улыбкой. Мне очень захотелось, чтобы он и мне так же улыбнулся, но Батюшка как бы вовсе не заметил меня.
Памятно мне первое мое соборование. Я тогда только подходила к Церкви вообще и к Маросейке в частности, и все меня интересовало. Я слышала, что в Маросейском храме каждый понедельник происходит общее соборование, так как Батюшка считает, что здоровых людей теперь почти нет, а кроме того в этом таинстве прощаются грехи забвения, которых у всех нас много. Меня потянуло пойти посмотреть, как это происходит. Пришла в церковь, где собралось уже порядочное число желающих приступить к таинству елеосвящения. Стояли в очереди, записывались на соборование. Я не стала записываться и покупать свечу, потому что не собиралась, да и не могла собороваться. Какая–то женщина, к которой я обратилась с вопросом, – где мне лучше стать, чтобы не помешать, сказала, что можно остаться тут же в толпе и уговаривала собороваться. – «Да я не могу и не готовилась». – «А вы попросите Батюшку, он великий старец». – «Да нет, зачем же, я не хочу». Началось богослужение. Впервые я слышала умилительный канон елеосвящения, читавшийся Батюшкой, и необычный напев: «Многомилостиве Господи…»
Мне захотелось молиться за этих больных духом и телом людей, вымолить для них у Господа исцеление. Я вся ушла в это.
Кончился канон, прочитали первую молитву. Первым помазывать в нашу сторону пошел сам Батюшка. Тут я поняла, что попала в неловкое положение, – в храме были только соборующиеся. Но уходить было поздно. Батюшка подошел ко мне: «Как Ваше имя?» – «Батюшка, я не могу собороваться, мне нельзя!» – «Как ваше имя?» Я вновь пыталась объяснить Батюшке, что я не могу собороваться. – «Как вас зовут?» – спросил он уже настойчиво. Я подчинилась. Батюшка помазал мой лоб, глаза, лицо, руки, и потом, читая в следующий раз молитву елеосвящения, поминал то впереди, то в конце списка мое имя. Молитвенное настроение не покидало меня, и когда соборование окончилось, я почувствовала особенный, ни с чем не сравнимый мир и тишину на душе, поняла, что каждое таинство кладет на душу свою особую печать, дает особое переживание.
Произошло это на Страстной неделе. А исповедывалась я у Батюшки в первый раз на Святой.
На исповедь шла я с великим страхом. На душе был большой, хотя и давний, не до конца исповеданный грех. Когда поднялась на амвон, – дух захватило. На незнакомое лицо мое Батюшка смотрел серьезно и внимательно. Трудно было говорить, но он понял меня с двух слов: «Не надо обетов давать! Забудьте все, не вспоминайте! Ведь больше к этому не возвращаетесь? Нет? И слава Богу, ну и хорошо!» Он начал улыбаться и утешать меня и сейчас же заговорил об отношении моем к родителям (папе с мамой), но я плохо слушала, была полна своим, боялась забыть то, с чем пришла.
Мой духовник из прихода, о. Александр Добролюбов, хотя и хороший священник, хотя и любила я его, не удовлетворял меня, как руководитель, да и по обстоятельствам жизни он стал для меня временно недоступен, – его арестовали по делу о изъятии церковных ценностей. Могла бы я обратиться, как и мои подруги, к о. Сергию, который так много открыл душе, научил пониманию духовного пути своими беседами, пробудил желание духовной жизни, – но он был еще очень молод, строг и резковат, – я его стеснялась и даже боялась. К Батюшке же я пошла, как к его отцу, а о самом Батюшке почти ничего не знала.
Я спросила Батюшку, – не плохо ли, что я пришла к нему (Батюшке), не спросившись о. Александра. – «Ну вот, ничего, ничего… – ответил Батюшка, – еще если бы к молодому пошла, тогда… А я ведь старше о. Александра. А потом, когда его выпустят, опять к нему вернетесь». (О. Александра выпустили не скоро и я так и осталась на Маросейке).
Спрашивала я о своем ученьи. (Тогда без конца шла реорганизация университета вообще и нашего отделения в частности). Батюшка слушал меня внимательно, с задумчивым видом: «Ну ничего… Учись, занимайся. В молодости только и заниматься. А кем вы будете (в результате ученья)? Учительницей?» (Я и сама не знала).
После службы Батюшка выходил из церкви. Его сейчас же окружила толпа народа, ждавшего его благословения. Батюшку теснили со всех сторон, задавали ему здесь же вопросы. Какая–то женщина плакала во весь голос: «Горе–то, Батюшка, горе какое!..» Батюшка нахмурился: «Тише, тише, матушка! Какие у нас с тобой горя?!» – а тише добавил: «Приходи ко мне после церкви, поговорим».
Попасть под благословение к Батюшке стало и для меня великим счастием. Верно Батюшка чувствовал, как душа моя тянется к нему. Почти всякий раз я робко подходила сзади к толпе, провожавшей Батюшку из церкви, не решаясь тесниться, и всякий раз Батюшка с улыбкой обертывался ко мне и благословлял, иногда и не один раз; а как–то дал мне подряд 2 просфоры, одну за другой, как будто одной было мало.
Увидев меня впервые в пенсне, Батюшка сказал мне: «Ну вот, нехорошо, нехорошо! Сними, сними!» Я не поняла, – в шутку ли это было сказано им или всерьез, но с полгода совсем не носила стекол даже во время работы, пока не спросила об этом Батюшку. «Одевай, если тебе нужно. Я только так сказал», – ответил он.
Когда позднее мы иногда подходили вместе с Таней К. [68]68
См. прим.6.
[Закрыть] ко кресту, Батюшка называл нас «баловницами».
Когда однажды Батюшка выходил из церкви, я решилась попросить у него разговора на дому. Он был такой усталый, что ответил мне не сразу; переспросил и разрешил прийти.
Это был один из тех дней, которые раньше были приемными у Батюшки. Приемы были уже отменены, но и теперь лестница была полна народа. Всем отвечали, что Батюшка не принимает, но мне посоветовали сказать, что Батюшка сам мне назначил. Действительно после некоторого ожидания меня впустили в темную переднюю и оттуда в Батюшкин кабинетик, где в углу стоял образ Святителя Николая в белой рамке. Святитель был изображен в белой ризе на фоне зеленых полей и деревьев. Взгляд его был очень строгий. Я дожидалась Батюшку с замиранием сердца, не смея присесть. Наконец Батюшка вошел – маленький, светленький, с живым взглядом, с живыми и быстрыми движениями. Он велел мне сесть на низкий черный диванчик у двери и сам сел на другой его конец.
Вновь, только еще более подробнее рассказала ему свои трудности и сомнения относительно моего учения в университете, которое приходилось совмещать с работой. Программа все время подвергалась всяким изменениям, университет реорганизовали; к тому же начинала терять интерес к выбранной мною науке. В то же время мне хотелось бросить работу, чтобы учиться, но родители мне этого не позволяли, в особенности потому, что выбранная мною специальность – философия – была так непрактична. Папе хотелось, чтобы я стала инженером. Батюшка спросил:
– А может быть и хорошо будет? Я, правда, еще не знаю, какие бывают женщины–инженеры, что–то еще не видал, а может быть?..
– Батюшка, ну какой же из меня инженер выйдет?.. – жалобно сказала я.
Батюшка посмотрел на меня, рассмеялся:
– Ну хорошо! Я по своим знаю, что напрасно детей заставлять заниматься не тем, чего они хотят сами. Оставьте все по–старому (т. е. продолжать учиться и служить), а я за вас молиться буду.
Так продолжалось некоторое время. Наконец мне удалось уговорить мою маму пойти к Батюшке, главным образом для того, чтобы поговорить обо мне. После этого разговора Батюшка сказал, что теперь он видит, что об оставлении службы сейчас не может быть и речи, да что и занятий у меня слишком много, что нельзя так рваться на три части между университетом (ФОН), Психологическим институтом и службой. Перед тем я все жаловалась Батюшке, что меня очень смущают, наполняют душу мою смятением и сомнениями университетские учебники со всеми их нападками на религию. Раньше Батюшка не обращал на это внимания и указывал мне относиться к таким смущениям, как к хульным помыслам, а теперь сказал: «Ну что же против совести заниматься, и не надо». О занятиях в Психологическом Батюшка спросил: «А кем же ты будешь после этого – учительницей–то ты будешь?» – «Не знаю, Батюшка, это–то меня и смущает». (Тогда правда трудно было понять, что получится из безконечных реорганизаций. Психологической институт был потом уничтожен). Батюшка подумал немного:
– Ну, будешь, будешь учительницей!
Но на этом дело не кончилось. Когда я оставила ФОН, у меня все же еще оставалось очень много занятий и я была уже очень переутомлена, в Психологическом у меня ничего не выходило. Здесь мне все казалось мертвым, неинтересным, в этой школьной психологии не было ничего, что бы могло меня привлечь; раньше мне казалось, что философия мне нужна, чтобы найти смысл жизни, чтобы найти и познать Бога, а теперь, когда путь к Богу был найден непосредственный, и философия казалась ненужной. Я и Батюшке жаловалась на мертвость нашей челпановской психологии, говоря, что она не дает никакого знания о душе. Батюшка согласился со мной и сказал улыбаясь:
– Я вот не учился философии и психологии (то есть учился немного, когда был в училище), а теперь вот, пожалуй, мы вашего Челпанова [69]69
Георгий Иванович Челпанов (1862—1936) – философ, психолог. До революции он «с большим успехом читал курс по критике материализма. […] Челпанов был в философии прежде всего педагогом. Но он был очень живой человек, всем интересовавшийся, он был для того времени новым типом профессора» (Н. А. Бердяев. Самопознание. С.125).
[Закрыть] за пояс заткнем (в отношении знания человеческой души).
Но пока все еще не позволял мне Батюшка бросать ученья, которым я так тяготилась. Наконец весной мне представился случай заниматься английским языком, который я с детства любила: у нас на службе организовалась группа. Английским языком Батюшка мне заниматься посоветовал, сказав, то у него есть духовный сын, знающий английский язык, который поэтому хорошо зарабатывает. И когда я после этого опять стала объяснять, почему меня тяготит Психологический институт, Батюшка сказал:
– Ну, хорошо. Что же против воли заниматься. А ты занимайся английским.
Так и кончилось мое ученье в университете. Впрочем, я и правда очень была переутомлена, память моя не воспринимала ничего, и я, хорошо учившаяся в средней школе, начала теперь «проваливаться» на зачетах, хотя готовилась к ним усердно.
Я далеко ушла от рассказа о первом разговоре с Батюшкой. Вернусь к нему.
После вопроса об ученьи я рассказала Батюшке о своем желании выйти замуж и чтобы непременно муж мой стал священником. Мне казалось, что это даст мне особую близость к Церкви. Батюшка опять улыбнулся и велел мне молиться об устроении моей судьбы Царице Небесной, святителю Николаю и мученику Трифону.
Спросила я его относительно переписки с одним человеком, который мечтал о духовной карьере:
– А вам очень хочется переписываться с ним?
– Да.
– Ну, тогда пишите.
Батюшка собирался уезжать на дачу. На исповеди он уже дал мне указание о мере причащения при нем:
– Я думаю, раз в неделю. Думаю, что так… Думаю, что так будет… Но теперь я спросила о том, как причащаться без него и получила ответ:
– Каждый раз, как будет общая исповедь (он не разрешал пока ни у кого исповедываться, кроме него).
Спросила я о том, как мне поститься. (Домашние не постились).
Батюшка сказал, что нельзя заставлять маму готовить для меня отдельно или всем для меня менять стол. «Нечего нам с тобой со своим уставом соваться». Он не велел только есть мяса: «Если будет мясной суп, его есть можно, а самое мясо оставь, скажи, что тебе не хочется». Но более всего внимание Батюшка указал обратить на духовный пост: быть особенно кроткой, смиренной, ласковой к окружающим в дни поста.
При упоминании о моих прежних грехах, Батюшка снова спросил меня: «Ведь этого уже нет больше, не повторяется? Так забудьте об этом, точно и не было ничего». Батюшка крепко обхватил руками мою голову поверх ушей и легонько ее потряс. На прощанье он благословил меня, и по движению его руки я почувствовала, что пора мне уходить: он как бы отталкивал меня.
***
Интересно мне проследить, как Батюшка охранял мою молодую душу от увлечений, которые так естественны в молодости. Он не насиловал душу, не собирался сделать из меня монахиню, но не давал слишком сосредоточиться мыслями на этом. С самого первого раза он указал мне, как и кому молиться об устроении моей судьбы, а мысли об этом отгонять.
Первое мое увлечение было основано на переписке, и даже я более увлекалась перепиской и своими мечтами, чем человеком. Мне все хотелось писать письма так, как если бы я их намеревалась показать Батюшке, но они такими не выходили, я чувствовала, что иногда в них проглядывает кокетство. Однажды мой корреспондент собрался переехать из провинции в Москву, чтобы служить здесь и учиться. Я спросила Батюшку, можно ли мне попросить одного знакомого устроить М. на службу. Сказала при этом, что боюсь, что намерения мои в этом отношении не безкорыстны; на последнем Батюшка не остановился, а спросил:
– А ты знаешь, как он работает? Можешь ли ты его рекомендовать и поручиться за него?
– Нет, Батюшка, не знаю.
– Ну, тогда и не надо просить, а то может быть неприятность. А как зовут твоего знакомого? Я за него помолюсь, чтобы он устроился.
Я подчинилась, но мне понравилась мысль, что можно Батюшку просить молиться за М. По письмам было видно, что он очень унывал. Однажды, когда Батюшка исповедывал, я подошла к нему и передала ему мою просьбу. Батюшка выслушал меня недовольно, нахмурившись:
– Ты что – исповедываться что ли?
По его тону почувствовалось, что я ему мешаю. Мне стало стыдно.
– Нет, я только попросить помолиться. Благословите, Батюшка! Батюшка благословил, но рука его меня отталкивала.
Наконец я решилась рассказать Батюшке всю историю этого знакомства, все мои мысли по этому поводу. Я исписала чуть ли не полтетради мелким почерком и захватила с собою два письма М. Так велел мне Батюшка.
– Дай мне его письмо, я сразу увижу, что это за человек и скажу тебе.
Одно из писем, последнее из полученных, казалось мне очень хорошим по настроению, но меня несколько смущало, что в нем М. описывал свое впечатление от встречи с Батюшкой в очень восторженном тоне. Глупо, конечно, было думать, что на Батюшкино суждение могло оказать [влияние] то или другое высказывание о нем! Батюшка спросил именно последнее письмо; взял и исписанные мною листочки. На следующий раз оказалось, что он не смог их прочитать.
– А по письму вижу, что он человек очень нервный. Вот какое письмо написал, и все об одном и том же говорит, носится с собой, размазывает свои мрачные переживания. Это он–то хотел священником быть? Ну какой же это пастырь? Унывает… А ты тоже нервная, это на тебя очень действует, это тебе неполезно, и поэтому я бы не советовал тебе эту переписку продолжать.
Я стала спорить, хоть и жалобным тоном, что М. это будет больно, особенно теперь, когда он в таком унынии и лишился близких; что письмо такое, потому что он в таких обстоятельствах. Батюшка не возражал, а потом спросил:
– А ты ответ написала?
Я испугалась, что и мое письмо надо будет показать Батюшке.
– Нет.
– Ну, напиши.
Но после этого разговора я никак не могла написать. Как ни возьмусь за перо, ничего не выходит. На следующей исповеди говорю:
– Что–то не могу, Батюшка, написать ответа.
– Ну, и не надо, не пиши.
– Да я боюсь, что ему будет больно, что он будет безпокоиться, ведь он ничего о моих мыслях не знает.
– А разве некому еще писать? Ты говоришь, – твоя подруга пишет. Вот пускай она и пишет, а мы с тобой не будем.
– Батюшка, а можно попросить подругу написать, что вы мне запретили писать. Он поймет, потому что я ему писала, что это может быть.
– Ну, хорошо, пускай напишет.
Так и окончилась волновавшая меня переписка да и вообще все связанные с ней смущенья. Я думаю, что это молитва Батюшки сделала, что я не могла написать письма и что вообще все это прошло безболезненно. Интересно, что этот человек так и не стал священником и вообще духовным отцом.
Было у меня при Батюшке и другое переживание этого рода. Опять Батюшка вел меня и оберегал.
Один раз папа привел к нам домой одного своего сотрудника, молодого человека. Как–то вышло, что он с первого раза многое нам о себе рассказал, а ему пришлось много перенести. Мне было жаль его и он мне понравился. Оказалось, что и он раньше меня видел и я однажды, не зная его, оказала ему какое–то внимание. «Вот тебе и жених», – сказал папа. Он и раньше в подобных случаях не раз так говаривал, но на этот раз это произвело на меня впечатление и немного вскружило голову. Я чувствовала, что и я тоже нравилась. Но все это меня испугало. Я старалась делать вид, что ничего не замечаю, но мне хотелось все разорвать, убежать от этих смущавших душу отношений. Я сказала об этом Батюшке.
– Ну, папа лучше нас с тобой знает.
Я не поняла Батюшку, не обратила внимания на его слова. Но он и в другой раз их повторил и добавил: «Нет, зачем же так? Не бегай. Будь с ним приветлива, вежлива, разговаривай. Но только ничего не думай и молись Матери Божией, Святителю Николаю и мученику Трифону, чтобы они устроили твою судьбу».
Через некоторое время пришлось помянуть о том же.
– А он с тобой говорил?
– Нет.
Батюшка на минуту задумался, а затем особенно крепко наказал мне не думать и не предполагать ничего, а только молиться, ничего не изменяя в своем поведении. «Только ты ничего не думай, а то ты себя доведешь до того, что не в силах будешь сдерживаться». Я молилась указанным Батюшкой угодникам, но это было как–то неопределенно, пока Батюшка не угадал мое недоумение и не написал мне в единственном полученном мною от него письме текст молитвы. Она мне очень помогала.
***
В 1922 году мои именины приходились под Троицын день. Мама моя напекла пирогов и вечером хотела справить мои именины. Между тем в те годы, когда я только подходила к Церкви, когда передо мной открывалась богатейшая сокровищница церковная, я и думать не могла не пойти ко всенощной и намеревалась исповедываться у Батюшки. Встала я. в конец длиннейшей очереди к нему на исповедь и простояла в ней до конца службы. О. Сергий в середине всенощной сказал проповедь о значении Троицкой вечерни, о реальности приобщения к вечности через церковное богослужение, о ежегодном обновлении в Церкви, в каждом верующем благодати Святого Духа.
Ничего подобного я раньше никогда не слыхала, да и на душе был такой восторг, свет, какого я никогда не испытывала: казалось, что обновление благодати уже наступило.
Всенощная кончалась. Я уже почти потеряла надежду на исповедь. Очередь была еще большая, а с правой стороны все подходили певчие в косынках… Но пришла, наконец, и моя очередь.
– Тебя как зовут? Елена? Ну что же у тебя?
Я покаялась во лжи.
– Ну зачем? Не надо лгать, Леля. А то вот скажут: «Вот Леля какая, – неправду говорит», – и никто верить не станет. Знаешь, какая должна быть девушка? Девушка должна быть чистая, как нежный цветок, в него ничто не должно попадать, ничто грязное не должно его касаться.
Батюшка так говорил, точно видел этот цветок, точно держал в руках что–то драгоценное и нежное. И я как бы увидела в темноте клироса сияющий белизной цветок, увидела, какова должна быть чистота, непорочность христианской души. А какова я?
– Тщеславие? Не надо тщеславиться! Чем нам гордиться? Ничего у нас нет, а если и есть что хорошее, так Господь дал. Надо все делать ради Господа. Не надо думать о чужом мнении. Один скажет так, другой иначе… Не надо об этом думать. Какое уж теперь общественное мнение! (Батюшка махнул рукой). Мне хочется, чтобы вы все у меня были чистые сердцем, простые.
– Болтаешь? Нельзя болтать, слышишь, Леля, нельзя, нельзя!
– А какая же мера должна быть в разговоре, Батюшка?
– Какая мера? Говорить только дело!
(В другой раз я жаловалась, что на работе ко мне относятся несерьезно, смеются надо мной, называют по имени. Батюшка посмеялся, погладил меня по голове: «А мы с тобой будем серьезнее, солиднее, не будем болтать, – тогда хоть «Леля» будет, а лучше тех, кого по имени и отчеству величают»).







