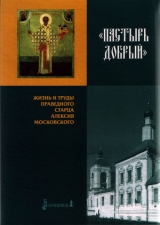
Текст книги "Пастырь Добрый"
Автор книги: Сергей Фомин
Жанры:
Религиоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 45 (всего у книги 57 страниц)
— Ну вот, они будут все собороваться, а мы с вами нет. Нам нельзя, – сказал он. И больше ни слова не было сказано по этому поводу.
И так всегда и потом, батюшка неизменно говорил:
— Ну вот они сегодня будут собороваться. А я ему:
— Да, батюшка, – и только.
Было еще одно великое свойство старца отца Алексея – это его умение и такт в отношении к духовным отцам и тонкое руководство их духовных чад в совершенном согласии с ними. Если батюшка иногда и не соглашался с духовным отцом, он никогда не шел против него, а или подчинялся его повелению, или молитвой своей изменял мысли и чувства его.
Отец Алексей не делал того, что делают многие старцы; пользуясь своим старческим авторитетом, отменяют или изменяют повеления духовных отцов и тем вселяют в души их чад смущение.
Батюшка часто говорил, что ему приходится устранять неправильные отношения между духовными отцами и их чадами. Говорил, насколько это дело трудное и тонкое, сколько можно все же помочь людям, которые, часто по неумению и неправильному пониманию духовной жизни, мучают себя и других.
Батюшка говорил, что ему приходилось, правда, отменять приказания о. Алексея–затворника, так как иногда он накладывал на людей непосильное бремя.
— Но то дело другое: мы друг друга знаем, – говорил он. – Он высокой духовной жизни, – добавил он, строго глядя мне в глаза, чтобы отбить всякую охоту осудить о. Алексея–затворника.
Как–то спрашиваю батюшку – как быть, когда приходят скучные люди и говорят о неинтересных вещах.
— Вот, батюшка, приходит к нам одна из «обобранных» и рассказывает нудно и скучно, как у нее какие–то там стулья пропали или что–то в том же роде. Их таких порядочно наберется. Это очень скучно, батюшка, и люди эти такие безтолковые и скучные. Можно как–нибудь от этого отделаться? Ведь, батюшка, никакой нет в этом ни для них, ни для меня пользы.
Батюшка покачал головой и сказал:
— Нет, Ярмолович, нужно их слушать. Ведь они несчастные.
И лицо его сделалось такое скорбное, точно он сразу переживал горе всех «обобранных» вместе взятых.
— Не все же нам слушать интересное. А вы думаете, что мне всегда интересно слушать, как какая–нибудь женщина, да еще не одна, начнет рассказывать, часто несвязно и неясно про то, что ей лучше, открыть лавку или корову купить? А то спрашивает – продать шубу или нет. И все это приходится выслушивать. Да, приходится заставлять себя слушать. Нужно понуждать себя входить в их интересы, стараться чувствовать, как они чувствуют, думать, как они думают. Таким образом их состояние становится для тебя ясным. Начинаешь их жалеть, а, жалея, любить. Нужно над этим работать. Сначала понуждать себя – трудно и скучно будет. Потом, как только сможешь их пожалеть, так уже легче будет, и скучно уж не будет с ними.
Непременно заставляйте себя выслушивать все до конца, что бы они вам ни говорили. Старайтесь вникать в их горе, в их жизненные неприятности. В это время забывайте совершенно себя и помните только того, кто перед вами. Живо представляйте его положение и как бы вы себя чувствовали на его месте. Старайтесь внимательно относиться к людям. Привыкнуть к этому трудно. Помни: забудь себя и забудь все в себе и живи жизнью всех и каждого. Кто бы к тебе ни пришел, переживай с ним то, что он переживает. Входи в его душу, а себя забудь, совершенно забудь себя.
Я стала стараться терпеливо слушать людей. Сначала было очень трудно, потом постепенно привыкла. Батюшка справлялся, как идет дело, ободрял, и я понемногу приучилась.
Раз прихожу к батюшке за благословением. Он что–то внимательно читал. Меня занимал вопрос, что люди иногда и сами бывают виноваты, а валят все на лукавого. Надо тоже отметить замечательное свойство о. Алексея, что он никогда не говорил о лукавом, как другие духовные люди: враг попутал, враг научил и т. д. Также, несмотря на силу его молитвы, он никогда не отчитывал бесноватых, что мне в нем очень нравилось. Я решила, что по его великой любви ко всем он и бесов жалеет, и не хочет их куда–то там выгонять, просто молится за больную и крепко надеется, что, если Господу будет угодно, Он исцелит ее. Отец Алексей не говорил о «нем» никогда потому, что он просто не хотел знать «его», не хотел иметь с «ним» дело. О. Алексей имел силу над «ним» и мы около него не чувствовали пагубного дыхания духа зла. «Он» боялся силы духа великого старца.
— А что, батюшка, на лукавого напрасно все валят? – спросила я, несмотря на то, что батюшка был очень занят. – Часто сами люди бывают виноваты, а в оправдание себя на «него» валят.
Батюшка, хотя уж снова погрузился в чтение, взглянув на меня, ласково улыбнулся.
— Да, я тоже так думаю. Он бедный часто не виноват. Иногда не по его вине люди делают зло, а его ругают.
Так как батюшке показываться на народе было опасно, он часто служил раннюю. Но и это скрывалось. Мне из–за мужа часто нельзя было попадать на его службы. Для меня это было большим горем, но к нему с этим приставать было нельзя. Бывало стараешься хоть ко кресту поспеть, так как в праздники я избегала тревожить его на квартире. Прихожу раз – последние подходят. Вот уйдет сейчас в алтарь. Бегом подошла, а батюшка мне так ласково протягивает крест и говорит:
— Лентяй, лентяй, Ярмолович! Проспала обедню!
Я обиделась.
— Батюшка, ведь вы знаете, я не могу на ранней быть. Он пристально посмотрел на меня и еще громче сказал:
— Лентяй, одно слово лентяй.
Я опомнилась, крепко поцеловала его руку и встала на свое место. И легче давалась молитва, и день был веселее, когда успеешь так вот получить его благословение.
Бывало, когда батюшке было плохо, он так задыхался, что не мог говорить и молча давал всем крест. И вот подойдешь, а он благословит и только крепко сожмет твою руку. И чувствуешь, что он тебя помнит и поощряет на делание, и сердце сожмется от тоски и предчувствия, что недолго еще будет утешать нас наш великий старец о. Алексей.
Бывало стучишься в батюшкину дверь.
— Можно?
И он всегда весело ответит:
— Не только можно, но и должно!
А иногда просто повелительно скажет:
— Должно!
Все зависело от того душевного настроения, с которым ты к нему приходила. А раз я сделала какой–то небольшой проступок и батюшка ответил:
— Не должно, – но не строгим голосом. Я притворила дверь и говорю:
— И правда, батюшка, не должно. Так–то часто нужно было бы вам отвечать мне. Верно это большей частью не должно.
Он рассмеялся и, когда я покаялась в своем проступке, сейчас же простил.
Всегда, когда входила к батюшке, кланялась ему в ноги со словами:
— Простите, и, если можно, благословите.
Часто, если плохо себя вела, он не благословлял, и только в конце беседы, если увидит должное в тебе настроение (скорбь о соделанном и желание твердое исправиться), сам благословит тебя. Не полагалось уходить самой или в конце беседы просить благословения. Батюшка сам это делал и этим благословением отпускал тебя.
Раз он остановился с поднятой на благословение рукой и спросил:
— Почему «если можно»?
— Я ведь, батюшка, не знаю, стою ли я вашего благословения. Может мое поведение и не стоит этого.
Он довольно улыбнулся, пронзил меня взглядом так, что я почувствовала, что он душу мою как на ладони видит, и сказал торжественно:
— Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа.
С тех пор всегда батюшка долго смотрел мне в глаза и только потом благословлял. Страшно делалось: а вдруг увидит что и лишит его. Батюшка «просто» никогда не благословлял. Его благословение имело всегда свое значение. Он всегда благословлял на что–нибудь: или на дело, или на известное душевное настроение, или на борьбу с искушением, или на самую твою, подчас трудную, жизнь. Трудную от твоих же грехов, трудную от твоего же нерадения. И всегда принималось благословение старца о. Алексея, как нечто очень святое и чувствовалось всегда, что он действительно низводит на тебя с неба Божию благодать, которая и должна была тебе помочь вовремя.
Итак, первый раз я пришла к батюшке осенью, в продолжение зимы все чаще и чаще ходила к нему. Все больше и больше привыкала к нему, а он постепенно приучал меня к откровениям, обязанностям к ближнему и молитве. Я чувствовала, что без батюшки не могу обойтись, не могу жить. Что все, что мне нужно, можно получить от него и получаю. Считала его своим старцем, но все же все еще не признавала его воли над собой, как и власти о. Константина. Все же иногда пыталась с батюшкой спорить, не соглашалась, сердилась, обижалась, хотя он все это пресекал в самом начале. Я еще слабо понимала послушание и совершенное подчинение своей воли воле другого, да еще добровольное. Во мне иногда вспыхивало чувство, что я ведь не раба, я свободна делать, что хочу. И жизнь–то духовную веду потому, что сама захотела этого.
Бывало часто каешься батюшке: я рассердилась на Него, Он меня не слушает. (Я называла Бога «Он» всегда).
— На кого на Него?
— На Бога, батюшка.
А батюшка, не сердясь и не удивляясь нисколько, так покойно ответит:
— Нет, нет, голубушка, на Него нельзя сердиться. Сердись на меня. Сколько хочешь сердись на меня и ругай меня – на то я здесь.
И станет стыдно, так стыдно и в другой раз сдержишься. А иной раз каешься:
— Батюшка, простите, я очень сердилась на о. Константина. Он какой–то чудной: ничего не понимает, что ему говорят.
— Нет, нет, – вскинется батюшка на тебя, – этого никак нельзя делать. На о. Константина, Боже упаси, сердиться. Это он так что–нибудь. Он у вас такой добрый, такой хороший. Говорят тебе, на меня сердись и меня ругай, сколько хочешь, а Господа Бога, святых Его, о. Константина – оставь, не трогай никогда. Слышишь? Ни–ког–да! Этого делать нельзя.
А то придешь и каешься:
— Батюшка, простите, я на вас сердилась. Вот вы мне велели то–то и то–то, а у меня не выходит.
Он усмехнется и скажет бывало:
— Вот это хорошо, Ярмолович, что на меня сердишься, – и только на меня. Так и дальше делай. Мне это ничего. Я все могу снести.
— Батюшка, я ужасная дура, больше не буду никогда! – ответишь в смущении.
— Ярмолович ты и больше ничего, – весело скажет он и благословит.
Так, постепенно приучаясь к старческому и духовному руководству, проходила для меня зима. Нельзя было сказать, чтобы я успевала в духовной жизни. Желания было много, старания мало, казалось все трудным, хотя многое мне было в утешение.
Прошел Великий пост и приблизительно исполнилось года полтора, как я в первый раз бросилась к ногам о. Константина, прося его научить меня тому, о чем говорит преподобный Серафим в своей беседе с Мотовиловым.
Прихожу на исповедь к о. Константину и что–то говорю ему о радостях духовной жизни, о моей готовности служить Спасителю даже в скорбях. Он как–то особенно начал говорить:
— Теперь настало время и я действительно вижу, что вы отдались Спасителю и пойдете за Ним. Назад вы уже не смотрите. Я теперь согласен принять вас и с Божьей помощью объяснить вам все, что будет нужно. Но помните, жизнь эта очень трудная. Как тогда, так и теперь говорю вам, что вас, по выражению Св. Отцов, будут тянуть за ноги с неба, что очищение души и приближение ее к Богу делается здесь, вот в этой самой будничной, серой жизни. Оно сопряжено со многими скорбями и трудностями. Не думайте, чтобы я стал объяснять вам красоту духовной жизни и как достичь Царства Небесного. Я буду объяснять вам, как жить с людьми, с которыми нас Господь поставил. Помните, жизнь трудная и возврата вам уже более нет. Согласны на все?
— Согласна, батюшка, – с радостью, ни о чем не думая, проговорила я, – на все согласна, только учите, чтобы поскорее все это выходило. Вы вольны надо мной делать все, что вам вздумается – я буду все терпеть.
— Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Господь да сохранит и управит вас, да поможет вам во всем.
Я, как никогда, почувствовала святость его благословения. Совершилась какая–то тайна, непонятная для меня. И великое значение его слов я тогда тоже не поняла. Мне было весело, потому что что–то хорошее случилось: о. Константин согласился учить меня хорошей жизни и как бы брал меня к себе, я была горда: я получила какой–то чин, в чем–то меня признали. Это был мой второй самостоятельный и полусознательный поступок в моей духовной жизни и, как и предыдущий, но еще сильнее, начался со всевозможных искушений внешних и внутренних.
Вначале я старалась, боролась. Батюшке тогда про себя мало что говорила. Потом все мне стало надоедать. Пост, молитва дома, покаяние в церкви, дела дома – от всего этого очень уставала. Нужно было повсюду поспевать, всегда спешить, напрягать все силы, а утешения никакого. Книжки казались скучными. Небо все куда–то ушло. Муж все время был расстроен и ничем не доволен. И вот, как–то проснувшись утром, я решила, что я ошиблась, что это не та жизнь, которая может мне все дать. Что–то такое здесь есть, чего я не могу осилить и что мне не дается. Что нужно бросить всю эту ерунду и искать чего–нибудь другого, что я бы понимала и что мне удавалось бы. Батюшку и о. Константина признать за хороших знакомых, ходить к ним в гости иногда и искать пути самой, никого не спрашивая, потому что это очень скучно. Перестала следить за собой, ходить на откровения, пропустила исповедь, так как, думаю, не стоит и причащаться, пока не найду чего–нибудь хорошего. Стала избегать о. Константина.
Особенно трогательно говорил о. Константин в своей проповеди о главном украшении Божьей Матери, о Ее смирении и послушании. Он так хорошо говорил о Ее жизни в храме, о Ее преданности и любви к Богу, о Ее радостях, о Ее скорби при кресте Сына Своего. Что–то повернулось у меня в душе. Небо стало близким и звало меня. Я почувствовала, что стою на краю пропасти, готовой поглотить меня. Я еще сильнее заплакала. Кто–то, чудилось мне, говорил, что жизнь настоящая все так же около меня, и я в ней, и другого пути нет и не может быть. Горячо начала просить прощения у Бога и помощи у Божьей Матери. Как быть теперь? Мне было стыдно церкви, стыдно о. Константина. После обедни подошла к нему. Он удивленно спросил, где я стояла, пристально посмотрел на меня, но ничего не сказал. Пошли к нему чай пить. Мука была сидеть и молчать. На другой день полетела к нему, все рассказала, просила прощения. Все спрашивала у него, не сердится ли он на меня. Он очень внимательно и серьезно выслушал меня и просто сказал:
— Нисколько не сержусь. Было и прошло. Это было искушение. Кто–то хочет оттянуть вас от того пути, который вы избрали. Надо стараться, чтобы это не повторилось.
Он показался мне грустным, но по своей нечуткости я не поняла, что было в душе его в это время, и не знала, как отцы духовные заботятся о своих чадах и как боятся за их души.
С о. Константином все уладилось просто, но сознание проступка и очень большого не покидало меня и не давало мне покоя. На исповеди каялась опять, просила прощения и опять о. Константин уверял меня, что нисколько не сердится на меня.
Подошла Страстная. Чувство моего падения не оставляло меня. С ужасом и страхом думала: «Как пойду я к Плащанице, к Тому, от Которого отреклась». И вдруг почувствовала, что не будет покоя душе моей, пока не покаюсь перед батюшкой и он мне перед Богом не замолит моего греха.
Я считала проступок мой большим, но не таким уж ужасным, раз о. Константин легко простил его. Написала письмо, в котором вкратце объяснила, в чем дело. Особенного покаяния и сожаления о соделанном не было. Кончалось оно так: «О. Константин давно простил, простите и вы, батюшка, пожалуйста. Больше никогда не буду».
В пятницу отнесла письмо на квартиру к батюшке и просила, чтобы он непременно сегодня же его прочел. Думала: я иду исповедываться, а он будет молиться за меня Богу. И вдруг сделалось страшно, что теперь все будет известно ему. Опять каялась о. Константину. Сердце разрывалось от тоски. Я чувствовала, что оскорбила Господа моего, Которому так недавно обещалась служить. О. Константин утешал меня, говорил, что давно простил меня, что я должна встретить Пасху спокойно.
И вот я начала с Плащаницы в его храме и стала заходить во все церкви, попадавшиеся мне по дороге на Маросейку, и молилась с горючими слезами в каждой из них Плащанице, чтобы Господь простил меня.
Вхожу в батюшкину церковь. У двери стоит молодой человек и рыдает так, как я никогда не видала, чтобы человек мог плакать. Он уже исповедывался и о чем–то молился и каялся. Дальше стоит женщина с удивленным лицом, озаренным светом молитвы. Из глаз ее, полных слез, исходили лучи света и она вся, казалось, ушла в небо. Народа много и страшная тишина. Все и вся было полно молитвы. Многие стояли на коленях в ожидании исповеди и со слезами молились. Чувствовалось, что совершается нечто великое: перед умершим Богом старец о. Алексей принимал покаяние человеческих душ и, принимая Трехи, сорастворял их своею молитвою и любовью и отсылал их Небесному Отцу с просьбой: прости им, Господи, ибо не ведают, что творят. Меня охватила эта царившая здесь благость и тишина. Служба кончилась. Какая–то женщина с такой спокойной верой молилась и плакала перед Плащаницей. Я встала около нее на колени. Все поразило меня здесь. Старец о. Алексей совершал свое великое дело: раскрывал язвы душевные, врачевал души людские и приводил их к Богу. Действительно, весь этот народ каялся и молился Богу.
Душа моя разрывалась от тоски и боли. Думаю, если батюшка сейчас выйдет со своего места и пойдет исповедывать в алтарь, то я брошусь перед ним на колени и покаюсь во всем и буду умолять его заступничества перед Господом. Я готова была на все, лишь бы искупить свой грех.
Вскоре батюшка пошел в алтарь кого–то исповедывать и очень скоро вышел оттуда, дошел до решетки и в упор посмотрел на меня. Лицо его было озарено молитвой, а в глазах была тихая скорбь. Душа рванулась к нему, но тело окаменело – я не могла двинуться с места. Батюшка еще раз взглянул с укором на меня и, опустив голову, тихо прошел на свое место. Я вскочила, но было поздно, он скрылся. Зарыдав, бросилась я перед образом св. Николая и мысленно, лежа на полу, передала батюшке все, что было у меня на душе, прося его ходатайства за меня перед Богом. Встала и пошла, не переставая горько плакать. Народ говорил:
— Бедная, наверное у нее большое горе, – а другие: – Нет, это «сам» не простил ее.
От этих слов мне сделалось еще горше и я в отчаяньи поплелась домой.
Службы, дом, люди, самый праздник – все это отвлекло меня. Я успокоилась, ходила повсюду, но, когда думала о батюшке, что–то сосало в груди.
Прошло время праздника. Нужно было мне идти по делу к батюшке. Думала: о. Константин уж давно простил, а батюшка–то уж, наверное, не помнит – он добрый. Да и где же ему всякую нашу глупость помнить. Сделала и сделала, давно все прошло; ничего особенного в этом нет, со всяким может случиться.
Взошла к батюшке и села в ожидании. Долго он не шел. Наконец входит. Я, как всегда, земной поклон:
— Простите, и если можно, благословите, батюшка. Простите, что не поздравила вас с праздником. Очень некогда было.
Он стоял, опустив глаза. Весь его вид был какого–то чужого священника.
— Здравствуйте, – сказал он любезно, но сухо, – что вам угодно? – тоном, точно я была чужая дама, и именно «дама», которая в первый раз пришла по делу. Я от ужаса обомлела, холодный пот выступил на лбу. Я не понимала, почему батюшка так делает, но чувствовала очень хорошо, что передо мной чужой мне священник, которому и я совсем–совсем чужая.
Батюшка сел и, не поднимая глаз, спросил:
— Итак, чем могу быть вам полезен? Садитесь, пожалуйста.
Я изложила свое дело, запинаясь и путаясь. Одна «душа» просила батюшку принять ее. Надо было пояснить ему кое–что о ее деле. Он сидел как изваяние и холодно слушал, иногда спрашивая подробности. Потом назначил время, когда ей придти. Наступило молчание.
— Больше ничего? – спросил он все так же.
За все это время у меня жизнь не клеилась, как–то все из рук валилось. Появилась небрежность к своим обязанностям. На душе было невесело. Пошевельнулось объясниться с батюшкой насчет письма и той пятницы у Плащаницы, но почему–то вместо этого я с раздражением вдруг выпалила:
— А еще вот: мне очень трудно жить. Мне это надоело! (духовная жизнь). Потом было отчаянье от батюшкиного приема.
Батюшка мгновенно изменился: лицо ожило, он с гневом посмотрел на меня, вскочил и подошел к столу.
— Александра, вы на свою жизнь жалуетесь, тяжелая? А у меня жизнь не тяжелая? Разве у всех тех людей, которых вы видите, жизнь не тяжелая? Скажите, пожалуйста, у нее жизнь тяжелая! Что же мне с вами, наконец, делать? Не придумаю.
Батюшка схватил и раскрыл книгу, точно в ней он искал ответа; потом отбросил от себя и сел против меня.
— А у о. Константина жизнь не тяжелая? – с гневом сказал батюшка, наклонившись совсем близко ко мне. – Выходит, что у нее одной только жизнь тяжелая!
Я боялась пошевельнуться и смотреть на него. Мне думалось, что он меня вот сейчас убьет. Я совершенно серьезно не думала, что смогу живой выйти от него.
Мне нужно было теперь во что бы то ни стало добиться у батюшки прощения, а потом – хоть смерть. Я молчала.
— Я вас спрашиваю, слышите или нет, у о. Константина жизнь не тяжелая по–вашему?
— Ему, батюшка, очень трудно жить: семья большая, А. П. часто больна, – еле проговорила я.
— Не в том дело, у него все они очень хорошие. Ему тяжело служить: много неприятностей, а тут еще такая духовная дочь, как вот эта!
— Батюшка, простите, простите, пожалуйста, я больше не буду никогда!
— Не батюшка простите, а как вы могли такой поступок сделать? Очевидно, никто никогда не говорил вам об этом. Вы думаете со мной отделаться так же легко, как с о. Константином? Я вам не о. Константин!
— Я недавно служил там около вас. А. П., о. Константин и еще там одна была и моя С… а, и все исповедывались и причащались. И так было хорошо, – с лаской сказал батюшка. – А вас там не было.
— Я, батюшка, в деревне была.
— Знаю, – оборвал он. – Какой о. Константин хороший, какой он добрый, как жалеет каждого, все прощает, не показывает, что он чувствует, только бы не расстроить человека. Я его спрашиваю: есть у вас такая духовная дочь? (своим проступком я ушла от о. Константина, хотя внешне как будто оставалось то же). – Есть. – А какая она? – Хорошая. – Он так и сказал про вас: хорошая! Я за вас покраснел и потом не смел ему от стыда в глаза смотреть. Хорошая! Действительно, вас–то назвать хорошей! Вас, такую! – с презрением сказал батюшка. – Вас, которая так мучает его. А ему–то как тяжело живется, очень тяжело. И никогда не жалуется.
Удивительно, как батюшка часто чувствовал, что о. Константину тяжело. Бывало так скажет, и правда, окажется потом, что в это время ему бывало очень тяжело.
— А как он за эту самую «хорошую» – то молится! За вас так молиться! За такую? А как он молится сам–то! – с восхищением проговорил батюшка.
— Мне было всегда прискорбно, что за моего Ваню о. Константин всегда соглашался молиться, а за меня – всегда отмалчивался. Меня страшно тронули и утешили батюшкины слова. Батюшка видел его душу, батюшка ошибиться не мог. Я горько заплакала.
— Вот вы плачете, а небось не плакала, когда собиралась уходить от него? Она уходит от такого? Не плакала, когда мучила его? Знаете ли вы, как вы расстроили его душу вашим поступком? Знаете ли вы, что он пережил от вашего поведения?
Я не знала, куда деваться от стыда. Пот градом лил с меня, я не выдержала и взмолилась:
— Батюшка, родной, дорогой, пожалейте! Делайте со мной, что хотите, только не говорите так!
— А… не говорите! – не унимался батюшка. – Совершить преступление можно, а слушать, когда говорят о нем, нельзя. Конечно, где же нам! Нас нужно пожалеть, несчастную! У нас тяжелая очень жизнь! Нет, я вам не о. Константин! Он с вами никогда так не говорил. Еще бы, он вас жалеет, щадит вас. Я не он. Нужно, чтобы хоть кто–нибудь вам сказал, что вы наделали. Объяснил бы вам все это. Нельзя щадить и жалеть того, кто другого не жалеет. Нет! Вы здесь, на этом месте, будете слушать меня до тех пор, пока я не решу, что довольно. Ничего, выслушаете!
Батюшка показал мне всю высоту души и жизни о. Константина и грязь моей души, всю низость и скверность моего поведения в данном случае и вообще. Отец мой духовный все мне дает, а я ему – ничего. Он во мне не видит ничего, на чем бы можно было утешиться: ни послушания, ни кротости, ни терпения, ни смирения во мне нет. А без этого, что можно ожидать от человека, кроме самого плохого?
Я стала чувствовать, что я своим поведением мучаю святого и что я хуже грязи. Батюшка говорил, что всякому хорошему человеку противно иметь дело со мной, что я давно погибла бы, если бы не молитвы о. Константина. Только ими и держусь.
Батюшка не находил слов описать мне то место ада, где бы я находилась без отца Константина. И батюшка снова в жалостливых словах описал мне состояние духовного отца, заботившегося о спасении взятой им души, находящейся на краю гибели.
— Да знаете ли вы, что такое духовный отец и как вы должны относиться к нему?
И батюшка стал объяснять мне, что такое послушание, что значит отдать свою волю другому и кем является в духовной жизни руководитель и духовный отец.
Он говорил сильно, резко и сурово. Каждое его слово бичом отзывалось в душе моей. Старец о. Алексей внушал мне основы духовной жизни, раскрывая их трудности, и требовал от меня без милосердия точного исполнения их, без всякого отступления. Он говорил, что духовный отец есть как бы ангел, посланный с неба возвещать человеку повеления Божьи. Что слова его должны приниматься с трепетом, как слова Самого Господа. Каждый шаг, каждое движение души должно быть известно ему. На все, на самое малейшее дело должно спрашивать благословения у него. Дохнуть без его разрешения нельзя. От него не должно ожидать себе ни утешения, ни ласки. Просить, когда нужно, чтобы принял, а если не примет сразу (а может и не принять, сколько раз найдет нужным), просить со смирением еще и еще. Если примет на пороге, быть и этим довольной, а если выслушает и допустит до себя, то быть этим счастливой, как получившей великую от него милость. В откровениях ничего не утаивать, себя не оправдывать. Как ни стараться хорошо жить, всегда считать себя виноватой перед ним. Спрашивать его о чем–нибудь надо так: если можно, разрешите и благословите. Спрашивать раз. Если откажет, второй раз не приставать, так как если разрешит при вторичной просьбе, благословение его уже будет недействительным, как вынужденное, и это спрашивающему вменится грехом непослушания. Нужно, если получаешь отказ на первую просьбу, ответить: простите и благословите. Простите, что недолжное, значит, спрашиваю у вас, и благословите на повеленное вами. Начинать говорить только, когда он первый начнет. Подходить только, когда он позовет сам. Не дожидаться, когда он что–нибудь велит сделать, а угадывать желания его. Слушаться его безпрекословно и с радостью, не спрашивая зачем и почему. Ни воли, ни желаний, ни мыслей своих не иметь. Сегодня скажет одно – соглашаться с ним, завтра скажет другое – соглашаться и с этим. Сегодня скажет сделать одно, завтра противоположное заставит сделать – в обоих случаях безпрекословно слушаться его. Он имеет власть послать на смерть и нельзя спрашивать зачем.
Отец духовный – всё для души, идущей ко Христу, душа же эта – ничего перед ним.
— Поймите же вы, что это неизреченная милость Божия к вам, что о. Константин согласился взять вас. А вы так поступили с ним! Понимаете ли вы теперь, что требуется от вас?
— Понимаю, батюшка, больше никогда не буду.
— Помни же, что ты ничто, хуже, чем ничто! Ты хуже грязной тряпки, которой пол подтирают! Поняла? И чувствовать это должна! Ты должны быть, как тряпка, которую можно комкать и бросать, как угодно. Он может делать с вами, что хочет, он может убить вас. Без его молитвы и помощи вы шагу не можете ступить! Поняла, что наделала?
— Поняла, батюшка, простите!
— Поняла, что нужно делать?
— Поняла батюшка, простите!
— Ну, идите. О. Константин вам небось никогда не говорил таких вещей. А я–то как был рад, что вы попали к нему! Так за вас радовался! А теперь… – и батюшка тяжело вздохнул и с укором посмотрел на меня. – Я ж буду просить Его, чтобы Он простил вас, – добавил он.
И потом часто батюшка говорил так, и я не могла понять – кого «Его», и только когда я давала батюшке обет послушания, я поняла, что назвал Его – Бога, и что это был ответ на мое слезное прошение к Нему тогда, в Страстную пятницу.
— Сейчас идите и вымаливайте себе прощение у о. Константина, если только он простит вас, – сказал батюшка.
— Да ведь он меня, батюшка, простил. Глаза его мгновенно сверкнули:
— Мало вам?
Молча повалилась я ему в ноги и вышла, не смея просить ни прощения, ни благословения.
Взошла я к батюшке, чувствуя, что я что–то, у меня еще было свое «я», вышла же я от старца о. Алексея с сознанием, что я ничто, и в недоумении, как ко мне, такой грязной, будут относиться люди. У меня было ясное чувство, что надо мной о. Константин, который мог убить меня, и о. Алексей, который мог сделать со мной все, что хочет. Скажи он мне в огонь броситься, я, не задумываясь, исполнила бы. Я чувствовала, что двигаюсь, живу, дышу не по своей воле, а по воле о. Алексея, и как только он найдет это нужным, я, где бы то ни было, перестану существовать.
Прихожу к о. Константину, валюсь ему в ноги и все рассказываю. Он крепко задумался, потом благословил меня и сказал:
— Бог простит. Скажите батюшке о. Алексею, что я давно вас простил, давно.
Все время я была под впечатлением батюшкиного гнева и глубокое чувство вины моей томило меня.
Вскоре прихожу к батюшке. Молча повалилась ему в ноги. Он не благословил и только спросил:
— Ну что?
Я передала слова о. Константина.
— Какой он у вас! Ах, какой он у вас! И с таким вы могли так поступить!
И снова он начал выговаривать мне мое поведение. От тоски у меня защемило сердце.
О. Алексей сел в постели и темными–темными своими глазами приковал меня к месту. Я стояла перед ним на коленях и прямо смотрела ему в глаза. Я чувствовала, что ни одним членом не могу пошевельнуться и что даже мыслей у меня нет.
— Как должна слушаться отца твоего духовного?







