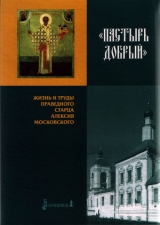
Текст книги "Пастырь Добрый"
Автор книги: Сергей Фомин
Жанры:
Религиоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 33 (всего у книги 57 страниц)
***
Я в молодости была очень доверчива и, как говорили, наивна. Я очень любила монашествующих. Однажды наши сестры захотели надо мною подшутить и вот в конце всенощной приходят за мной и говорят (а день был просфорный): «Манюшка, скорее, скорее иди к Лидии Александровне. К ней из Петрограда приехала схимница из обители о. Иоанна Кронштадского. Она очень хочет тебя видеть и поговорить с тобой». Кончилась служба, и я стрелой помчалась к Лидии Александровне и прямо с ходу бросилась перед схимницей на колени, чтобы принять от нее благословение. Она сидела на Зининой постели, одетая в монашескую одежду – мантию и клобук. У Зины постель была высокая (сундук) и схимница не сразу показалась высокой, но ноги у нее почему–то до полу не доставали. И вдруг она, к моему удивлению, меня почему–то не благословляет, руки–то с места не двигает, а стала быстро валиться на бок. Как быстро я к ней подбежала под благословение, так я, вскрикнула от испуга «ой!», быстро попятилась задом и прямо уселась в кадку с тестом, провалилась и ноги вверх. Что тут было смеху! Схимница моя валялась на подушке у Зины, заливалась смехом, а меня со смехом никак не могли вытащить из кадки. Наконец вытащили и долго не могли перестать смеяться.
Кто же была эта мнимая схимница? Это была одна из просфорниц – Евдокия Васильевна Бумагина, которую одели в одежду о. Саввы [218]218
Иеромонах Савва (Сергей Евстратович Борисов, 1871 – 31.10/13.11.1937) – из вдовых крестьян деревни Толсиково (по др. документам Толстиково) Новоторжской волости Тверской губернии. Насельник Саввино–Сторожевского монастыря под Звенигородом. Монашеский постриг принял на подворье Саввино–Сторожевского монастыря в Москве (25.3.1906). Духовник обители (авг.1916). Во время изъятия мощей прп. Саввы Сторожевского (весна 1919) сыграл особую роль. «Духовник иеромонах Савва, – доносил наместник игумен Иона (Фиргуф) (См. о нем.: Фомин С. Игумен Иона // Саввинское слово. Газета Саввино–Сторожевского ставропигиального монастыря. 2000. №№ 2—4.) викарному епископу Димитрию (Добросердову), – передавал мне, что когда я в облачении внес св. мощи в алтарь и (затем) был вызван для присутствия при осмотре раки, один из членов съезда [депутатов Звенигородского уездного совета] (в алтаре) …около пяти раз плюнул на голову Преподобного. Некоторые другие члены съезда вели себя крайне неблаговидно в алтаре, изрыгая ужасные кощунства и касаясь святого престола…» Арестован на родине в Новоторжской обл. (14.8.1919). Приведен на допрос (21 авг.) и отправлен в тюрьму. Попытки оклеветать его путем поддельных «показаний» наместника и старшей братии обители провалились. Несмотря на угрозы безбожников, нашел в себе мужество подтвердить кощунство, совершенное в монастыре 4/17 марта. Подтверждал это и позднее, даже ходатайствуя об освобождении! Постановлением Московского революционного трибунала приговорен к 10 годам тюрьмы (16.1.1920), по амнистии (5.11.1919) тут же сокращенным до трех лет. Освобожден (24.3.1921) под подписку о невыезде. Вскоре после освобождения, еще при о. Алексии пришел в храм Свт. Николая, где состоял в штате. Рекомендовал его туда его друг иеромонах Феодосий – лаврский инок, служивший в часовне прп. Сергия у Ильинских ворот в Москве. О. Савва служил на Маросейке и при о. Сергии. Вместе с последним и другими священниками с Маросейки отпевал в 1928 г. прп. Нектария Оптинского в с. Холмищи. С о. Сергием Мечевым и о. Константином Ровинским, О. А. Остолоповой и несколькими маросейскими братиями, среди которых был и будущий епископ Можайский Стефан (Никитин, 15.9.1895 – 15.4.1963), арестован (29.10.1929). Выслан на север. Вновь арестован в Малоярославце (1937). По ст.58—10 и 11 УК РСФСР приговорен к расстрелу (29.10/11.11.1937). Расстрелян.
[Закрыть] и посадили в передний угол на Зинину постель. А мне и в голову не пришло, как же эта схимница сидит в полном монашеском облачении и с дороги села в передний угол. Утром после Литургии пришла и все рассказала Батюшке. Он смеялся, точно Ангел, и сказал: «Ну, уж я их побраню. Ишь какие озорницы! Ну, а тесто–то от тебя очистили?» – «Да нет, Батюшка, оно было покрыто и еле–еле подходило». Батюшка заливался смехом и я с ним. «Ну уж ты на них не сердись», – с улыбкой сказал Батюшка. – «Да нет, Батюшка, мне самой–то потом смешно было. Я вначале испугалась не кадки, а этой мнимой схимницы». Батюшка похлопал меня по щекам и сказал: «Ну, беги, моя баловница, пеки просфоры. Ты ведь у меня главный пекарь. Только потихоньку беги, в кадку опять не упади». – «Нет, нет, Батюшка, я потихоньку». А сама снова помчалась со всех ног. Слышу сзади голос Батюшки: «Тихо, тихо, Манюшка, а то упадешь». И этот голос нежный, точно материнский, голос матери, которая предупреждает младенца, чтобы не упал. Вот сколько любви и нежности было в нашем старце, Батюшке о. Алексее.
***
Спросила я раз Батюшку: «Объясните мне, пожалуйста, в Евангелии сказано: где труп, там соберутся и орлы». – «Орлы – это Ангелы. Наступит такое время, что люди не смогут совершить таинство отпевания и трупы будут лежать, а Ангелы приступят и совершат все». – «А кто же такая царица южская, которая восстанет на суд с родом сим и осудит?» – «Я с ней не знаком, Манюшка».
***
«Батюшка, молитва Иисусова у меня что–то плохо идет». – «Ну, а ты пойди в Ивановский монастырь к матери Марии, скажи, что я тебя прислал, чтобы она научила тебя молитве Иисусовой». А мать Мария была Батюшкина духовная дочь. Монахини из Ивановского монастыря [219]219
Ивановский 2–го класса общежительный женский монастырь на Ивановской горке – основан в XV в.; в современном виде весь выстроен в 1861—1878 гг. К 1917 г. в обители было два храма: собор Усекновения главы Иоанна Предтечи (с приделами Казанской иконы Божией Матери и Свт. Николая) и церковь прав. Елисаветы. При монастыре была иконописная школа для сестер и ясли для детей. На 1907 г. при одной игумении насчитывалось 20 монахинь и 260 рясофорных послушниц и проживающих на испытании. Монастырь был закрыт в 1918 г. и превращен в концлагерь.
[Закрыть] ходили к Батюшке и были его духовными дочерьми. И сама игумения часто бывала у Батюшки со своими скорбями и назидалась у него. Однажды она при мне говорит Батюшке: «Батюшка, вот этого бы ангела (указывает на меня) я с удовольствием взяла бы к себе и всему обучила бы». Батюшка улыбнулся и сказал: «Ангела–то возьми, а Манюшку я тебе не дам. И самой–то тебя там скоро не будет, куда ж Манюшку–то денешь? Боюсь только испортишь мне ее, а она у меня еще маленькая». – «Да, дорогой Батюшка, – ответила смиренно старица, – очень трудно управлять монастырем». – «А еще труднее – душами», – прибавил Батюшка. – «А ведь за всех вверенных тебе будешь отвечать Богу. Вот возьми ее (указывая на меня), приходит со слезами и говорит: надоело молиться, надоело каяться, хочу в кино, ну что ты тут с ней будешь? А Богу–то ведь будешь отвечать, вот и понянчайся с такой душой. А ведь прекрасная душа, Божие создание! Ну что ты с ней тут будешь делать в таком случае?» – спросил Батюшка. – «Конечно, Батюшка, если бы стала настаивать, отпустила бы!» – «Вот вы все такие игумении! Отпустила бы, а куда? В омут? И погибла бы душа. А ведь Господь эту душу вручил тебе, и она не сама пришла в монастырь, ее Господь, Матерь Божия, Иоанн Креститель призвал, а вы, игумении, отпустили бы, не поняв, что это сильное искушение и не помогли, а отпустить бы легче всего. Ишь как вы легко смотрите на спасение душ человеческих, которых вручает вам Господь». Я со страхом слушала этот строгий и внушительный разговор Батюшки с матушкой игуменией и громко воскликнула: «Нет–нет, Батюшка дорогой, я уж теперь давно вас послушалась и ни к кому не пойду и вас не оставлю!» – «Но ведь ты у меня умница», – похлопал меня по щекам Батюшка. – «Ну, а к матушке Марии поди, и скажи ей, что я тебя послал». И я убежала, а игумения осталась у Батюшки.
Прихожу в монастырь к матушке и говорю: «Матушка, меня послал к вам Батюшка, чтобы вы научили меня молитве Иисусовой». Матушка выслушала меня, ничего не ответила и начала поить меня чаем. И разговор завела совсем отвлеченный, и все приговаривает и приголубливает меня: «Милый ребенок, хорошая моя девочка, как хорошо ты поешь, как хорошо ты управляешь своим хором, не как наша регентша мать Минодора. И она–то, и я, и другие ходим специально на тебя посмотреть и поучиться. Ведь мы все Ивановские ходим к Батюшке и умиляемся тобой. Ведь ты Батюшкина дочка, мы–то чужие, но все равно он нас любит и мы у него исповедуемся». – «Ну, а что же, раз исповедуетесь, то и Батюшкины». – «Это–то верно, но у нас матушка игумения, она очень строгая и не всегда к нему нас отпускает, а я потихоньку убегаю, и достается же мне!»
И тут она начала все рассказывать, какие в монастыре скорби. Говорит: «Вот матушка игумения меня благословила с одной монахиней шить одеяла. Ну и скорби же я от нее несу. Нашью много, вдруг кричит: «Такая–сякая, пори все, что тут нашила». Начну пороть, еще сильнее кричит: «Все испортила и что мне с тобой делать! Вон иди!» А сама все кричит и кричит и ругает по всякому! Кончится день, так она заставит меня ночью работать. Плачу, кричу: «Дорогой Батюшка, заступись, помоги!» А один раз и побила, а жаловаться я не смею, так как про меня матушка игумении всего наговорили, наклеветали. И вот, дорогая моя девочка, придешь к Батюшке, все ему расскажи».
Жалко мне было мать Марию. «А молитву Иисусову когда же вы читаете?» – «Она у меня сбоку висит» (указывая на четки, которые висели на поясе). И так, провожая меня, она многое поведала мне о своих скорбях.
Прихожу к Батюшке: «Ну как, Манюшка, мать Мария–то научила тебя Иисусовой молитве?» – спрашивает Батюшка. «Да нет, дорогой Батюшка, некогда было. Ее захватили скорби и она вместо молитвы мне велела вам все точь–в–точь передать о скорбях. И даже били ее!» – «Да ну, – воскликнул Батюшка, – ну, садись, садись и все расскажи мне». Я все подробно рассказала Батюшке о ее жизни и о послушании, которые она несет и про злую монахиню. Батюшка все выслушал и сказал:
– Ну вот, Манюшка, поняла теперь, как дается молитва Иисусова: «Отдай кровь и приими дух». Видела ее смирение, видела ее послушание, видела ее скорби и болезни, а утешения–то нет кроме о. Алексея, и то когда пустят. Поняла?
– Батюшка дорогой, – взмолилась я к нему, – я больше так капризничать не буду, я буду слушаться вас и в монастырь не пойду, боюсь злых монахинь.
– Не будешь проситься к маме, в кино?
– Нет, нет, больше не буду!
– Ну вот поняла, как дается молитва Иисусова: принимать скорби, смириться до зела, как Христос Спаситель, понести иго Христово, и тогда дается тебе молитва Иисусова. А сейчас вот читай и читай, как я тебе сказал. А творят молитву Иисусову только подвижники, как преп. Серафим. Теперь поняла, как дается молитва Иисусова? Чтобы полюбить Господа всем сердцем и всею душою и крепостию, и ближнего своего как самого себя, надо принять скорби от ближнего, укоризны, взять его в свое сердце и отбросить эгоизм. Смириться надо до зела пред всеми, считать себя хуже всех и даже хуже всякой твари! Поняла, Манюшка?
Я слушала с большим вниманием и говорю: «Поняла, дорогой Батюшка, поняла, только у меня ничего не выйдет, я очень горячая и гордая, как вы говорите». – «Ну, сейчас не выйдет, ты еще у меня младенец, но надо учиться, просить Матерь Божию, чтобы Она помогла не быть гордой, – и о. Алексей помолится. – Только я тебя набаловал, Манюшка, никому об этом не говори». – «Батюшка, а мне все так и говорят: «Манюшка капризная, Батюшка ее избаловал».
***
«Батюшка, как мне с хором быть–то, ведь меня не слушаются. А хор тогда поет хорошо, когда есть дисциплина. А то все закроются косынками, а которые глаза вверх заведут. Ну я тоже буду так, скажу им. А не слушаются, возьму да и убегу». – «Ну вот, Манюшка, здесь и требуется от тебя терпение, смирение и ласковое слово к тому, кто тебя не слушается. Вот когда ты не слушаешься, разве я от тебя бегу или на тебя кричу?» – «Нет». – «Ну так вот и ты поступай». – «Батюшка, вы старенький…» – «И то не слушаешься меня», – перебил Батюшка. «А я то девчонка», – со скорбью скажу ему. «А ты никуда не убегай, а беги ко мне, а я знаю, что кому сказать. Поняла меня?» – «Поняла, поняла, дорогой Батюшка». Вот сколько терпения надо было нашему Батюшке с каждой из нас, и как он, дорогой, воспитывал наши души и следил с высоты духовной точно небопарный орел.
***
Как–то раз собралась группа сестер в Зосимову пустынь [220]220
Смоленская Зосимова пустынь в Александровском уезде Владимирской губернии – основана в конце XVII в., несколько раз упразднялась и вновь восстанавливалась, с 1867 г. приписана к Троице–Сергиевой Лавре, но окончательное и устойчивое существование получила в конце XIX в. В 1920 г. Зосимову пустынь превратили в сельхозартель, а в 1923 г. – закрыли (последняя Литургия была отслужена 5.5.1923 – на след. день после Вознесения). Начало возрождению обители положило письмо иеромонаха Троице–Сергиевой Лавры Филадельфа (Боголюбова), в схиме Моисея, епископу Владимирскому Евлогию с просьбой об открытии пустыни, написанное 15.3.1992, в день чествования Державной иконы Божией Матери. Летом 1992 г. в обитель приехали первые монахи; 20.6.1993, в день памяти Всех Русских Святых был освящен придел во имя Прпп. Зосимы и Савватия, Соловецких чудотворцев, храма Смоленской иконы Божией Матери. 26.7.1994 в пустыни состоялось торжество прославления святого угодника Владимирской земли преп. Зосимы, как местночтимого святого.
[Закрыть] к о. Алексею–затворнику [221]221
Иеросхимонах Алексий (Феодор Алексеевич Соловьев, 17.1.1846 – 19.9.1928) – родился в Москве в приходе Симеона Столпника в семье священника. После окончания Московской духовной семинарии (1866) и женитьбы (12.2.1867) на Анне Павловне Смирновой (†27.1.1872) рукоположен во диакона (19.2.1867) и назначен в храм Свт. Николая в Толмачах. Рукоположен во иереи (4.6.1895) и определен пресвитером в Большой Успенский Собор Кремля. Переехал в Зосимову пустынь (24.10.1898), пострижен игуменом Германом (30.11.1898) с именем Алексий, в честь святителя Алексия, митрополита Московского. Постепенно к старцу Алексию за духовным советом и утешением стали стекаться люди со всех концов России. К нему (как и к о. Герману) за духовным советом обращалась и преподобномученица Вел. Княгиня Елизавета Феодоровна. Ушел в затвор (6.6.1916). Участвовал в монашеском съезде в Троице–Сергиевой Лавре (июль 1917), где был избран на Всероссийский Церковный Собор. Именно он, после Литургии в храме Христа Спасителя, вынул из ларца перед образом Владимирской иконы Божией Матери жребий с именем Патриарха – Святителя Тихона. Пострижен в схиму (1919) с тем же именем – в честь Алексия, человека Божия. После закрытия Зосимовой пустыни переехал вместе со своим келейником о. Макарием в дом духовных своих детей в Сергиевом Посаде на улице Дворянской. Там он и скончался. 26.7.1994 одновременно с прославлением прп. Зосимы состоялось перенесение мощей старца Алексия с городского кладбища Сергиева Посада в Зосимову Пустынь. Прославлен в лике преподобных.
[Закрыть]. Очень захотелось и мне. Пришла я к Батюшке и говорю со страхом, зная, что меня Батюшка от себя никуда не отпускает: «Батюшка дорогой…» А он, еще не дав мне ничего сказать, говорит: «Что, захотела в Зосимову пустынь к о. Алексею?» – «Да, очень хочется, многие едут». – «Ну что же, поезжай, поезжай. Передай от меня о. Алексею привет, и о. Иннокентию, и о. Дионисию, и смотри не балуйся там, не шали». Очень обрадовалась я первой своей поездке к о. Алексею.
Приезжаем туда, отстояли службу и все пошли на благословение к о. Алексею. А нам келейник [222]222
Отец Макарий (†1928). «Преданно и самоотверженно ходил за больным старцем его келейник отец Макарий. Суровый на вид, дисциплинированный и умный, он неутомимый был труженик, выполняя обязанности посредника между приходящими и старцем со стойким терпением. До последней минуты жизни отца Алексия […] отец Макарий неотлучно жил при нем, охраняя его сыновне. После кончины старца недолго отец Макарий, принявший иеромонашество, прожил в памятном для него домике. Он окончил жизнь свою в узах и там же принял смерть, ниспосланную ему Господом…» (Н. Верховцева. Насельник Святой веси // К свету. № 14. М. 1994. С.72). Расстрелян.
[Закрыть] отвечает: «А о. Алексей не принимает больше. А откуда вы? Из Москвы? Да там у вас свой старец Алексей, выше нашего, и зачем наш вам? Помолились и поезжайте обратно». Все повернулись и пошли, а я осталась и сказала: «А ведь мне наш Батюшка велел о. Алексею вашему передать поклон, значит я должна его увидеть». Посмотрел на меня иеромонах и сказал: «Всех батюшка принять не сможет, а о тебе, матушка, я доложу. Как тебя зовут?» – «Мария грешная». – «Так ты не монахиня?» – «Нет еще, собираюсь ею быть». Он посмотрел на меня, улыбнулся и сказал: «Ну, подождите, у него сейчас игумения, а потом пойдешь и ты». Игумения вышла скоро, он доложил обо мне Батюшке. «Батюшка вас приглашает, идите за мной». Испугалась я, руки и ноги затряслись от страха. «Молитвами святых отец наших…» – быстро произнес келейник и постучался. Послышался голос о. Алексея: «Аминь». Келейник открыл дверь, впустил меня и тут же дверь захлопнул. В мысли моей пронеслось: «Ну, пропала я!» И стою, прижавшись к двери.
Батюшка сидел в кресле, одетый в схиму, а я таких еще никогда не видала. Волосы седые длинные расстилались по плечам, борода длинная. Я боялась сдвинуться с места и от страха готова была плакать: дверь защелкнута, бежать некуда. Я только хотела сказать: «Отпустите меня, пожалуйста», – как слышу твердый, грубый, но ласковый голос батюшки: «Деточка, не бойся, не бойся, поди ко мне. Ты откуда?» Я молча неуверенным шагом начала приближаться. «Ты откуда?» – снова последовал вопрос, и я посреди комнаты остановилась. – «Ну, поближе, поближе подойди ко мне, не бойся, скажи откуда ты». – «Из Москвы от Батюшки о. Алексея. Он вам велел передать привет». О. Алексей своей рукой (а рука длинная показалась мне) взял меня за руку, совсем приблизил к себе и велел встать на коленки. «Ну, скажи, деточка: ты монахиня?» – «Нет, только собираюсь», – батюшка улыбнулся. «А Батюшка о. Алексей благословил тебя принять монашество?» – «Нет, только обещал». – «Будешь исповедываться?» – «Благословите, Батюшка». – «А о. Алексей разрешил тебе у меня исповедываться?» – «Нет, он не любит, когда мы исповедуемся у других батюшек». – «Ну, хорошо! А я тебя исповедую, раз ты ко мне попала, и он велел тебе передать привет». Поглаживая мои руки, Батюшка сказал: «Отец Алексей мой хороший знакомый. Мы с ним в детстве были друзьями и вместе играли и на собаке верхом катались, на Каштанке–то». Сразу я как–то ожила и вскрикнула: «Нет, другая большая собака–то была!» Страху стало у меня меньше.
Батюшка приступил к исповеди за всю жизнь мою. Долго (1 ч. 40 м.) от юности он меня исповедал. Он называл мне такие грехи, которых я никогда не слышала, но от страха все говорила «грешна». Исповедь была исключительная! Он меня поставил как бы пред судилищем Христовым, где я была безответна. Я плакала. Мне захотелось скорее к своему Батюшке, где нет страха, а одна любовь. Кончилась исповедь. Я поблагодарила старца и с радостью выкатилась от него. Отпуская меня, он также велел передать Батюшке привет и велел еще к нему приезжать, но я ответила, что «больше не приеду, я очень занята».
Богослужение пустынное и уставное, пение монахов – все очень подействовало на меня и захватывало дух. Когда же я вернулась из Зосимовой пустыни, Батюшка, как мне показалось, был грустным и обиженным. «Ну как, святые, приехали?» – отчужденным тоном произнес Батюшка. – «Нет–нет, дорогой Батюшка, я уже с Зиной поссорилась, так как хотелось быть в тамбуре одной с молитвой Иисусовой, а она мне не разрешала. А слушаться я ее не хотела, – ведь я не маленькая, а большая». – «Ну и как о. Алексей?» – «Я ему ваш привет передала, но очень испугалась. Я таких людей и в таком облачении еще не видала. Просто испугалась и хотелось бежать к вам. Он меня исповедывал, но я думала, что от слез и страха разорвется мое сердце. Я услышала такие грехи, которых вы никогда не называете, я повторяла все «грешна», не понимая их». – «Ну вот, Манюшка, я потому тебя никуда и не отпускал от себя, жалел твою душу. Ну, теперь поняла, как у других исповедываться?» – «Да, дорогой Батюшка, я больше никуда–никуда не пойду, я теперь боюсь батюшек, ведь они не вы». И Батюшка успокоился.
***
На исповеди у Батюшки говорю: «Батюшка, есть грех «мшелоимства». Я убила одного мыша в своей жизни, больше никогда не позволю убить, ведь он тоже жить хотел». Батюшка улыбнулся. «Ну, Бог простит, уж больше не убивай». Он сказал это шутя и с улыбкой, но не объяснил мне этого греха. Батюшка всегда очень жалел наши души, чтобы они не страдали, а поэтому, чтобы не причинить страдания, и не налагал никогда епитимий и не давал чувствовать величину твоего греха, избавляя нас от страдания и окаяшки, который мог навести на нас уныние. Батюшка родной, он все брал на себя, и за нас молился и страдал.
У о. Сергия были свои духовные дети, и почему–то, идя от него с исповеди, они очень плакали, а мне их жалко было. Тихонечко пройду к исповедальному столику и скажу Батюшке на ушко: «Батюшка дорогой, И., К., П. все очень плачут, идя с исповеди о. Сергия. Мне их очень жалко». – «Ну скорее позови их ко мне». Подойду к одной, другой, третьей и скажу им: «Батюшка зовет, скорее, скорее идите», – и сама убегу от них. «Ну вот спасибо, Манюшка, что сказала, а то бы окаяшка нагнал на них уныние», – иногда скажет Батюшка.
***
В московских храмах в течение Св. Великой Четыредесятницы стала вводиться пассия [223]223
«В южнорусском крае, – пишет прот. Константин Никольский, – в пятки 1–й, 2–й, 3–й и 4–й седмиц Великого поста совершается церковно–богослужебный обряд, называемый пассиею (страданием). Он бывает на повечерии и состоит в том, что тут читается Евангелие о страстях Христовых (откуда название обряда) […] Пред Евангелием поется церковная песнь: «Тебе одеющагося светом, яко ризою…», после Евангелия: «Приидите, ублажим Иосифа приснопамятнаго» – и затем говорится проповедь […] В Цветной триоди, напечатанной в 1702 году при архимандрите Киево–Печерском Иоасафе Краковском, находится (в конце книги) прибавление к обыкновенному Церковному уставу, где описан обряд–пассия. Там сказано, что в четыре первые пятка Вел. поста, по установлению Митрополита Киевского Петра Могилы, в нарочитых монастырях и соборных церквах читаются на малых повечериях страстные Евангелия, с припевом пред чтением и после чтения: «Слава страстем Твоим, Господи». В первый пяток читается от Мф., гл. 26 и 27; во второй пяток – от Мк., гл. 14 и 15; в третий – отЛк., гл. 22 и 23; в четвертый – от Ин., гл. 18 и 19. Евангелие читает иерей, облеченный в черные ризы, стоя на амвоне пред царскими вратами; пред чтением после молитв повечерия: «Не скверная, не блазная» и «Даждь нам, Владыко», клир поет стихиру Великого пятка: «Слава и ныне», «Тебе одеющагося светом, яко ризою», а по прочтении Евангелия поет стихиру Великой субботы: «Приидите, ублажим Иосифа приснопамятнаго». После того повечерие оканчивается пением: «Помилуй нас, Господи, помилуй нас». В конце описания обряда пассии в упомянутой Цветной триоди сказано: «Сия вся вспоминаются по совету, а не по повелению, яже вся под рассуждение Церкве Святыя Православныя подаются». В «Церковных ведомостях» (1899, № 13) содержится также статья «Обряд пассии в Юго–Западном крае». В ней сказано, что обряд пассии установил Киевский митрополит Петр (Могила). Поводом к установлению послужили происки католического духовенства к совращению православных в католицизм» (Прот. К. Никольский. Пособие к изучению устава богослужения Православной Церкви. Изд. 7–е испр. и доп. СПб. 1907. С.585). После пассии обычно произносилась проповедь, которая большей частью поручалась профессорам Духовной академии. «…Об обязательном отправлении этого обряда в сельских церквах не может быть и речи, если только на этот счет нет особого распоряжения со стороны местной епархиальной власти» (Сборник решений недоуменных вопросов из пастырской практики. Вып.1. Киев. 1903. С.147).
[Закрыть]. Батюшка был не сторонник этого богослужения: «Вся полнота Страстной седмицы теряется», – говорил он. Тот или иной праздник не есть воспоминание, а есть жизнь, а Страстная седмица это великая жизнь и наше сопереживание всякого события. Зачастую слышишь, что с амвона священники говорят, что вот наступает такой–то праздник, будем молиться и вспоминать. Нет, а нам постоянно говорили, что в Церкви Христовой нет воспоминаний, но жизнь! Крещение Господне – разве это воспоминание, нет, жизнь, потому что просим в молитве, чтобы Господь освятил воду сию Духом Святым. И к Крестителю обращаемся: «Прииди, стани с нами запечатаяй пение и предначинаяй торжество». Или к Анне Пророчице на Сретение обращаемся: «Прииди, стани с нами и благодари Христа Спаса Сына Божия». Так что всякий праздник и событие в Церкви есть жизнь. А поэтому пассия, несвоевременное воспоминание страданий Христовых, вырванное, как сказал в свое время Батюшка, из богослужебного круга, отнимает полноту Страстной Седмицы.
Батюшку однажды пригласили на пассию о. Александр от Николы–в–Звонарях [224]224
Храм Свт. Николая Чудотворца, что в Звонарях – построен в 1762—1781 гг. на месте первоначального, упоминаемого с начала XVII в. Обновлялся в 1900 г. Закрыт не позднее 1933 г.
[Закрыть]. Батюшка хотел уйти тихонько, чтобы мы никто не знали об его уходе и не пошли за ним. А я узнала и ну бежать за Батюшкой. В Варсануфьевском переулке Батюшка оглянулся и строго велел тут же идти домой. Я заупрямилась и никак не хотела возвращаться. Батюшка еще раз обернулся и, видя, что я не послушалась, подошел ко мне и ласково сказал: «Манюшка, ну что же мы с тобой оставили сиротой наш храм, – ни меня ни тебя нет». Я расплакалась и говорю: «Батюшка, а мне хочется быть за пассией, видеть как вы будете служить и посмотреть, что это за служба». – «Манюшка, я бы сам не пошел, но неудобно отказать о. Александру, он прислал за мной. А ты иди проведи вечерню и утреню и сюда успеешь. Ну, скорее беги и замести меня, ведь без тебя там будет плохо». Я вернулась, успела отправить свою службу и мы, несколько человек, помчались в Николу–Звонари. Пришли, а конечно, пассия уже кончилась. Батюшка стоит у аналоя и благословляет народ. И мы тут как тут. «Ну вот и успели», – улыбнулся Батюшка.
Батюшка не любил, чтобы мы бегали по другим церквям, берег нас от рассеяния, любил, чтобы мы всегда были дома и выполняли свое богослужение в строгой полноте. Батюшка также не любил никаких наград и понимал, какую ответственность они налагают. Как–то в храме Адриана и Наталии [225]225
См. прим.
[Закрыть] на Первой Мещанской (проспект Мира) служил Святейший Патриарх Тихон. Был приглашен и наш Батюшка для награждения митрой. Пришел момент награждения, Святейший читает молитву. Побежали за митрой: туда–сюда, а митры и нет. Поискали–поискали, да так и не нашли. А после богослужения начали снова искать, оказалось, что митра была запихнута в щель за гардероб с утварью (в алтаре). Такое великое смирение проявил наш Батюшка: он сам запрятал митру, не любя никакой награды [226]226
Ср. с эпизодом из «Записок о Батюшке» маросейского алтарника П. Б. Юргенсона.
[Закрыть].
Батюшка также не любил и архиерейских богослужений. Он говорил, что самая служба, чин ее, прекрасен, торжественен, но отнимает молитву, так как много суеты. А мы немощны, слабы и при спокойном не можем молиться, а уж где же нам при архиерейском–то богослужении молиться, только глазеем.
Не любил также Батюшка, когда его приглашали служить в других храмах, но говорил, что «неудобно отказываться. Мне всегда жаль оставить свое богослужение и свой храм: оставляешь его сиротствующим и безпокоишь людей своим отсутствием. Они, узнав о том, что меня не будет дома, бегут за мной». И вот как–то, помнится, приглашают Батюшку служить в Каретном ряду. «Девчонки, – говорит Батюшка, – если меня от всенощной возьмут ночевать, выручайте меня, я должен быть дома. Но они не захотят меня отпустить и просто утащат к себе, и вы, говорю вам, тогда выручайте меня». Это и было так! После всенощной ведут Батюшку под руки, народ за Батюшкой, а он, дорогой, увидал нас и потихоньку шепнул: «Выручайте, я весь мокрый, простужусь». А мы и рады стараться! «Напоили бы меня чаем, – сказал нам Батюшка, – да и в холодную комнату всего мокрого заперли бы меня отдыхать до утра, чтобы я служил у них обедню. Спасибо вам, что меня выручили, а то бы мне не сдобровать, простудился бы, заболел». А нам большого труда стоило отстоять Батюшку, даже пригрозили им. Извозчик был уже готов, Батюшку отпустили, а мы все облепили извозчика: кто с Батюшкой, кто на задке примостился, и так вернули его домой. Не один раз и потом Батюшка благодарил нас: «Если бы не вы, девчонки, меня бы не отпустили и мне бы не сдобровать, я бы заболел, так как весь мокрый был, а сменить было нечего».
Как я уже говорила, Батюшка был назначен Святейшим Патриархом Тихоном возглавлять объединение Московского духовенства. Батюшка был председателем. Его слово было последним, заключительным («законом», как сказал нам о. Илия Гумилевский [227]227
Протоиерей Илия Васильевич Гумилевский (20.7.1881 – 7.12.1963) – родился на Дону в семье казака. После окончания Московских духовных семинарии (1903) и академии (1907; со степенью кандидата богословия) преподавал в Московской духовной семинарии. Рукоположен во диакона и иерея. Исправлял должность доцента Московской духовной академии по кафедре литургики (1912). Магистр богословия (1913), доцент, экстраординарный профессор. Служил в Храме Христа Спасителя (1914—1922), в церкви на Лазаревском кладбище, а затем свт. Николая («Николы Явленного») на Арбате (1922—1928) и храме свв. мчч. Флора и Лавра на Зацепе (1928). Арестован (20.12.1928). Приговорен к 3 годам ссылки в Сибирь (22.2.1929; до 2.12.1931). После ссылки вернулся на родину, затем жил в Москве в полном затворе. Погребен на Востряковском кладбище в Москве.
[Закрыть]). А мы целой группой обычно провожали Батюшку и ожидали его до конца заседания. Когда заседание кончилось и вышло много духовенства, Батюшка не возгнушался (не постеснялся нас) нами грешными, а сказал: «Это мои духовные дети», – и велел принять благословение у батюшек, которые стояли около него (о. Гумилевский и некоторые другие), но нам казалось, что нет благословения выше, чем благословение Батюшки.
Батюшка категорически запрещал судить и обсуждать поступки духовного отца. Он говорил: «Духовный отец является посредником между твоей душой и Богом. Обсуждать поступки и действия духовного отца никто не имеет права, а тем более осуждать его, гневаться и обижаться на духовного отца. Нам неизвестны побудительные причины его действий, которые происходят по Божьему промышлению, а поэтому с верой, любовью и страхом подходи к нему и отнюдь не рассуждай – почему он так или иначе с тобой поступил. Он отвечает Богу за твою душу и что хочет, то и делает с ней, и ты с верой и любовью все принимай от него. И никогда не смей обижаться». Так говорил он мне на мою страсть самолюбия и обидчивости. Св. Димитрий Ростовский [228]228
Святитель Димитрий Ростовский (Даниил Туптало, дек. 1651 – 28.10.1709) – родился в местечке Макарьево в 40 верстах от Киева в семье казачьего сотника. Учился в Киевском Братском училище при Богоявленском монастыре (1662—1665). Поступил в Кирилловский монастырь (1668), где 9 июня принял монашеский постриг с именем Димитрий, а в 1669 возведен в сан иеродиакона. Посвящен во иеромонахи (23.5.1675) и назначен проповедником при кафедральном Успенском соборе г. Чернигова. В сане игумена и архимандрита настоятель разных монастырей. В 1684 г., по благословению митрополита Киевского Варлаама (Ясинского), принял на себя главный труд своей жизни – составление Четий–Миней или Житий Святых (окончены в 1705). Хиротонисан в Москве в митрополита Сибирского и Тобольского. Из–за плохого здоровья и необходимости завершить благословленный труд от назначения отказался. Назначен митрополитом Ростовским (1702). Кроме Четьих–Миней перу Святителя принадлежат след. труды: «Летопись келейная», представляющая из себя связанное изложение событий библейской истории; «Розыск о раскольнической брынской вере»; «Руно орошенное, или сказание о чудесах черниговской Ильинской иконы Богоматери»; «Рассуждение об образе Божии и подобии в человеце»; «Диарии», или дневные записки; «Каталог российских митрополитов»; «Краткий мартиролог, остановленный на одном сентябре» и др. Скончался во время молитвы, стоя на коленях. В 1752 г. во время ремонта монастырского собора были обретены нетленные мощи Святителя, от которых исходили чудеса исцеления. Причислен к лику святых в 1757 г. Память 21 сентября.
[Закрыть]сказал: «Дети не учите духовного отца, предоставьте ему суд над вашей душой». Господи, прости меня грешную, много согрешила пред Тобой!
«Манюшка, ты очень горячая у меня, и я постоянно безпокоюсь за тебя. Молись Богу и Матери Божией, чтобы Она, Пречистая не оставила тебя и твое горение духа сохранилось до последнего конца! Постоянно безпокоюсь о тебе, не утащили бы тебя волки!» – «Батюшка, дорогой, я ведь вам вправду говорю, что в Москве волков нет, а вот у нас в деревне есть местечко, называемое Климово, там есть волки и люди со станции боятся ходить, а этот путь самый близкий до их деревень». Батюшка смеялся, поглаживая мою голову и потрепывая по щекам. «Да нет, Манюшка, я не этих волков боюсь, они не так страшны». – «Правда, Батюшка, они ведь в деревне». – «Да нет, в Москве есть страшные волки, боюсь как бы тебя не утащили». – «Батюшка, да нет, не утащат. Я ведь за ворота–то без Вашего благословения теперь не хожу!» – «Ну, вот то–то, никуда–никуда не ходи. А то как не вижу тебя долго в течение дня, ну и безпокоиться начинаю, куда моя Манюшка делась, и Симку посылаю узнать, где ты. Вот видишь, Манюшка, какая ответственность лежит на духовном отце за ваши души». – «Батюшка дорогой, скажите мне, пожалуйста, а где это такие страшные волки–то водятся в Москве, мне можно знать?» – «Да нет, лучше их не знать!» Батюшка родной благословил меня, я побежала. «Да потише, потише, – слышу голос его ласковый, – а то разобьешься». А тихо ходить я никогда не умела, с детства все бегала.
«Будь кроткая у меня, Манюшка, Господь кротких любит. Сам сказал: «яко кроток есмь и смирен сердцем». И послушлив был даже до смерти, смерти же крестной. Покой найдешь, если будешь кроткая и смиренная». – «Батюшка, а разве я не такая? Я ведь вас слушаюсь». – «Не всегда!» – «Ну, когда–нибудь научусь». – «Вот и учись, пока Батюшка твой жив». – «Батюшка, а я гордая?» – «Да, немножко!» – «Батюшка, вы знаете, почему я плачу часто?» – «Обижаешься на всех!» – «Да нет, я молюсь по примеру вашему. Вы плачете, и мне хочется плакать». И Батюшка смеется. «А я думал, что ты плачешь все от обиды». – «И бывает, дорогой Батюшка!» – «Ну вот, давай с тобой научимся плакать о грехах, а не от обиды. А обиды, ты это знаешь, гордость, самолюбие». – «Больше не буду обижаться, буду плакать вместе с вами и молиться». – «Ну вот и договорились мы с тобой: будем плакать вместе в молитве и нам Господь Бог и Матерь Божия во всем помогут исправиться и спасут нас». Утешенная, удовлетворенная, с легкой душой бежишь от своего дорогого Батюшки.
По своей молодости и глупости я не любила кутаться, все бежишь бывало налегке, в косыночке, и нравится мне этак. И вот однажды поздней осенью снег, слякоть, а я бегу раздетая. Батюшка шел навстречу мне откуда–то и, остановив меня, строго сказал: «Не смей у меня так бегать». – «Простите, Батюшка», – и я побежала дальше. На исповеди он мне вдруг говорит: «Манюшка, здоровье это величайший дар Божий, и если не будешь его беречь, будешь отвечать как самоубийца. Ты слышишь, что я тебе сказал?» – «Слышу, дорогой Батюшка». – «Поняла, что я тебе сказал?» – «Поняла». – «Ну, так вот, повторяю: не смей у меня так бегать!» Так Батюшка заботился не только о душе, но и о телесном здоровье.
***
С детства я любила преп. Серафима. И вот однажды после занятий в институте сижу на окошке первого класса и что–то про себя напеваю. И что же? Вижу идет согбенный Старец, на руке висит топорик, в скуфеечке, за плечами мешок, а в руках палочка. Точь–в–точь преп. Серафим. Сердце мое забилось, и я все внимание устремила на него, так что вылезла до половины из окна. Взгляды наши повстречались. Он пристально посмотрел на меня, дошел до парадного, снял котомочку и, смотрю, что–то из нее достает. Снова надел котомочку и вернулся ко мне, подавая какую–то книжечку. С большим трудом я вся вылезла в окно, чтобы принять книжечку. Он благословил меня и дал эту книжечку. Приняв ее, я снова вползла в окно, чтобы не упасть. Хотела поблагодарить Старичка, но туда–сюда, а его след простыл. Прочла оглавление книжечки: Житие преп. Кирилла, Белоезерского чудотворца [229]229
Прп. Кирилл Белоезерский (†1427) – сын именитых, но обедневших бояр. Бывая в монастырях, познакомился с прпп. Сергием Радонежским и Стефаном Махрищским. В преклонных летах оставил мир, удалившись в Симонов монастырь, где со временем стал игуменом. В видении повелено было ему пойти на Белоозеро и основать там монастырь, что он и исполнил. Обитель эта стала центром просвещения, ревнителем Православия и образцом общежития. Память 9 июня.
[Закрыть]. Когда я ее прочитала, то сердце воспламенилось подобно пожару: хочу в монастырь, хочу к такому старцу, как преп. Серафим. И вот после этого я вскоре и попала к своему Старцу, который и был жизнью своей подобен преп. Серафиму. И сам потом нам говорил: «Мой путь – путь преп. Серафима». Девиз его: «Жить – любви служить!» А преп. Кирилла Белоезерского память 9–го июня, день кончины нашего старца о. Алексея. Можно сказать, что это случайность, но Батюшка говорил нам, что в жизни случайного не бывает, все по воле Божией. Если даже на тротуаре наступите на ногу друг другу, и это не случайность, так как можешь увидать свою немощь или гнездящуюся в тебе страсть гнева, раздражительности и вспыльчивости или еще что–нибудь. Мы не знаем Промысла Божия.
***
Как–то зовет меня Батюшка к себе и говорит: «Манюшка, ты читаешь псалтирь?» – «Читаю, Батюшка». – «А умеешь (знаешь) как читать его?» – «Да, умею». – «Ну, расскажи–ка мне, как ты его читаешь?» И я вновь, точно сдавала экзамен на чтение псалтири, как на панихиду, говорю: «Батюшка, начинаю с обычного начала, как положено в псалтири, а потом начинаю стихословить: «Блажен муж…» Дойдя до славы, читаю: Слава Отцу и Сыну и Св. Духу, молитва: «Помяни, Господи Боже наш, в вере и надежде живота вечнаго преставльшихся рабов Твоих» – и начинаю всех поминать как знаю и кто заповедал мне недостойной молиться о них: прежде всего родителей и сродников по плоти, а потом всех, всех! Когда кончу поминать о упокоении, говорю: «И ныне и присно и во веки веков. Аминь. Спаси Господи и помилуй о здравии и спасении рабов Твоих: отца моего духовного прот. Алексея», и так пойду всех по порядку поминать и болящих и страждущих и испрашивать себе и другим у Господа прощения. А потом, после поминанья, прочту «Богородице Дево…» и снова начинаю следующую главу псалтири. В конце же кафизмы тропари и молитва, которые положены тут же. В конце же всей псалтири имеется особая молитва. И все».
Батюшка выслушал меня и сказал: «Я, Манюшка, дал Анне Степановне послушание читать неусыпную псалтирь, но она не умеет правильно читать, так вот пойди и поучи ее и скажи, что я велел ей читать ее так, как ты читаешь». – «Батюшка, дорогой, я боюсь, что она меня, девчонку, не послушает». – «А я говорю тебе: скажи ей, что я велел!» И когда пришли в храм, я рассказала Анне Степановне, как читается псалтирь. Она с радостью и любовью приняла все, что я ей сказала, и велела поблагодарить Батюшку. Прихожу к Батюшке. «Ну как, Манюшка, Анна Степановна приняла все, что я велел тебе ей рассказать о псалтири?» – «Да, дорогой Батюшка, и она с любовью и с большим вниманием слушала порядок последования, как читается псалтирь и просила вас поблагодарить». – «Ну вот, теперь я спокоен и могу ей дать помянник читать о всех новопреставленных и заказные поминания годичные». И так у нас читалась псалтирь, начиная от проскомидии и до конца Литургии, а днем Анна Степановна дома читала, а вечером снова в храме до конца всенощной. Это было ее послушание.
***
Жалуюсь на себя Батюшке, что зачастую бывает у меня очень рассеянная молитва. «Батюшка дорогой! Скучаю и унываю. Иногда не дается молитва. Читаю, читаю, снова возвращаюсь, и никак! Бьюсь, бьюсь и никак! А потом вдруг в конце молитвы польются обильные слезы. И пропадет и скука и рассеянность, вдруг все сердце любовию захватит и не оторвешься. И спать надо, и сна нет! Что это? Не действие ли окаяшки?» – «Нет, Манюшка, Господь всегда близ призывающих Его, но иногда скрывает Свою благодать, ища терпения и ожидает любви к Нему. И смотрит, как любящая мать на своего младенца, который неотступно чего–то просит, и когда он заплачет, мать тут же отдает ему всю любовь и ласку. Так что молись со смирением и терпением, знай, что Он, Отец Небесный, около тебя и смотрит на твой труд, и видит, что не отступаешь, за твое терпение тут же посылает Свою благодать, касается твоего сердца – и польются слезы. Что это? Это значит Господь ласкает. Слезы (на молитве) это ласка Божия». – «Батюшка, ну как же я могу молиться с чистым сердцем и пламенною любовию ко Господу, когда у меня эгоизм и я не люблю ближнего?» – «У Господа милости много и Он дает не по заслугам, даром дает, чтобы ты поняла ЯКО БЛАГ ГОСПОДЬ. Греховное все постепенно отойдет, но надо, Манюшка, над собой работать и строже относиться к себе. Никогда не осуждай ближнего. Грехи ближнего – это грехи твои, – так учил Батюшка, – немощи ближнего – это немощи твои. Будь кроткая у меня! Яко Сам Господь был кроток и смирен и послушлив даже до смерти». И так хорошо было с Батюшкой и как сладко слушать его Боговдохновенное учение. Бывало всегда, как на крыльях, бежишь от него. И надолго сердце воспламенится любовью ко Господу, так бы и обнял весь мир.







