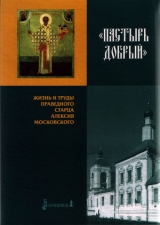
Текст книги "Пастырь Добрый"
Автор книги: Сергей Фомин
Жанры:
Религиоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 57 страниц)
Памяти дорогого Батюшки. Александр Добровольский
Памяти Батюшки
«Не случайно это в твоей жизни. Это – Божий о тебе Промысл. Да и ты сам это должен знать. Посмотри только внимательней на твою жизнь. Сколько раз в ней проявлялся этот чудесный о тебе Промысл. Верь в него. Ты все думаешь: вот пришли скорби, вот несчастия, которых нет ни у кого, вот обстоятельства, из которых нет выхода, а это Бог с любовию посмотрел на тебя, это Бог приближается к тебе», – так учил меня Батюшка, и вспоминая сейчас его слова, я не могу не видеть в нем самом лучшего подтверждения этих слов о чудесном Промысле Божием, о спешащей к нам Любви. Разве случайно, что я узнал Батюшку в самую тяжелую пору моей жизни [116]116
В др. месте А. Добровольский вспоминал: Я приехал из Петрограда в Москву в декабре 1916 года, но на Маросейку я попал только через два месяца. Замечательно, что мое посещение церкви «Николы в Кленниках» совпало с Февральским переворотом. Точно я инстинктивно стремился здесь, в православном храме, под покровом Божией Матери и Святителя Николая, укрыться от тех бед и несчастий, которые несло мне будущее. А. Добровольский.«1917—1918 годы».
[Закрыть], в годы, когда все рушилось и погибало, когда, казалось, спастись могут только одни сильные, цепкие, вооруженные, и я, я со всем моим укладом и воспитанием, неприспособленный, больной, безпомощный, оставшийся без средств, среди несчастной семьи, среди великого крушения, казалось одно – я должен погибнуть, я должен быть уничтоженным. – и вот «Бог приближается ко мне», Бог посылает мне Батюшку, – и годы скорби переплавляются в годы безконечной радости, годы ненависти наполняются светом любви, годы самые незащищенные становятся самыми спокойными, и посреди волн меня – малый корабль – ведет Батюшкино благословение. Жалостливое сердце Батюшкино увидело сердце человеческое – больное, испуганное, ожесточившееся, тревожно бьющееся в своих собственных ошибках и грехах, и он привлек это сердце к себе, стал для него врачом и воспитателем, и терпеливо и внимательно, с неослабевающей любовью, со всем возможным снисхождением, с теплым участием повел его.
Помню осень самого страшного – девятнадцатого года. Москва, умирающая от голода и тифа. Эти черные улицы, разоренная толпа. Храм еле освещенный, неотопленный и отсыревший. Всенощная скорбящих, всенощная плачущих, всенощная стекшихся сюда от скорби жизни невыносимой. Батюшка со своим скорбным лицом, сам слабый и больной, только что вставший после простуды от служб в холодном храме, трогательный от своих еще таких слабых движений, вот он обнимает всех–всех своим любящим взглядом, он говорит: Вот, дорогие мои, я был болен, и во время болезни я читал Библию. И вот, дорогие мои, послушайте, что говорит пророк Захария: «Две части возьму из вас и вымрут. Одних, говорит Господь, Я истреблю их мором. Одних истреблю голодом. А третью часть (так бывало: голос слабый вдруг он превращался как бы в трубный, с жестом выбрасываемой руки он говорил как знающий, как пророк) – Я расплавлю их». Обратите внимание, как говорит Господь: Я расплавлю их. Тоесть, когда будете как олово расплавленное, когда поймете, дорогие, что перед Богом вы ничто. Со смирением – Господи, ничто я. «И отдам их сребреннику. И очистит их, как серебро…»
Скольким, скольким в тот день он явился как сребренник, и он взял эти «расплавленные» души и, терпеливый ювелир, к каждой приложил все возможное ему внимание и всю возможную ему любовь.
В 1917 году проездом из Оптиной Анна Александровна Исакова [117]117
Анна Александровна Соколова (1865—1948) – дочь художника А. П. Соколова. В первом браке Бруни, во втором – Исакова. Мать священника Николая Бруни (1891—1938) и художника Льва Александровича Бруни.
[Закрыть] была у нас. Она сказала мне: «У вас в Москве тоже есть священник высокой духовной жизни – отец Алексей на Маросейке» [118]118
В др. воспоминаниях автор передает разговор, состоявшийся осенью 1916 г. между ним и А. А. Соколовой: : – Я бы хотел найти священника, который бы стал моим руководителем и наставником. – А вам и искать нечего, – ответила мне она с большим чувством. – У вас в Москве есть такие достойные священники, молитвенники и подвижники, как отец Владимир Богданов и отец Алексей Мечев. Идите к отцу Алексею. Он служит в храме святителя Николая на Маросейке, около Ильинских ворот. Это было в первый раз, когда я услышал имя дорогого Батюшки. Маросейка, Ильинские ворота. Каким родным, каким милым для меня было все это. А самое соединение двух слов – Алексей Мечев – показалось мне полным силы и особого значения. Имя Алексий значит «защитник и помощник». А. Добровольский. «Петроград».
[Закрыть]. Она была вся напитана светом Оптиной [119]119
А. А. Исакова многие годы была духовной дочерью оптинского старца Нектария, так же как и ее сыновья – о. Николай Бруни (до принятия сана – прихожанин Маросейки) и художник Л. А. Бруни (которому принадлежат известные зарисовки Великого оптинского старца).
[Закрыть], восторжена и возбуждена. Под впечатлением ее рассказов я пошел в названную мне церковь. Я пошел посмотреть священника, которого знают, на которого указывают из Оптиной. Во мне было разбужено любопытство к новому миру, который уже выступал для меня в эстетическом очаровании общего увлечения русской иконой, церковным пением, иконописной красотой необыкновенных святых. Я поднялся в маленькую церковь, почти пустую (4 часа, вечерня, неделя Великого Поста). Несколько старушек суетились в церкви. Быстрой, бегущей походкой вошел священник. Старушки бросились к нему под благословение, целуя его руки. Я испугался, что сейчас он увидит меня и обратится ко мне. Я поспешил уйти. Я был разочарован. Но что–то не прошло безследно. Потому что, очень редко что–нибудь записывающий, я почему–то счел нужным записать такие слова: 28–го февраля. Ходил к вечерне в церковь Николы в Кленниках. Странное впечатление произвел на меня этот священник [120]120
Это впечатление более подробно автор описал в др. воспоминаниях: Батюшку отца Алексея я сразу не почувствовал и дело его на Маросейке не понял. Была рядовая дневная служба Великого поста. Служба еще не начиналась. Я вошел в почти пустой храм. И вслед за мной сейчас же вошел Батюшка. Несколько женщин, бывших в храме, бросились к нему, и он остановился, благословляя их. Это дало мне возможность разглядеть его. Таких батюшек я видел на картинах художника Бакшеева: старичок с простоватым круглым русским лицом и рядом всегда две–три растроганные женщины в платочках. А чего ждал я? Может быть, пророка, священника чуть ли не с мечом (Мечев), разящего и рассекающего грешные души. Я подумал, а вдруг он, благословив старушек, обратится ко мне? Что я ему скажу? И я поспешил незаметно выйти из церкви. Незаметно! Вот какой я был еще духовный младенец. А. Добровольский. «1917—1918 годы»
[Закрыть]. Есть в нем что–то выделяющее его сразу. Недаром куча женщин бросается к нему под благословение – зрелище непривычное для меня в других церквах. Но что–то казалось мне в нем чужое, я это подметил и Анне Александровне, – какая–то торопливость и простота. Неужели никогда не проникну я в русскую святость? Душе моя, душе моя, восстани, что спиши.
А в этот день в Петрограде уже совершались великие события.
Прошло два года.
Уже не из любопытства, не за тем, чтобы посмотреть неизвестного священника… Я погибал, я хотел молиться – и не умел, я просил утешения – и не знал, где его найду; все рушилось, все погибало, я не знал, что же теперь делать, что же теперь нужно.
На Маросейке (я пошел сюда, потому что вспомнил, что здесь есть служба каждый день) я узнал, что нужно покаяние.
«Братья и сестры, теперь нам нужно покаяние. Мы будем молиться каждый день»… Это начиналась Патриаршая неделя покаяния.
Я не пропускал ни одной службы. И помню в один вечер точно шелест прошел среди молящихся: «Батюшка приехал». Мое сердце сжалось. Я был смущен: как я взгляну ему в глаза. То, что я как бы оскорбил его, то, что я пренебрег им, мучило меня. Что, если он увидит меня и укажет мне, что мне не место в этом храме? На другой день уже Батюшка служил Литургию. Вместе с народом я подходил ко кресту и к Батюшке. В первый раз. И вот я еще не дошел к нему, и он, смотря на меня ласковым, смеющимся лицом, громко на всю церковь, привлекая внимание всех: «Вот и он, наш усердный богомолец».
Да, я усердно молился. В эти дни, как никогда прежде, ни потом, не пропускал ни одной службы, я первый приходил…, но ведь Батюшка этого не видел, он только вчера приехал и меня видел в первый раз, или его всезнающее сердце уже узнало все, и он видел и мое усердие, и мое смятение, и как евангельский отец, еще издали приветствовал меня и спешил навстречу [121]121
Ср.: Я приехал в Москву в конце июля (1918 года), а уже за всенощной, под 1 августа, я был в церкви «Николы в Кленниках» на Маросейке. Батюшки не было. Мне сказали, что его нет в Москве. Служил отец Сергий (имя его я узнал потом). Эта служба меня захватила. И я уже не отходил от полюбившегося мне храма. Каждый день я спешил прийти сюда с первыми богомольцами и не пропускал ни одной службы. В один вечер шелест прошел среди народа, переполнявшего храм: «Батюшка приехал». Я подходил к кресту. Батюшка стоял рядом с аналоем, где лежал крест. Я еще не подошел, а он, обернувшись ко мне ласковым, смеющимся лицом и все время смотря мне в глаза, сказал громко, на всю церковь, привлекая внимание всех: – Вот и он, наш усердный богомолец. Да, я усердно молился в его храме всю эту неделю, но ведь его не было в Москве, и меня он не видел, и меня не знал. Тогда я еще не понимал, что Батюшка, и не видя меня, знал, что теперь я пришел навсегда. А. Добровольский.«1917—1918 годы».
[Закрыть].
– Верушь ли ты в Бога? – Первая исповедь у Батюшки. Моя очередь. Шепот: «Идите». Сердце, остановившееся на мгновение – этот детский момент, когда бросаешься в воду, зажмурившись и перекрестясь, – так перехватившее дыхание.
– Веруешь ли ты в Бога?
Я ему нес все свои десять лет на стране далече: эти руки, уставшие от праздности, это сердце, замкнувшееся в себялюбии, сердце ожесточенное и больное.
– Верую, – это я мог сказать.
Это была самая необыкновенная исповедь. Точно одного меня он всегда ждал, точно мне он все хотел пересказать. Он говорил мне о себе, о своей жизни, о своих испытаниях, о своем священнослужении, о горестях и трудностях избранного пути, о благословении [о.] Иоанна Кронштадского, о своем упорстве к добру, о своей любви к народу и служении ему; он говорил мне о любви. «Ты болен. Ты замкнулся в себе. Смотри, какое у тебя сердце! Оно не живет, оно никого не греет. Ходи же в церковь. Не забывай ходить в церковь. Только здесь, в церкви, в атмосфере любви твое сердце согреется и отойдет». Я ушел от него в слезах. Он был серебренник, в моих слезах он переплавил мое сердце.
Жар новоначального, – он сгорает как пламенный столп, который пройдет перед всей твоею жизнью, и он осветит далеко, – но нужно ежедневное усилие, нужно напряжение всех своих сил, нужен постоянный подвиг: скучно – принудь себя, досадуешь – потерпи, осуждаешь – воздержись, пренебрегаешь – пересиль себя. Пришло уныние, пришла скука. Батюшка звал меня – я не приходил к нему. Батюшка поручал – я не исполнял. Батюшка привлекал – я уклонялся. А Батюшка, никогда не изменявшийся, не упрекнувший, неизменно внимательный, ласковый, любящий, не отпускающий, терпеливо следящий, вовремя спешащий на помощь, удерживающий, руководящий… Помню, летом Батюшка уезжал, я его долго не видел. Это было время народных академий, лекций в храмах. Меня затянули к Богоявлению [122]122
Православная народная академия богословских наук открылась в 1918 г. по единогласному постановлению Совета Союза духовенства и мирян г. Москвы, на что предварительно было испрошено благословение Святейшего Патриарха Тихона. Ее ректором стал профессор Московского университета протоиерей Н. Боголюбский (см. прим.8), а проректором профессор Московской духовной академии В. П. Виноградов (1885—1968; впоследствии протопресвитер). Перед Академией стояла задача «распространения православно–богословского просвещения среди самых широких кругов и масс православно–церковного общества и народа, с целью: 1) более глубокого и сознательного усвоения христианского мировоззрения между всеми слоями церковного народа; 2) подготовки всех членов Церкви к сознательной и плодотворной практической работе для Церкви во всех приходских и епархиальных учреждениях; 3) содействия в подготовке к пастырскому служению лиц, чувствующих к нему призвание, а также усовершения в деле пастырства лиц священного сана. Для выполнения этой задачи […] Академия организует параллельные три рода самостоятельных курсов по богословским наукам или три отделения: 1) отделение «общедоступных богословских курсов» для всех желающих (обоего пола) вне зависимости от степени их общего образования; 2) отделение «высших богословских курсов» для лиц (обоего пола) со средним и высшим образованием, а также для лиц, прослушавших общедоступные богословские курсы; 3) отделение «пастырских курсов» для готовящихся к пастырству и проходящих пастырское служение» (Орловские епархиальные ведомости. 1918. № 15. С.388—389). Народная академия содержалась Союзом духовенства и мирян на средства, получаемые от платы за слушание лекций, и на частные пожертвования. Открытие состоялось 11(24).6.1918. Молебен перед открытием совершил Святейший Патриарх Тихон в Соборной Палате Епархиального дома. На следующий день начались регулярные занятия, проходившие по вечерам 3—4 раза в неделю. Среди преподавателей были: И. М. Громогласов, Н. Д. Кузнецов (церковное право Русской Церкви), Н. Д. Протасов (церковная археология и иконография), Н. И. Серебрянский. Число слушателей достигало 225 человек.
[Закрыть]. Я слушал Боголюбского [123]123
Протоиерей Николай Иванович Боголюбский (1856 – ?) – после окончания Самарской духовной семинарии (1876) и Московской духовной академии (1880; кандидат богословия) преподавал греческий язык в Подольской духовной семинарии (с 30.6.1880). Рукоположен во иереи (10.4.1883) и определен священником в Скорбященскую тюремную церковь Самары. Преподаватель греческого языка Самарской духовной семинарии (24.5.1883), законоучитель Самарской женской гимназии (24.10.1884). Возведен в сан протоиерея (5.6.1884), настоятель самарского Казанского собора. Магистр богословия (17.2.1887). Председатель Совета Самарского епархиального женского училища (10.7.1893). Ректор Самарской духовной семинарии (16.7.1897). Редактор «Самарских епархиальных ведомостей» (1893. № 5 – 1902. № 7). Профессор кафедры богословия Московского сельскохозяйственного института (1902), профессор кафедры богословия Московского университета и настоятель Татианинской церкви при нем (14.2.1911). Председатель Отдела публичных богословских чтений Московского общества любителей духовного просвещения (IX.1905 – 1.1908; около 1917 г. – председатель этого Общества). Заведующий женским Богословско–педагогическим институтом в Москве (1917). Товарищ председателя Исполнительного комитета объединенного духовенства Московской епархии (8.3.1917). Председатель президиума Всероссийского съезда духовенства и мирян (1—12.6.1917). Уклонился в обновленчество, член ВЦУ (1922—1923), председатель этического подотдела Предсоборного отдела (1923).
[Закрыть], Попова [124]124
Протоиерей Николай Григорьевич Попов (1864 – ?) – по окончании Московских духовных семинарии (1887) и академии (1892) псаломщик Казанской церкви у Калужских ворот в Москве. Учитель русского и церковнославянского языков в Звенигородском духовном училище Московской епархии (26.11.1892). Магистр богословия (1893). Преподаватель латинского языка Московской духовной семинарии (28.9.1895 – 24.9.1907). Священник Николаевской церкви при Московском институте инженеров путей сообщения (31.12.1898). Одновременно – приват–доцент по кафедре византийской истории Московского университета, законоучитель Московской XI–й мужской гимназии, а также директор и законоучитель содержавшейся им частной гимназии. Избран членом Исполнительного комитета объединенного духовенства Московской епархии (8.3.1917). Член Поместного Собора 1917—1918 гг. Уклонился в обновленчество. Член ВЦУ (1922—1923). Преподавал церковную историю в Московской богословской академии (1923). Участник соборов 1923 и 1925 гг. Член обновленческого Синода (с 1925).
[Закрыть], уже хотел оформить, записаться. Своим умом решил, что это и интересно, и полезно, и удобно. В это время приехал Батюшка. На исповеди говорю ему про свое увлечение, про лекции, курсы. Он все выслушал ласково, точно одобряя: «Хорошо, это хорошо…» Потом вдруг обнял меня. крепко–крепко прижал к себе, как бы защищая и не отпуская: «Вот что, оставайся ты лучше с нами» [125]125
Как сообщал о. Павел Флоренский в письме от 5.8.1920, Академия эта была «со спиритуалистическим уклоном и протестантствующая» (Игумен Андроник (Трубачев). Священник Павел Флоренский – профессор Московской духовной академии // Богословские труды. Юбилейный сборник. Московская духовная академия: 300 лет (1685—1985). М. 1986. С.240). Ректор ее (см. прим.8) и некоторые преподаватели (см. прим.9) уклонились в обновленчество, войдя в руководящие его структуры. Из слушателей ее известен, например, В. А. Путята (1869 – ?) – впоследствии обновленческий «архиепископ Виктор».
[Закрыть].
Это было удивительно. Ведь казалось бы – вот он. Он не знает ничего из моей биографии, из моей жизни, никаких подробностей моей семейной жизни, моего происхождения, образования, привычек. Точно, отбросив всего внешнего человека, он приближал к себе самого человека, его любил, его ценил, им интересовался, о его пользе болел. Тысячи людей проходили мимо него. Как можно различить в этой массе одного, запомнить, и мало того, что запомнить, – следить, вести, знать о нем все, вовремя поспешить и помочь. Помню, когда после поездки на фронт и в Сибирь я, наконец, вернулся в Москву. Я приехал в субботу. В воскресенье пошел на Маросейку. Прошел почти год. Я не сомневался, конечно, что Батюшка меня забыл. За это время там много переменилось. В храме я увидел новых людей. И потом это была не прежняя Маросейка. Храм был переполнен. Безконечная толпа подходила под благословение к Батюшке. Он едва смотрел, казалось, ничего не замечал. Я мучился: напомнить ли о себе или пройти молча. Подхожу. Лицо Батюшки осветилось улыбкой:
– Худой–то какой! Что они там с тобой сделали, что они там с тобой сделали? – Разве мог Батюшка кого–нибудь забыть?
Удивительно. Откуда являлось это чувство, это убеждение, что Батюшка тебя любит больше всех. «Батюшка меня любит больше всех». Как это ни было нелепо, просто невозможно – такая уверенность жила. Но ведь другие, настоящие его духовные дети, преданные ему, послушные ему, полезные ему и храму. Они давно пришли к нему, отдали ему всех себя, – и разве недостойны они, чтобы Батюшка любил их больше тебя – случайного, безполезного, ненужного храму, раба ленивого и лукавого. И все–таки Батюшка любит меня больше всех! Может быть, это просто оттого, что каждому Батюшка давал какой–то максимум любви. У него не было, как у Отца Небесного, первого и одиннадцатого часа. Ты пришел ко мне, – и вот вся та любовь, которую ты можешь от меня иметь, я ее даю тебе. Весь тот максимум любви, который я вообще мог бы иметь, Батюшка мне его дал, и поэтому для меня он любил меня больше всех.
И эта любовь давала ему возможность проникать во всякое душевное состояние, знать его, угадывать его, предупреждать его, делала его прозорливым.
Помню, один раз я был в отчаянном, угнетенном состоянии. Нужно было исполнить одну ответственную работу в невозможно короткий срок, с такими средствами, которые не давали никакой возможности ее выполнить. Время проходило. Я чувствовал, что мне не на кого надеяться, что мне никто–никто не придет и не поможет, что я никому не нужен со всеми своими огорчениями и затруднениями. Пойти в церковь помолиться? – Но каждая минута дорога, а пойти в церковь – это потерять весь вечер. И я пошел. Служил не Батюшка, но я надеялся, что Батюшка будет вести беседу, что я его увижу, и он благословит меня.
И вот служба кончена. Батюшки нет. Чего–то жду. Но все кончилось, сейчас все разойдутся. И вдруг – Батюшка. Он спешит. С книгами. Задыхается. Он начинает беседу. Он говорит об апостоле Фоме. О его маловерии. Он говорит о необходимости веры, сильной веры. Что это не может быть, что как бы ни было трудно, страшно, – Господь здесь. Господь не оставит. Только прибегни к Нему, только воскликни с Фомой: «Господь мой и Бог мой!» Я подхожу к Батюшке уже побежденный его словами, его верой, его горячностью. И вдруг Батюшка удерживает меня, обнимает, целует, начинает передавать мне свое волнение: как он был расстроен посетителями, как он думал, что не сможет вести беседу, – так потрясло его человеческое горе, – и это все мне, точно самому близкому во всей этой толпе человеку, точно забыв обо всех, точно меня одного считал достойным разделить тяжелый свой груз, меня, который только что считал себя одиноким, самым брошенным и забытым. И вот покрыть такой любовью, согреть такой верой: «Вспомни о Фоме, воззови с ним «Господь мой и Бог мой!»» Я ушел от Батюшки точно исцеленный. Никогда в жизни я не был так спокоен. Спокойно уже, в надежде на Бога смотрел я на свое затруднение. И Господь чудесно все устроил.
Это знание Батюшкой скрытого состояния человека я испытал не раз. Помню однажды, прихожу под благословение. Он смотрит на меня встревоженно: «Да ты больной!» Я удивляюсь. Кажется у меня ничего не болит, я чувствую себя здоровым. – «Больной, совсем больной! Иди домой, скорей ложись!» И действительно, пришел домой, – вечером пришлось лечь, я заболел. Батюшка увидел болезнь, которую я еще не чувствовал.
Перед тем как я тяжело заболел в 1921 году, когда в последний раз я был в церкви, Батюшка, благословляя, сказал мне: «Ну, Александр, будь сильным». Я отошел, не понимая, к чему он мне это говорит, – а он предупреждал меня о готовящемся мне испытании.
И еще о болезни. Как–то весной, уже в 22–м году, стою в первой арке у входа. Служба кончилась. Вдруг передо мной Батюшка. «Ну, как живешь?» – «Да вот, Батюшка, опять болею». Батюшка стал строгим: «Вот что, брось ты это! Давай твою болезнь. Это мне нужно болеть».
Я сейчас думаю: в практике старческой исповеди там был такой прием. Старец брал руку кающегося и клал себе на шею, этим перенося на себя бремя грехов своего духовного сына. Может быть, обнимая нас во время исповеди, прижимая к себе, – скрытно делал то же, что восточные старцы–духовники, перекладывая на себя, на свою грудь наши безчисленные грехи и болезни. Как тяжел был этот груз, как трудно было это бремя – думали ли об этом когда–нибудь мы, думающие только о себе, спешащие скорее переложить на него все наши печали и несчастия? И как он был терпелив, спокоен, ровен! Только один раз я видел Батюшку необычайным. Великий Пост, Страстная пятница. Сотни людей уже прошли перед Батюшкой, и сотни их ждали в длинной, вытянувшейся очереди. – «Идите». Как всегда перехватило дыхание, и я очнулся у аналоя. Батюшки не было рядом – он не сидел, он стоял, прижавшись всем телом, спиной, руками к стене, точно его заливало море, точно тысячи брызг летели снизу и смывали его, а он изо всех сил старался удержаться. Его лицо было бледно и искажено, волосы отнесены как бы ветром, глаза закрыты. Он задыхался. Он не видел меня. Откуда–то издали прозвучало его: «Веруешь ли в Бога?» – «Верую». И сейчас же он бросился ко мне со своей лаской и любовью. Батюшка, Батюшка! Как тяжело ему было, как тяжело ему было!
Батюшка поразительно знал душу человека. Недаром он мне рассказал такой случай с собой. На пляже в Крыму он разговорился с одним профессором. После беседы тот обращается к нему: «Вы ведь врач?» – «Нет». – «Но кто же тогда вы? Только врач может так знать психику человека». – «Я священник».
Это знание давало Батюшке возможность часто ограничиваться каким–нибудь замечанием, где другой бы говорил несколько часов. Помню, я его спрашивал о монастыре. Батюшка не отговаривал меня. Он видел: я увлечен, разгорячен. Слушал мои горячие вопросы и улыбался. «А ты знаешь, как в монастыре к иконам прикладываются? Боже сохрани, если ты подойдешь перед кем–нибудь раньше тебя поступившим в монастырь».
Для меня это маленькое замечание тогда оказалось убедительнее, может быть, самых пространных уговоров.
Иногда Батюшка перебивал, точно не понимая, точно удивляясь: «Да что ты? Это с тобой от жары. Смотри, жара–то стоит какая!» – мудро указывая, чтобы я сам даже не задерживался вниманием на том, о чем я начал говорить.
У него было уменье какими–то простыми словами, каким–то приемом русского доброго простеца успокоить самую страшную тревогу.
– Батюшка, как же мы переживем эту зиму?..
– Слушай, вот что я тебе скажу: ехал я сегодня мимо Смоленского рынка. Сколько там всего – муки, мяса, сахара!.. Ну, так и нам с тобой хватит.
У него был необыкновенный свой громадный опыт, и он делился им, спеша к каждому с тем, что ему нужно. Часто не успеешь сказать ему, только начнешь: «Батюшка…», – а он уже прерывает: «Какой у меня случай был. Недавно приходит ко мне одна женщина»… И он рассказывает, рассказывает то, что потрясает меня, что является обличением моего греха, что заставляет меня возненавидеть грех, отвернуться от него.
Иногда ему и ничего не нужно было говорить. Он сам знал и сам спешил успокоить твое смущение. Одно время меня мучило: чей же я духовный сын? Если я слушаю беседы только отца Сергия, только его слушаю, только у него учусь, – не нужно ли прямо сказать Батюшке: «Батюшка, благословите меня перейти от вас к о. Сергию!» Но спросить об этом казалось почему–то невозможным, обижающим Батюшку. До самой последней минуты я так и не решил, скажу или не скажу. И вот во время исповеди Батюшка начинает меня обнимать и ласкать: «Вот какой у меня духовный сын! Мой духовный сын! Мой духовный сын!» И Батюшка начинает объяснять мне, почему поручил заниматься с нами отцу Сергию. «Пусть так и будет, а уж я буду наблюдать и молиться за вас».
Батюшка был необыкновенно скромен. Как–то говорю ему: «Батюшка, вот горе у меня – время очень занято, не могу посещать ваши беседы». – «А зачем тебе мои беседы? Ну, что я могу на них сказать? А вот ученые у меня есть, их беседы посещай непременно!»
Спросит: «Ходишь ли ты на беседы к о. Сергию?» – «Хожу». – «Непременно ходи».
Один раз останавливает: «Я слышал, как ты о. Сергию на беседе отвечал», – и смотрит такой довольный.
И вот издали, из–за других, почти незаметно, он вел тебя единственным путем, учил своей великой науке. И как радовался он, когда в какой–нибудь мелочи, в какой–нибудь черточке проскальзывало, что наука эта усвояется.
Один год я как–то особенно усиленно посещал разные московские храмы. Это было связано с большой затратой сил, своего рода было подвигом. Истощенный, голодный, после службы идешь вечером по страшной темной Москве пешком, без трамваев, куда–нибудь в Хамовники, в Кудрине, в Рогожскую – ко всенощной. Я считал это большой заслугой и как–то сказал об это Батюшке, думая, что он похвалит. Он только удивился. «А ты чего ходишь–то, чего ищешь?» Я так смутился, что не знал, что сказать. «Тебе что у нас не нравится, чего не хватает?» Наконец, решился сказать: «Пения». – «Ну вот, ты много ходишь по разным храмам, где же по–твоему поют лучше?» И я задумался. И вот все концертное пение показалось таким ненужным, фальшивым, несоответствующим великому таинству богослужения, и я мог назвать только один храм – Марфо–Марьинский. Батюшка так обрадовался, точно я выдержал какой–то экзамен: «Ах, Марфо–Марьинский, да, да, говорят, там хорошо поют, вот мне и Преосвященный Тихон все говорит, что хорошо, а мне все некогда, все хочу туда поехать. Ну вот и хорошо, хорошо».
Иногда он точно приоткрывал такой тайничок, точно впускал в свое сокровенное. Сам начинал учить. Один раз он рассказал мне о прилоге и о помысле. «Помни о прилоге, это тебе полезно знать и помнить». Один раз, когда я говорил о монастыре, приласкал меня и сказал: «А как, ты не пробовал Иисусову молитву. Ты бы и начинал к ней понемногу привыкать».
Уже изнемогающий, задыхающийся в последнюю зиму – его проводили по церкви. Только прикоснешься губами к рукаву его шубы. Он смотрит своими ласковыми глазами, а губы шепчут: «Отче Александре».
***
Последняя исповедь.
…«Не люблю, осуждаю, гневаюсь, завидую»… Он смотрит. Его глаза залиты слезами, он шепчет: «И это Александр, который был всегда такой любящий, такой терпеливый, такой кроткий, такой добрый!»
Батюшка, но когда же вы видели меня любящим, терпеливым, добрым? Или он плакал о том образе, о том первом Александре, которого я помутил своими грехами?
Я уходил. Он удержал меня:
– Почему ты не придешь ко мне?
Молчу. Ведь как объяснишь, что скажешь?
– Ты приходи. Придешь?
Молча отвечаю: «Приду». Но он обезпокоился:
– Нет, ты пообещай, что придешь ко мне.
Обещаю, Батюшка радуется. Радостный благословляет, радостный отпускает меня. «Ты приходи ко мне», – это его последние ко мне слова. Может быть, уже прозревая свою смерть, он, зная мою неустойчивость, хотел обещанием связать меня, чтобы я не отходил от него, не забывал его, чтобы я приходил к его могилке.
Исцеление. (Сила молитвы Батюшки отца Алексия)
Когда я вернулся из Сибири [126]126
Вот как описывает А. Добровольский свой последний, перед отъездом на службу в армию, приход на Маросейку: : Мой последний день в Москве и на Маросейке. 8 июля. Праздник явления иконы Божией Матери Казанской. На Маросейке это был храмовый праздник, и служба в этот день совершалась особенно торжественно. Я старался не проронить ни одного возгласа, ни одного песнопения, ни одной молитвы. Все запечатлеть, все впитать в себя, запомнить, унести с собой. Ведь теперь, может быть, долго–долго я не прикоснусь к этой животворящей атмосфере христианского храма, не войду в строй православного богослужения, не буду ощущать благодати совершающихся здесь таинств. Неожиданно мобилизованный, завтра ранним утром в партии таких же, как я, я уезжаю на фронт, в темное, внезапно разверзшееся передо мною будущее. И в какой момент! Когда сердце мое прилепилось к храму Божию, когда кроме храма, Божественной службы, все остальное уже не прельщало меня и не привлекало. Если бы была моя воля, я совсем бы убежал из мира, укрылся бы за монастырской стеной. Вечером я в последний раз пришел на Маросейку. Служили нервно, с каким–то особым подъемом. Храм, как всегда, был переполнен молящимися. Но вот служба кончилась. Что это? Батюшка вышел из алтаря на амвон и обращается ко всем замершим в ожидании его слов. Батюшка говорит. Я стою далеко. Я стараюсь уловить его слова. Он говорит обо мне: «Завтра один из наших братьев уезжает на фронт. Помолимся же все, все вместе, всем храмом, да благопоспешит ему Господь, да сохранит его Божия Матерь, наша Помощница и Заступница, и благополучно возвратит («возвратит» – здесь Батюшка особенно усилил свой голос) назад в наш храм…» И весь наш храм молился обо мне, об «отъезжающем», и как молился. Тихо и проникновенно пели сестры. Я весь молебен простоял на коленях. И как трепетало мое сердце, когда над затихшими молящимися зазвучал такой глубокий, трогательный, взволнованный, прямо к Богу идущий голос: «И молим Тя, Владыко Пресвятый, и рабу Твоему Александру Твоею благодатию спутешествуй… мирна же и благополучна и здрава… и паки цела и безмятежна возвращающа…» Когда после молебна я подошел к Батюшке в последний раз, он, благословляя, надел на меня крест и все не отпускал, и долго на меня смотрел сосредоточенный, задумчивый, внутренне углубленный. Так он все еще и еще молился за меня неслышной мне молитвой.
[Закрыть], я первым делом, конечно, пошел на Маросейку к отцу Алексею. Многое меня смущало. У меня собственно не было никаких документов, кроме телеграммы Луначарского и отношения Поарм–5 о том, что такой–то откомандировывается в распоряжение тов. Луначарского.
Батюшка меня успокоил: «Все устроится. Будешь жить в Москве».
И действительно молитвами дорогого Батюшки все устроилось, как он сказал. Я остался в Москве. Демобилизовался. Получил документы. Стал опять жить с мамой и Варей, как жил до Сибири. Нужно было где–то служить. И это устроилось. Через Серафимовича попал в ЛИТО Наркомпроса.
Существовать литературной работой в то время было почти невозможно. Писатели приспособлялись кто как умел. Устраивались на службу в качестве секретарей, референтов, консультантов при театрах, издательствах, в профессиональных организациях.
В Москве стали открываться книжные лавки, где торговали писатели. Группа моих товарищей Ютанов [127]127
Владимир Павлович Ютанов (1876—1950) – писатель.
[Закрыть], Ашукин [128]128
Николай Сергеевич Ашукин (1890—1972) – историк литературы, критик, поэт.
[Закрыть], Ляшко [129]129
Николай Николаевич Ляшко (1884—1953; псевдоним, наст, фамилия – Лященко) – писатель.
[Закрыть] открыли летом 1921 г. такую лавку у Серпуховских ворот, под вывеской «Литературное звено». Они уговорили меня бросить ЛИТО и присоединиться к ним.
Это место меня устраивало. Это не была казенная служба. Начальство было всё свои хорошие товарищи, которые были мне нужны.
Все случившееся со мной на военной службе в Сибири и в пути туда и обратно, Божественная милость и помощь, получаемая там не один, а десятки раз, конечно по молитвам Батюшки, привязало меня прочно и навсегда, так я хотел думать, к Церкви и к тому пути, которым вел меня отец Алексей. Храм и богослужение сделались для меня жизнью, воздухом, без чего вообще жизнь мне не мыслилась. На Маросейке я бывал каждый день вечером за всенощной. Конечно, каждое воскресенье и праздники у Литургии. Все мои путешествия я совершал пешком. Два конца из Демидовского переулка к Серпуховским воротам да два конца, а, может быть, и четыре на Маросейку – это ежедневно. А ведь еще надо было помогать маме и Варе. Очереди в магазинах, рынок, поиски продовольствия. Жизнь была тяжелая, голодная. Питался я собственно тем, что мне мог предложить Ютанов. Он жил на Малой Серпуховке, недалеко от нашей лавки. И вот его старая нянька каждый день приносила мне в лавку немного холодной каши. Дома была пища повкуснее, но тоже очень скудная.
А к этому надо еще прибавить, что я соблюдал все посты, выполняя длительное и строгое молитвенное правило с тысячными поклонами. Я худел, слабел и наконец свалился.
Картина болезни быстро выяснилась. Высокая ежедневная температура до 39°. Кашель, который душил и разрывал мне грудь. Ужасные ночные поты. За ночь мама переменяла мне не одну, а две рубашки…
Друзья мои всполошились. Степан Павлович Галицкий [130]130
«…Я никогда не забуду, – вспоминал А. Добровольский, – одну прекрасную пару: Евгению Александровну и Степана Павловича Галицких. Уже пожилые, они обладали такими нравственными достоинствами, что общение с ними было всегда полезно и радостно. Евгения Александровна сама была поэтессой, очень любила литературу, была ревностной посетительницей литературно–художественного кружка, дружила со многими крупными писателями, как, например, с Вячеславом Ивановым. Евгения Александровна была необыкновенно добрый, хороший и глубоко верующий человек. Когда я стал уже своим на Маросейке и в разговоре с Евгенией Александровной упоминал о Батюшке, она всегда очень оживлялась и начинала вспоминать: «А вы знаете, Александр Александрович, что отец Алексей венчал нас со Степой…» Батюшку она глубоко ценила, любила и почитала. Она умерла в 1925 году, в начале февраля. Весть о ее смерти пришла на Маросейку во время всенощной. Я стоял, как всегда, на своем месте, около столика с книгами, у окна, рядом с Евдокией Ефимовной Вишняк. Услыхав о смерти Евгении Александровны, Евдокия Ефимовна перекрестилась и сказала с твердым убеждением: «Ну, за Евгению Александровну нечего безпокоиться. Туда, куда пошла ее душа, там, где она сейчас, уже здесь ей все было знакомо»» (А. Добровольский. «1917—1918 годы»). С. П. Галицкий был видным московским хирургом.
[Закрыть], главный врач Сокольницкой больницы, лично посетил меня и внимательно осмотрел и не скрыл, что положение мое тяжелое. Он прописал мне полную неподвижность в постели, а затем посоветовал употребить все усилия, чтобы попасть в туберкулезный санаторий или больницу, так как наши домашние условия он нашел невозможными.
Горячее участие во мне принял отец Сергий. Он поручил сестре Павле держать его в курсе всего случающегося со мной, а сам начал изыскивать через многие связи какую–нибудь лазейку, чтобы добиться для меня приема и врачебного осмотра в одном из туберкулезных диспансеров. В те годы больных было множество и для осмотра надо было включиться в безконечную очередь, что крайне осложняло дело. А моей болезни шел второй месяц и положение мое было очень плохое.
Наконец стараниями отца Сергия устроилось, что меня вне очереди согласились принять в диспансере на Яузском бульваре (бывшая лечебница доктора Шимана). Павла стала подготовлять меня к этому осмотру.
Идти, конечно, надо было пешком. Меня все это страшило и волновало. Но я понимал, что это необходимо. Конечно, мы молились. Молились за меня и на Маросейке, молились все дома и сам я горячо молился.
И вот мы с Павлой пошли на Яузский бульвар.
Принял меня главный врач диспансера. Отнесся ко мне очень внимательно. Осмотр длился чуть ли не час. Я так от всего этого замучился, так устал, что домой пришел едва живой. Какой результат был от моего визита, что сказал доктор, – я уже ни во что не входил. Я сознавал, что дело мое плохо, чувствовал это по реакции моих домашних. Все кругом были страшно расстроены, и, как ни старались скрыть от меня свое горе, я видел, что все они, не переставая, плачут.
А надо было опять идти на Яузский бульвар, на рентген. Проделали мы с Павлой и этот второй утомительнейший путь.
О моей болезни знали уже все мои друзья. Очень встревожились и мои друзья писатели. Иван Алексеевич Белоусов [131]131
Иван Алексеевич Белоусов (1863—1930) – поэт, прозаик, переводчик, один из руководителей «Суриковского кружка», участник «сред» Н. Д. Телешева (см. прим.17).
[Закрыть] в своем разговоре с Телешовым рассказал, что вот погибает молодой писатель, и что надо что–нибудь предпринять, чтобы его спасти. Телешов [132]132
Николай Димитриевич Телешев (1867—1957) – писатель.
[Закрыть], в свою очередь, переговорил с Семашко [133]133
Николай Александрович Семашко (1874—1949) – в 1918—1930 гг. нарком здравоохранения.
[Закрыть], в то время наркомом здравоохранения, и заручился от него согласием на всякое содействие. Было намечено отправить меня в Болшевский туберкулезный санаторий. Так как мои родные не могли хлопотать за меня, за это дело взялся один знакомый мой, молодой поэт Петр Зайцев [134]134
Петр Никанорович Зайцев (1889—1970) – писатель, драматург.
[Закрыть]. Очень толковый и энергичный, он посетил все медицинские учреждения и центры, от которых зависело в то время направление больных, и связался с Семашко. Прежде всего от него потребовали справки от моего диспансера, что у меня действительно открытый процесс, и Зайцев эту справку получил.
Я ко всем этим хлопотам оставался безразличным. Теперь, когда картина моей болезни была совершенно ясной, мне хотелось только одного – увидать Батюшку и просить его приготовить меня к возможному концу, исповедовать и причастить.
***
Я думал, если я сам два раза смог дойти до Яузского бульвара, почему я не дойду до Маросейки, и я просил через Павлу Батюшку, чтобы он разрешил мне придти в церковь ко всенощной накануне праздника Святителя Николая 6–го декабря. Ответ от Батюшки пришел такой: «Ко всенощной придти мне нельзя, а чтобы я пришел в самый праздник, и так, чтобы быть в храме между ранней и поздней обеднями. Тогда Батюшка примет меня на исповедь, а за поздней обедней меня причастит».
Замечательно, что вечером накануне 6–го декабря все, кто приходил с улицы к нам в дом, рассказывали, что творится что–то невозможное: такой буран, такой снег, такая метель. Я заволновался, – а как же я пойду завтра, но утром погода была изумительная, так было все тихо, спокойно, такое чистое небо.
Мы с Варей, сопровождавшей меня, вышли из дома очень рано. Я боялся, что, так как я ходил очень плохо, мы опоздаем и не исполним наказ Батюшки. Но мы пришли точно, как он велел.
Какая радость охватила меня, когда я стал подниматься по лестнице наверх в храм. Опять я в этом святом и дорогом мне месте. Все кругом встречали меня так приветливо. Уступали дорогу. Меня провели мимо длинной очереди стоявших к исповеди, и поставили на амвон первым, чтобы первым идти к Батюшке. И сейчас же я увидел его. Он шел ко мне своей быстрой походкой, протягивая ко мне руки. Такой бодрый, светлый.
– А я все спрашиваю всех, где же отец Александр? Говорят болен. Опять спрашиваю, – да что же нет отца Александра? И опять слышу, – он очень болен.
Батюшка прижал меня крепко к себе, потом как–то оттолкнул и пристально, пристально на меня взглянул.
– И опять говорят, он очень болен, – повторил он, как–то задумавшись.
Мы стояли у аналоя с крестом и евангелием. Я хотел опуститься на колени и начать исповедь, но Батюшки уже не было около меня. Я только видел, что он ушел в алтарь.
Я сосредоточился в молитве и как–то забылся. Ко мне шел Батюшка. Он взглянул на меня так радостно, точно он только сейчас меня в первый раз увидел. Он смотрел на меня пристально, пристально. Его глаза как–то раскрылись, углубились. Он дышал прерывисто, точно после крутого подъема, точно он сейчас всходил на высоту или быстро с нее сошел. И сейчас же Батюшка повернулся, и опять ушел в алтарь.
Я ничего не понимал, что происходит. Почему Батюшка только вернется и сейчас же опять уходит. А Батюшка уже снова подходил ко мне. Я невольно упал на колени.
Такого Батюшку я никогда не видел. Он был точно охвачен духовным восторгом. Он ликовал. Его лицо было полно такого света и радости, что я, не смея на него смотреть, приткнулся лицом к аналою. И сейчас же Батюшка накрыл меня епитрахилью и крестя всего, – спину, голову, грудь, прочел разрешительную молитву.
Я поднялся. Я все еще боялся взглянуть на него. Слышу его спокойный, громкий, немного глухой голос:
– Отстоишь Литургию.
(Слово «отстоишь» он как–то отчеканил, даже рукой сделал приказывающий жест).
– Отстоишь Литургию, отстоишь молебен, после молебна подойдешь ко мне.
Всю службу и молебен я стоял, как Батюшка мне велел. Варя несколько раз упрашивала меня:
– Саша, ты бы сел, ты же очень устанешь, – но я отмалчивался. Кончился молебен. Мы с Варей подошли к Батюшке. Он ласково, но молча, благословил и пропустил нас, и мы пошли домой.
Пришли мы домой в пятом часу. Мама встретила нас в страшной тревоге. До того она переволновалась, что нас так долго нет. Она думала, что с нами что–нибудь случилось.
– Саша, ложись скорей. Я пойду разогревать тебе обед. Только поставь градусник.
Я лег. Я так устал. Мама подошла взять градусник.
– Ну вот, ты так устал, что даже держать градусник не мог. На поставь снова.
Через десять минут она вынула его и очень разволновалась.
– Градусник наш испортился.
Она принесла другой. Но другой показал все то же: 36 и 5. У меня была нормальная температура. В первый раз после двух месяцев. А я так устал, что, не дождавшись обеда, уснул.
На другой день утром температура опять была нормальная. Мама спросила:
– Ты принял лекарство?
– Да нужно ли? – ответил я. – Я совсем не кашляю.
Так прошло два дня. Пришел Зайцев. Он мне рассказал, что все налажено. Теперь дело за одной формальностью. Надо получить заключение врачебной комиссии. Без этого меня не могут направить. Я сказал, что я на очереди, но что очередь не скоро. Надо ждать.







