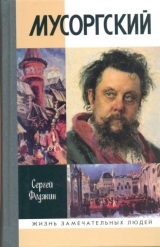
Текст книги "Мусоргский"
Автор книги: Сергей Федякин
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 35 (всего у книги 43 страниц)
И всё ему не сиделось в Царском, хотелось поделиться написанным. Ездил по чугунке в Питер, показывал. 10 сентября заскочит к голубушке Людмиле Ивановне, а на обратном пути узнает: «Направник победил», – и тут же пошлет бодрую вес-точку Шестаковой. Там же присовокупит: «Работаю много. Удачно состряпалась народная (стрелецкая) сцена „Хованщины“».
Отпуск пролетел быстро. Но и поработалось. Было чего показать « généralissime».
* * *
Октябрь 1876-го. Ветер носит опавшие листья. Владимир Васильевич Стасов пишет в Тверь, Голенищеву-Кутузову. Желает кратенько сказать о главных новостях… – «Глинке поставлен будет мраморный бюст 27 ноября в фойе Мариинского театра; работы Чижова,на деньги Громовых,натурально все по „интригам“, как говорит Щербач, „дрянной старушонки“. Государь уже позволил». (Стасова коробило от наименования «дрянная старушонка», – так Щербачев пошучивал, называя Шестакову, – но почему-то противное прозвище то и дело приходило на ум, когда он брался за письма, и приходилось спасаться кавычками.) «Мусорянин сочинил много чудесного,летом, и вдобавок спустил весь свой жир и весь красный нос – а пешком ходит по целым верстам!!!» (Мусоргский действительно этим летом его восхитил, «Бах» и не ожидал, что тот столько всего настряпает.) «Бородин привез не много, но рас-пречудеснейшихвещей, из Москвы. Особливо меня восхищает „процессия бочки“, песня с гудком и хором (все это в 1-й акт), и великолепный страстный дуэт Ярославны с Игорем, после возвращения этого последнего». И далее – о новом таланте, Анатолии Лядове с его крошечными фортепианными «Бирюльками», о музыкальных субботах у Корсаковых, кои скоро начнутся. Были и еще новости: картина Репина «Садко» удалась лишь наполовину, в остальном – «просто так-таки и шлепнулся – плохо!», Тургенев напечатал плохие стихи, Щербачев объявился после долгого отсутствия.
Осень начиналась неплохо. Неприятная неожиданность случится на тринадцатом представлении многострадального «Бориса»: он выйдет без последнего действия, без сцены под Кромами. Стасов вспыхнет. Напишет гневное письмо – «Урезки в „Борисе Годунове“ Мусоргского» – в редакцию газеты «Новое время». Будет сердиться, язвить, издеваться: а что если Академия художеств «возьмет да отрежет аршина два из картины, которая, по ее премудрости и „опытности“, покажется ей не вся хороша от низу и до верху»?
В газетных откликах на сокращенного «Бориса» зазвучат знакомые мотивы. Ларош в «Голосе» уже по привычке запоет про старую песню: «сапоги всмятку», Кюи вздохнет о «лучшем действии», заметив, что лучше бы его сдвинули, поставили перед смертью Бориса. Михаил Иванов из «Нового времени» пожурит Мусоргского за искажение Пушкина, но подосадует об исчезновении последней сцены: «У г. Мусоргского есть положительный талант в рисовке народного движения».
Постановка изрядно попортит нервы композитору. Уже после его смерти Стасов припомнит эту осень. Уверен будет: поступок театрального начальства, урезавшего оперу, тяжело отзовется на самочувствии автора «Бориса». Впрочем, в воспоминаниях Голенищева-Кутузова, написанных «в противовес» стасовским, всё выглядит иначе:
«Мусоргский не только одобрял это сокращение, но был даже особенно им доволен. Вполне соглашаясь с ним, что этот последний акт до очевидности был лишний в ходе всей драмы и имел характер чего-то наскоро приклеенного и приделанного (как оно в действительности и было), я, тем не менее, очень жалел о его полном пропуске, так как находил в нем много музыкально хорошего и потому говорил Мусоргскому, что я предпочел бы видеть „Бориса“ с этим актом, но только передвинутым вперед, чтобы въезд Самозванца в Кромы предшествовал смерти Бориса. Мусоргский оспаривал это мое мнение и однажды в горячности высказал, что полного его пропуска требует не только ход самой драмы и условия сцены, но и его – Мусоргского – авторская совесть. Я удивился и попросил объяснений.
– В этом акте, – ответил мне Мусоргский, – я, и притом единственный раз в своей жизни, налгал на русский народ. Издевательства народа над боярином – это не правда, это не русская черта. Рассвирепевший народ убивает и казнит, но не издевается над своей жертвой.
Я должен был согласиться.
– Вот то-то и есть, любезный друг, – серьезно и строго добавил он, – художнику не следует такими вещами шалить. В „Хованщине“ того уже не будет, что было в „Борисе“, хотя многие, может быть, на меня за то и осерчают, только я теперь уже этого серчанья не страшусь, – и вам, господин поэт, советую намотать себе на ус правило: оставаться всегда самим собою, говорить только правду, не слушать ничьих советов».
То, что последняя фраза должна было когда-либо слететь с композиторских уст, в том нет никаких сомнений. Твердость в самостоянии он внушал везде и во всем. Но мог ли одобрить урезку? Разве что под влиянием минуты. К осени 1876 года он почти все знал об эпохе «Хованщины». И знал, как может вести себя – пусть не народ, пусть – толпа. Стрельцы, завалившие Москву трупами, измывались и над мертвецами, и над теми, кто вскорости должен был стать мертвецом. Жестокий юмор предсмертного «величания» жертвы встает за страницами свидетельств, оставленных очевидцами. Записки Крекшина, Матвеева, Сильвестра Медведева не оставляют в том никаких сомнений. Мусоргский всегда предпочитал говорить правду, как бы тяжела она ни была. И если, в минуту сомнения, мог он высказать и одобрение «урезанному» варианту оперы, то как художник смириться с укороченным вариантом вряд ли мог.
Впрочем, к другу Арсению хаживал, и частенько. Обед у графа был уже иной, нежели в холостяцкие годы, – всё было обстоятельнее, солиднее. После Мусоргский садился за рояль. Начинались импровизации. Некоторые приводили друга в неизъяснимый восторг. Мусоргский заносить сочиненное на нотную бумагу не спешил. Потом и вовсе забывал. Спустя недели, а то и месяцы Кутузов мог вдруг напомнить удивленному приятелю музыку, родившуюся под его пальцами.
Год принес много надежд и много разочарований. В декабре удалось записать от знакомых несколько народных песен, к которым композитор всегда питал особое пристрастие. С началом рождественских праздников напишет Стасову бодро: «Начинаю отдыхать, и, следовательно, работа кипит». Шестаковой – совсем иное по тону: «Вы одна и только Вы, голубушка, дали мне утешение тем, что вполне поняли меня: теперь только я начинаю сознавать, что был притомлен до безумия».
Усталость, усталость, усталость. Этим заканчивался еще один год его «Хованщины». Хотелось передышки. В письме Стасову – и о том, что он успел открыть для себя, и о желании отвлечься на небольшие вещи:
«Вы знаете, перед „Борисом“ я дал народные картинки». (Конечно, вспомнил «Савишну», «Семинариста», «Озорника», «С няней».) «Нынешнее мое желание – сделать pronostic [198]198
Предсказание (фр.).
[Закрыть]и вот какой он – этот pronostic, жизненная,не классическая мелодия. Работою над говором человеческим я добрел до мелодии, творимой этим говором, добрел до воплощения речитатива в мелодии (кроме драматических движений, bien entendu [199]199
Разумеется (фр.).
[Закрыть]когда и до междометий дойти может). Я хотел бы назвать это осмысленною / оправданною мелодией. И тешит меня работа; вдруг нежданно-несказанно пропето будет враждебное классической мелодии (столь излюбленной) и сразу всем и каждому понятное. Если достигну – почту завоеванием в искусстве, а достигнуть надо. Желал бы дать на пробу несколько картинок. Впрочем, задатки уже есть в „Хованщине“ (кручина Марфы перед Досифеем) и в „Сорочинской“ – обе начеку!»
Что мог подумать «Бах», получив это послание? И то, что Мусорянин твердо идет своим путем. И то, что новые сиены «Хованщины» в ближайшее время появятся вряд ли.
Годы испытанийВ 1877 году обнаружился этот мучительный перелом в его жизни. Что-то случилось. Спустя полгода, в августе, в сумбурном рассказе Голенищеву-Кутузову о последних новостях, Стасов опишет встречу с «Чайкуном» [200]200
То есть П. И. Чайковским.
[Закрыть], который был подчеркнуто милостиви сердит – за то, что Стасов не признавал его оперу, его «Вакулу». Следующий пассаж в этом говорливом послании прерывается на самом загадочном месте: «Вот как вредно иной раз говорить людям правду!! Пожалуй, однажды и Вы тоже меня разорвете на куски! Что мудреного: ведь разошелся было совсем со мною однажды сам Мусарион, и за что? – за…»
Так и не сказал, что развело их с Мусоргским, оставив многоточие, не сказал и когда это произошло. Всего легче припомнить злополучную историю с венком в день премьеры «Бориса». Но ведь речь здесь шла совсем о другом, – о той «правде», которую Стасов должен был когда-то сказать Мусоргскому.
Двадцать четвертого марта Стасов пригласит Александру Николаевну Молас с мужем к себе на вечер. Припишет: «Что же до Мусорянина, то я не уверен, что он сдержит свое обещание и будет, а все-таки я Вас попрошу захватить несколько хорошихромансов» [201]201
Орлова А. А.Труды и дни М. П. Мусоргского: Летопись жизни и творчества. М., 1963. С. 492.
[Закрыть]. Значит, в марте Мусоргский не очень стремился видеть старых знакомых? 29 марта в письме Репина к Стасову проскользнет фраза: «Жаль Модеста Петровича» [202]202
Репин И. Е.Письма. Т. II. С. 15.
[Закрыть]. Это о том, что Мусорянин совсем завяз в «Малом Ярославце»? В посмертном очерке о Мусоргском – хоть временные границы здесь будут несколько смазаны – именно это время покажется Стасову началом и жизненного и творческого падения композитора: «…Под влиянием слабеющего здоровья и потрясенного организма, талант его стал слабеть и, видимо, изменяться. Его сочинения стали становиться туманными, вычурными, иногда даже бессвязными и безвкусными».
Еще недавно в рождественском письме Мусоргского Шестаковой прозвучала фраза: «Голубушка моя, дорогая Людмила Ивановна, только Вы однаВашим чудесным любящим сердцем познали, что привелось сделать Вашему Мусиньке в этом сезоне по искусству. В какой степени я послужил искусству…» Значит, «Бах» уже высказал какие-то критические соображения? По-прежнему считал сценарий «Хованщины» несценичным? И, быть может, вовсе не из-за урезок в «Борисе», а из-за этого разногласия композитор был «притомлен до безумия»?
После творческого подъема в Царском Селе так и не появилось ни новых произведений, ни законченных отрывков из опер. Осенью 1876 года композитор словно бы не мог сойти с какой-то мертвой точки в сочинительстве. Творческая оцепенелость ощутима и в январе 1877-го. Что-то невнятное и мучительное висело в самом воздухе. В апреле Щербачев на приглашение Стасова ответит, что не хочет встречаться с недавними товарищами: «Ничего неестественного не будет в том, что невзначай явятся к Вам Мусоргский, Кутузов, Катенин и пр. и пр., а я бы счастлив был с ними не встречаться до поры до времени». Отсутствие Щербача, который и так часто «пропадал», было, наверное, не очень-то ощутимым. Но уход из театра той, чьими заботами «Борис» попал в репертуар Мариинки, Мусоргский должен был переживать по-настоящему.
Юлия Федоровна Платонова… Она была Наташей в «Русалке» А. С. Даргомыжского и Донной Анной в «Каменном госте», пела в «Ратклифе» Цезаря Кюи и в «Псковитянке» Римского-Корсакова. Говорили – не самый яркий голос на сцене Мариинского театра. Но – это уж несомненно – один из редчайших драматических талантов. Она была влюблена в «Бориса Годунова». Контракт с певицей так и не был продлен дирекцией, не за прежнюю ли строптивость?
Прощальный концерт прозвучит 17 февраля 1877 года в зале Кононова. Вместе с Платоновой будут петь ее товарищи по сцене. Будут звучать и чисто инструментальные номера. В программе, кроме Баха, Шумана, Шуберта, Шопена, Листа, Гуно, Массне, зазвучат Глинка, Даргомыжский, Балакирев, Рубинштейн, Кюи, Лодыженский, Мусоргский… И музыканты будут сменять друг друга. И Мусоргский будет аккомпанировать. И рассерженный чересчур «русским» содержанием концерта рецензент вдруг заметит: «В заключение мы не можем не сказать несколько слов о г. Мусоргском как аккомпаниаторе. В Петербурге, по нашему мнению, он может считаться лучшим аккомпаниатором и соперников не имеет. У него настолько сильно развито чувство меры, что он никогда не заглушит певца, всегда точно соразмеряет степень своей силы с голосом, где нужно стушевывается совершенно и в других местах является певцу поддержкою… Если бы г. Мусоргский сочинял так же, как аккомпанирует, то он явился бы истинною поддержкою русского искусства».
Двадцать шестого февраля в зале Дворянского собрания, в концерте Русского музыкального общества, под управлением Э. Ф. Направника, в первый раз прозвучит Вторая симфония Бородина, которая в историю русской музыки войдет под именем «Богатырской». Мусоргский очень любил эту вещь, называл «Героической славянской симфонией», намекая на «Героическую» Бетховена. Симфония была встречена без особого подъема у публики. Нашлась даже небольшая часть слушателей, которая принялась шикать. И была молодежь, которая устроила Бородину овацию. Вскоре после этого концерта в Мусоргском, наконец, опять проснулась музыка. Романсы, и все – на стихи Алексея Толстого. В ночь с 4 на 5 марта – «Не Божиим громом горе ударило…», 9-го – «Горними тихо летела душа небесами…», в ночь с 15-го на 16-е – «Спесь», 20-го – «Ой, честь ли то молодцу лен прясти…», 21-го – «Рассевается, расступается…». И каждый раз – словно сказано что-то о самом себе.
Не Божиим громом горе ударило,
Не тяжелой скалой навалилося;
Собиралось оно малыми тучками,
Затянули тучки небо ясное,
Посеяло горе мелким дождичком,
Мелким дождичком осенниим…
Начиналось с мрачных басов. Потом песня превращалась в драму. Горе подкатывает мелкими неприятностями – и вот оно уже полонило тебя целиком. Другим же – выпадает «счастьице»: «Налетало горе вихрем-бурею…»
После этого признания – еще одно, струящимися звуками фортепиано. И опять о сокровенном:
Горними тихо летела душа небесами,
Грустные долу она опускала ресницы…
У Тютчева будет пронзительнейшая строчка: «Так души смотрят с высока на ими брошенное тело». У Алексея Толстого стихотворение об этом, но – подробнее. Но зато и ответ «отлетевшей» души – как дуновение из иного мира, что коснулось композитора:
О, отпусти меня снова, Создатель, на землю,
Было б о ком пожалеть и утешить кого бы!
Чья сердобольная душа взирала на его непутевую судьбу – матери? Надежды Петровны Опочининой? Или это – о своей душе, вечной сочувствовальнице, и о неизбежном?
Третья песня – контраст к сдержанному отчаянию первой и просветленной печали второй: «Ходит Спесь, надуваючись, с боку на бок переваливаясь…» Ощутимы народные, «крестьянские» лады. Кто вставал перед его мысленным вором? Музыкальные недруги? Консерваторские круги, щеголявшие «знанием теории»? Высшие чины, коих он мог лицезреть в своем департаменте?
И снова о своей судьбе. Когда служба пожирает жизнь, когда мучит тоска о вольном творчестве:
Ой, честь ли то молодцу лен прясти?
А и хвала ли боярину кичку носить?
Воеводе по воду ходить?
Гусляру-певуну во приказе сидеть?
Во приказе сидеть, потолок коптить?
И после резких, в музыкальной основе очень русских реплик – полетное мечтание:
Ой, коня б ему! гусли б звонкие!
Ой, в луга б ему, во зеленый бор!..
Последний романс, с попыткой преодолеть подступившую тоску («Рассевается, расступается грусть под думами под могучими…»), завершается с тою же безнадежностью:
Прикачнулася, привалилася
К сердцу сызнова грусть обычная…
Уже вдогонку – 6 апреля, без особой внутренней необходимости родится еще один романс, «Видение». Уже на слова Арсения. Его композитор посвятит певице Елизавете Андреевне Гулевич, сестре жены своего друга.
Романсы на слова Толстого, похоже, возникли не без некоторого воздействия Александра или Владимира Жемчужниковых (с обоими братьями он уже был знаком), друзей Алексея Константиновича. Темы их лежат в болезненной близости от чувства собственной судьбы. Но есть и другая причина их появления – творческая.
Правда – вот к чему он стремился всегда, стремился прежде всего. Пусть она будет неожиданной, только бы звучала не та привычная до пошлости музыка, которая уже утратила всякую связь с живой жизнью. Когда он написал первое действие «Женитьбы», его и хвалили, и корили. И общее мнение товарищей по искусству было: это невозможно на сцене. Когда был написан «Борис» – опять те же слова, но уже в репертуарном комитете. «Борис» переработан, в нем появились нужные «женские партии», но опера пошла с купюрами. И вот уже и о сцене под Кромами говорят, что она – «привесок», что в музыкальной драме это ненужное звено.
Он работает над «Хованщиной». В звуках проступает и психология героев, и – что еще труднее дается – сама русская история. И уже Стасов, который воодушевлялся и сценой под Кромами, и тем, что она венчает оперу (тогда это было так непривычно!), – этот же Стасов предлагает переделки, которые напоминают превращение необыкновенно задуманной драмы в привычное оперное действо, лишь «наряженное» в костюмы XVII века. Та правда,которую пестовал Мусоргский, те идеи и звуки, что находились бессонными ночами и с таким трудом, – всё это вступало в противоречие со сценой. Не то после урезок в «Борисе», не то после каких-то замечаний Стасова он приостановил и «Хованщину», и «Сорочинскую». Нужно было постичь нечто в самой музыкальной драме, в самой ее основе.
К «Борису» он подбирался через «народные сценки». Ведь, в сущности, «Савишна» – первый эскиз его юродивого… Для новых опер понадобился Алексей Толстой, его стихи со старо-русским «привкусом», с «былинным» началом. С попыткой приблизиться к народной песне, причем в самой основе, не прямолинейно, не через стилизацию, но через живое с ней соприкосновение. Лирическое стихотворение у Толстого оставалось именно лирическим стихотворением, но за каждой строчкой светилась былинная Русь.
Через эту скрытуюпесенность Мусоргский начинает заново постигать свою будущую музыкальную драму.
Семнадцатого апреля, сразу после серии написанных романсов, он встретится с П. И. Пашино, путешественником-ориенталистом, подлинным знатоком Востока, знавшим множество восточных языков. От него записывает народные песни – бирманскую, закавказскую, киргизскую, песнь дервиша. С тою же целью, – понять иную, нерусскуюнародную музыку, – он через три недели запишет еврейскую песню от скульптора Гинцбурга.
Народная музыка, самая основа ее напевов, – это запечатленная в звуках народная душа. Впитывая эти звуки, можно постичь души народов. И одна душа непохожа на другую. И в мелодической основе каждой – особые музыкальные законы.
Мусоргский вслушивался в мировую музыку, проникал в эти напевы. В конце жизни он будет мечтать об одном необычайном произведении – большой сюите для оркестра с арфами и фортепиано «От болгарских берегов через Черное море, Кавказ, Каспий, Ферган до Бирмы». Русская музыка была иной, нежели европейская. Бирманская, кавказская, киргизская, еврейская – это новые, почти неисследованные музыкальные миры. И каждый – своеобразен, каждый – самодостаточен. И каждый говорил о том, что скучные «консерваторские» законы голосоведения – не есть правда, но только лишь одна из возможностей. Он хорошо знал древнерусское пение и уж, наверное, знавал и кокизники, сборники попевок, устойчивых мелодических оборотов. А здесь – словно бы учуял нечто подобное и в музыке иных народов. Вряд ли ему в голову пришло бы выстраивать законы каждой, выводить новые и новые «неевклидовы геометрии» музыки, создавать «периодический закон» для мотивов, как Менделеев сделает это для химических элементов. Но, в сущности, его ненаписанная сюита – то же самое, только схваченное чутьем и призванное быть не мертвой схемой, но ожить.
Против киргизской песни сбоку приписано: «NB для последней оперы „Пугачевщина“. В его сознании мерцал уже и этот замысел. Столь же мощный народный разгул, как в „Кромах“, как в „Хованщине“. Только теперь в водоворот событий будут втянуты и киргизы. Для „Пугачевщины“ он хотел отчасти опереться на „Капитанскую дочку“. Пушкинская ясность – в языке, в сюжете – могла стать хорошим подспорьем при создании сценария и либретто. Но хотел он привлечь и другие материалы: как всегда, чужой канвы ему не хватало для воплощения своего видения русской истории.
Музыкальная драма по-прежнему виделась ему главным родом его композиторского искусства. Но чтобы достучаться до современников, нужно было найти какое-то решение, понять сокровенную ее природу, чтобы самые неожиданные свои замыслы согласовать с живыми законами сцены.
Песенную основу, которая становилась теперь основанием его опер, он еще раз „испытал“ в романсах на стихи Алексея Толстого. Теперь лишь „сценичность“ стала тем тормозом, который не давал возможности приступить к спокойному сочинительству.
„Хованщина“ была сложнее „Сорочинской“ во всех смыслах. И он, похоже, решил остановиться теперь на „Сорочинской“.
Девятнадцатого мая, в гостях у милого „дедушки“, Осипа Афанасьевича Петрова, записывает сценарий этой „гоголевской“ оперы. Осип Афанасьевич и Анна Яковлевна очень ждали ее. Теперь ему хотелось с ними, столь близкими людьми и столь опытными артистами, побеседовать. И Анна Яковлевна конечно же не откажет во внимании, когда будет рождаться этот сценарий. Здесь, на квартире Петровых, он и запишет его – твердым своим почерком. Жизнерадостная, солнечная повесть Гоголя была разбита на эпизоды: начиная с оркестровой прелюдии „Жаркий день в Малороссии“, через разноголосицу ярмарки, жуткую историю о Красной Свитке – к сватовству и финалу.
Летом Мусоргский поселится опять в Царском Селе. Удача прошлого года давала надежду, что и сейчас он сумеет добиться для своих замыслов должного воплощения.
* * *
С первых же дней царскосельского „сидения“ он ощутил творческое горение. Пока ему было не до умиротворенной „Сорочинской“. Тревога жила в мире. Шла война с Турцией. Сводки о боях за Шипку приносили известия о больших потерях. Он берет стихотворение Арсения „Торжество смерти“. Меняет название: „Полководец“. В конце своей четвертой „макабры“ ставит дату: „Царское Село. 5 Июня 1877. М. Мусоргский“. На титуле выведет: „Графу Арсению Аркадьевичу Голенищеву-Кутузову“. Через два дня русские войска возьмут Шипку, освобождая проход на Балканы.
„Макабра“ начинается с повествования: битва, огонь, выстрелы, бег людей, кровь… Музыка поддерживала голос, рисуя – по-своему – ту же картину. Но вот – ночь, туман, стоны, мучительный лунный свет. Всадник на коне объезжает мертвое поле. Это – смерть-полководец:
На холм поднявшись, оглянулась,
Остановилась… улыбнулась…
И над равниной боевой
Пронесся голос роковой…
Повествование кончилось. Начинается марш, в котором соединился траур с торжеством. Это поет уже сама смерть:
Кончена битва – я всех победила!
Все предо мной вы смирились, бойцы.
Жизнь вас поссорила – я помирила.
Дружно вставайте на смотр, мертвецы!
Ритмические сбивки в этом шествии дают совершенно зримое впечатление: смерть – всадник, конь идет, чуть приплясывая, по неровному полю. Это марш уже не просто траурный, но и – кавалерийский. С последней строфой музыка делает что-то странное. Период построен чуть иначе, нежели раньше, он укладывает в себя три строки:
Пляской тяжелою землю сырую
Я притопчу, чтобы сень гробовую
Кости покинуть вовек не могли…
Четвертая – отделена. Звучит как вывод, как непреложность:
…Чтоб никогда вам не встать из земли.
„Полководец“ нравился ему самому. Через два месяца Мусоргский покажет его у Людмилы Ивановны. Петр Андреевич Лодий – в скором будущем артист Мариинки – исполнит эту вещь дважды. Мурашки пробирали от этого тенора. С Кутузовым поделится впечатлением о своей „Макабре“: „Какая-то пригвождающая к месту, какая-то неумолимая, смертельная любовь слышится! Это, как бы сказать точнее: смерть, холодно-страстно влюбленная в смерть, наслаждается смертью. Новизна впечатления неслыханная!“
Следом за „Полководцем“ он довершил-таки давно уже звучавший в голове хор „Иисус Навин“, запечатлев уже на нотной бумаге ту силу слова, которой пророки и вожди способны были останавливать солнце. Когда-то часть этой музыки была „Боевой песней ливийцев“, входила в оперу „Саламбо“, так им и неоконченную. Он сам переложил текст шестой главы из библейской „Книги Иисуса Навина“:
„Стой, солнце! Велением Иеговы сокрушить Израиль должен хананаев нечестивых, непреклонных откровенью. Гайга, гайга, гайга! Пали стены Иерихона!..“
На партитуре оставил помету: „Основан на народных израильских песнях“. Сам сюжет – как слово могло разрушить стены неприступного города и даже остановить солнце – отсылал и к началу „Евангелия от Иоанна“:
„В начале было Слово. И Слово было у Бога. И Слово было Бог“.
К этой евангельской истине подходит всякий великий художник, будь то писатель, живописец или музыкант. Божье Слово – не имеет людских границ. Оно может явиться и вспышкой молнии, и ударом грома, и радугой. Оно может быть произнесено и устами, и жестами, и образом жизни, и – музыкой. Способно воплотиться в любом деянии, будь то монашеское затворничество, общественное поприще, инженерный проект или – искусство.
Но слушая Божественный Глагол, великий художник обрекает себя на полное одиночество. Он и не может не быть одинок: слишком необычно то, что он создает, слишком он „странен“ для современников. „Иисус Навин“ явился к Мусоргскому как последнее озарение того необыкновенного 1874-го. Зазвучал в сознании… На бумагу нотную лег лишь через три года.
Он часто сочинял именно так – держал в голове, не торопясь записать нотами. И сколько будущих композиторов, боготворивших его дар, будут сокрушаться о незаписанном. Хотя бы остались черновички, по которым можно воссоздать произведение!
Не хотел торопиться, записывать еще сырую музыку. Мог годами держать свое детище в голове, всё более совершенствуя, всё более приближаясь к последней правде. Почему-то именно теперь, в 1877-м, так ему нужно было запечатлеть эту древнюю силу слова: „Слушай, Израиль. Остановилось солнце!“ Тревожили вести с войны? Или вкладывал в этот символ что-то чрезвычайно важное для себя? На этот раз он уже почти готовое произведение пересочинил заново. В его письме к Голенищеву-Кутузову еще ощутима творческая горячка: „На темы, тебе уже известные, сделана эта вещица, но ты не узнаешь ее, т. е. узнаешь твоего скромного Модеста, приступившего к работе с намерением осилить сюжет“.
Библейское напутствие: „В начале было Слово“. Поэзия, литература – вспоминают его всего чаще. Совершить что-то в мире можно, лишь став подобием Божьего Слова. И Пушкин задаст тон всей русской культуре: „Но лишь Божественный глагол до слуха чуткого коснется!..“
Мусоргский чувствовал: музыка (как и вообще искусство) – тоже слово. Потому она и может стать беседой.И само творчествоесть „образ и подобие“ Творца.В своем внешнем отношении к религии Мусоргский был человеком своего времени, он так же, как „шестидесятники“, верил в науку и прогресс. Да и свое символическое произведение рождал с дотошностью ученого-историка, изучая карту Ближнего Востока времен Иисуса Навина. Но через собственное творчество он ощутил „образ и подобие“. И силу слова запечатлел в своем хоре, чтобы яснее показать и силу музыки.
Он словно заклинал свое творчество. Дмитрию Васильевичу Стасову, который хлопотал о публикации его вокальных сочинений, накануне завершения „Навина“ пишет: „…Чтобы время дорогое не терять напрасно, вооружился пером, да и написал № 4 макабры, т. е. смерть как полководец, и так-таки и назвал – „Полководец“. А теперь, рваный по службе, под вечер, собрав свои лохмоточки, пишу еврейский хор „Иисус Навин“, если помните – в один из художественных вечеров у Вас, признанный чудесной т-те la baroime Anna Hinzbourg за authentique [203]203
Г-жой баронессой Анной Гинцбург за подлинный.
[Закрыть].A там и оперы мои воспрянут“ [204]204
Письмо к Д. В. Стасову, написанное в ночь с 14 на 15 июня 1877 г.
[Закрыть].
После „Навина“ „Сорочинская“ действительно воскресла. Появилась – вместе с частью второго действия – „Песня Хиври“, одна из жемчужин этой оперы.
Хозяйка („чем не молодэнька?“), выпроводив мужа, измаялась, ожидаючи любезного сердцу поповича, наготовив ему галушек, пампушечек и прочей снеди. Дабы развеселить себя – поет. Это и живая песня, где ритмика, интонации – всё „вытанцовывает“ ясную Малороссию. Но это и маленькое драматическое действо»:
Отколи ж я Брудэуса
Встретила, встретила,
Не одни же черевики
Вносила, вносила.
Переходы, переливы, ускорения, замедления… Целая история «в лицах»:
Брудэуса на войну,
А Брудэус: «Не пойду,
Мне милей в могилу лечи,
Лишь бы не слыхать картечи…»
Тут был найден самый характер Хиври. Но вместе с тем и какой-то мелодический «ключ» к будущей опере.
«Сорочинская» захватила его. В середине августа он сообщит Голенищеву-Кутузову:
«А я, друг милый, довольно изрядно в „Сорочинскую“ погрузился, так что если бы господь помог вести дело дальше при таких же условиях, то полагать можно бы в сезон, следующий за наступающим, общими силами решить: хорошая или плохая опера „Сорочинская ярмарка“».
Но нотной бумаге пока запечатлелась только Хивря и часть второго действия. В голове и на фортепиано уже проступала значительно большая часть. Он подступал уже и к «ядру» оперы – рассказу о Красной Свитке. В нем проснулась и жажда, и радость творчества: «только краски наводи» [205]205
Письмо к Голенищеву-Кутузову от 15 августа 1877 г. из Царского Села.
[Закрыть].
Через неделю после столь приподнятого письма от Мусоргского Голенищев получит другое, писанное Стасовым. И среди кучи новостей, – о неожиданной свадьбе Чайковского, о своем переезде на другую квартиру, о «Фиме»-Лодыженском, который уже становится немножко известным на дипломатическом поприще, – фраза о Модесте: «…Про Мусариона равно ничего не знаю за все лето: говорила только раз как-то „негодная старушонка“ Щербача, что он написал какую то сцену Хиври и еще что-то, но все это ужасно посредственнои бледно,как и вся до сих пор эта несчастная малороссийская затея, затеянная по глупости Анны и Осипа, российских Росциусов» [206]206
Русская музыкальная газета. 1916. № 42. Стб. 773.
[Закрыть].
Вправду ли Шестакова говорила нечто подобное Стасову или он сам хотел это услышать, заранее отвергая не только «Хиврю», но и самый замысел малороссийской оперы?
В октябре Мусоргский покажет то, что им было создано, бывшим товарищам по «Могучей кучке»… Это был не просто разнос, это был обвал. Рушилось всё: и «бывшая кучка», и его «Сорочинская», и замыслы, которые он пестовал, поскольку сомнению, похоже, было подвергнуто не только написанное, но все его творчество. По крайней мере, он сам воспринял этот «разговор» именно так.
Седьмого ноября кратенький отчет об этом собрании прозвучит в письме Стасова к тому же Кутузову. Раздражение ощутимо уже в зачине:
«Напрасно Вы вообразили что-то про Мусорянина: он ровно ничего против Вас не держит в голове худого, а не отвечает просто по всегдашней лени и разгильдяйству художественному».
«Полководец», «Иисус Навин», сцены из «Сорочинской»… Это ли можно было назвать «всегдашней ленью», «художественным разгильдяйством»?








