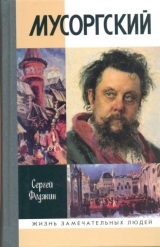
Текст книги "Мусоргский"
Автор книги: Сергей Федякин
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 43 страниц)
В сознании клубилось какое-то не во всем еще отчетливое ощущение будущей оперы, – всё явственней начинались видеться характеры, звучали музыкальные фразы. Схваченные воображением, они излучались образами будущих героев, пробивались отдельными репликами. Слова либретто рождались вместе с их музыкой, и весь очерк будущего произведения был еще податлив, еще слушался, еще можно было изменить многое, – и отдельные образы, и персонажей, и возможные эпизоды, – пока всё не запечатлелось в окончательном своем виде.
«Бах» не сразу почувствовал, что Мусорянин снова напитывается творческой силой. Он всё еще не мог забыть историю с венком. 28 марта, раздраженный Мусоргским и Корсаковым, – они не пришли к нему вечером слушать Антона Рубинштейна, который такисполнил шумановский «Карнавал»! – Стасов черкнет брату Дмитрию: «Навряд ли в нынешнемсвоем положении они что-нибудь прибавили бы!»
Но уже на следующий день застылый скепсис «généralissime» начинает плавиться и улетучиваться: «Мусорянин, кажется, удерживается от вина (надолго ли?) и понемножку опять принимается за сочинения». Значит, Мусоргский приходил? Показывал что-то из «Хованщины»?
Но музыкальная драма уходит в сторону. Столько раз исхоженная выставка Гартмана снова и снова встает в памяти композитора. Перед его мысленным взором предстают не люди из далекой Московии, но рисунки покойного друга. Эмбрионы будущих музыкальных тем трепещут, мелькают в голове, реют в воздухе. Что-то он попробовал изобразить для «généralissime», какие-то обрывки успел сыграть в мае Римлянину, до его отъезда на юг России. Но и эти, еще «не вылупившиеся» темы, осколки будущих пьес, пока не могут отвердеть в законченном виде. Из звуковой магмы, рожденной проектами и картинами Гартмана, стала проступать выставка Верещагина. Картина павшего словно стояла перед глазами: лежит убитый, раскинув руки, на труп слетелось вороньё… К живописным впечатлениям прибавились и стихи Арсения.
Комнатка тесная, тихая, милая;
Тень непроглядная, тень безответная;
Дума глубокая, песня унылая;
В бьющемся сердце надежда заветная;
Тайный полет за мгновеньем мгновения;
Взор неподвижный на счастье далекое;
Много сомнения, много терпения…
Вот она, ночь моя – ночь одинокая!
Мусоргский столько раз переживал это: в тесной комнате, один, когда не с кем поделиться своими мыслями, когда с мрачной тоскою вспоминаешь нескончаемые дела в министерстве, а будущие произведения зовут тебя и страдают от твоего невнимания.
Весь апрель новые музыкальные идеи одолевали его. «Хованщина», выставка Гартмана, выставка Верещагина, стихи Голенищева-Кутузова, – никогда он, кажется, не ощущал такого обилия замыслов.
Именно этого Мусоргского, которого совсем затянул мир его звуков, и увидит Иван Сергеевич Тургенев. В письме, отправленном Полине Виардо, – его удивление, даже ошеломленность. Встретил композитора на обеде у Осипа Афанасьевича Петрова, знаменитого баса, который и в своем преклонном возрасте пел, имел подлинный успех. Тургенев и хотел в эту среду, 21 мая, навестить старика, поднести ему романс Полины. Тот растрогался, и спел, и был очарован. Но дальше… Такой музыкальной программы Иван Сергеевич никак не ожидал. Анна Яковлевна, супруга Петрова, шестидесяти лет, не имея ни одного верхнего зуба, поет ему два романса Мусоргского, – странных, трогательных. И голос ее поразил своей неожиданной молодостью и выразительностью. Вечером, вспоминая этот обед, Иван Сергеевич торопится передать впечатление в письме к Полине: «Я был совершенно изумлен и растроган – до слез, уверяю вас». Но то, что было дальше, поразило писателя еще больше. И в письме он уже не сдерживает ни своего изумления, ни той силы, которая вдруг пролилась на него из новой услышанной музыки.
«Этот Мусоргский сыграл нам – и нельзя сказать спел – прохрипел – несколько отрывков из своей оперы и из другой, которую сейчас сочиняет, и, право же, мне это показалось самобытным, интересным! Старый Петров спел свою партию старого монаха, пьяницы и ерника (его зовут Варлаам, посмотрите перевод Пушкина, сделанный Виардо) – превосходно. Я начинаю верить, что у всего этого есть будущее. – Мусоргский отдаленно напоминает Глинку; только нос у него совершенно красный (к сожалению, он пьяница), глаза тусклые, но красивые, и маленькие поджатые губы на крупном лице с отвислыми щеками. – Он мне понравился; очень естественен и сдержан. Он сыграл нам вступление к своей новой опере. Это слегка напоминает Вагнера, но красиво и проникновенно. – Итак, вперед, господа русские!!»
Вряд ли Тургенев слышал окончательный вариант вступления к «Хованщине», тот самый «Рассвет на Москве-реке», который должен был воплотиться лишь через несколько месяцев. Скорее – его набросочный вариант, полуимпровизацию. И Вагнер тут появился лишь потому, что Иван Сергеевич не мог слышать хотя бы «Ночь на Лысой горе». Но он, еще недавно столь скептически смотревший на русскую музыку, несомненно пережил чувство близкое к потрясению. Вряд ли он мог до конца проникнуться этой музыкой, слишком она была неожиданной, не похожей на ту, которую он привык слушать. Но скрытую в ней мощь он не мог не ощутить. Впечатление было столь сильным, что Тургенев захотел ознакомиться – словно забыв прежние свои нападки – уже со всей новой русской школой, когда его пригласил к себе Стасов на музыкальный вечер. Тем более, что должен был быть и Антон Рубинштейн, его-то Тургенев хорошо знал. 25 мая Иван Сергеевич и увидит их всех – Кюи, Бородина, Римского-Корсакова с супругой, Мусоргского. Был и Рубинштейн, с которым Тургенев расцеловался. Антон Григорьевич играл Шумана, Бетховена, Шопена. Не то писатель так расчувствовался, не то просто схватил спазм, но он стал мучиться почечной коликой. Боли стали столь резкими, что он уже не мог ни стоять, ни сидеть, ни лежать… Что вышел за вечер! Тургенева скрутило, он в холодном поту. Музыканты в ужасе, уже послали за доктором. Благо, Бородин мог оказать хоть какую-то в столь неподходящих условиях помощь. Потом явившийся доктор заставил проглотить обезболивающее, измученного Тургенева обложили горячими салфетками, горчичниками. Лишь через два часа он сумел, в сопровождении молодых людей, добраться до своей гостиницы. В более полном виде новая русская музыка так и не была им услышана.
* * *
Тургенев промелькнул в жизни композитора в самое фантастическое время. Тот клубок замыслов, в котором Мусоргский утопал в апреле, уже начал воплощаться в нечто законченное. 7 мая явилось первое чудо: стихотворение «В четырех стенах» – «Комнатка тесная, тихая, милая…» – легло на музыку. Мажор, – он столь часто проглядывал в этой вещи, – мог показаться странным для столь невеселого произведения. Это были всего лишь отрадные мгновения: комнатка – милая, надежда – заветная, счастье – далекое… А само движение музыки – как охватившее оцепенение… Одиночество – не столько как переживание, сколько как состояние.
Но стоило только освободиться от стихотворения Арсения, как тут же стала мучить погибшая картина Верещагина. 15 мая они с Николаем Щербачевым сойдутся у Голенищева-Кутузова. Черемис, прямо в тетради Арсения, начал набрасывать текст. Написал: «Забытый». Ниже строчкой – «память картины В. Верещагина»… Потом начал писать нелепые свои четверостишия.
Столь дурных стихов Мусоргский давно не читывал. Знакомые мотивы: судьба, молодая жена. И как-то все бессмысленно, дежурно исполнено. А когда Черемис продолжил свое сомнительное стихотворчество от первого лица, можно было лишь покачать головой, да разве что улыбнуться:
В могилу мой труп не сложили,
Не нужен был крест… и она
Не знает, ни те, кто любили,
Что сплю я без крыши и дна…
Слова не хотели соединиться даже в более или менее внятную фразу. Труп «складывать»в могилу!.. «И она не знает, ни те, кто любили, что сплю я…» – почти бессмысленное нагромождение слов. А поговорку «ни дна, ни покрышки» Черемис превратил в совершенную графоманию. Мусоргский пробегал текст, отпускал реплики, подчеркивал наиболее дикие обороты.
…Вам жалко, что видеть не может
Она – молодая вдова,
Как хищники милова гложат,
Как сохнет его голова.
Читал, посмеивался, оставляя на полях иронические замечания. У «Вам жалко…» приписал: «Еще бы, особенно поэта». Закончив свое простодушное пошучивание над сочинением Черемиса – наложил резолюцию: «Стихокропательство господина де-Щербачева, заметное в черновой тетради графа Арсения Голенищева-Кутузова. Сей случай и достоверность свидетельствую М. Мусоргский. Учинено и то и другое 15 мая 74 г.».
Арсений, слава Богу, согласился написать, а то бы невоплощенная вещь начала терзать. С его текстом музыка уже не могла не зазвучать – сумрачная, порывистая.
Он смерть нашел в краю чужом,
В краю чужом, в бою с врагом;
Но враг друзьями побежден,—
Друзья ликуют, только он
На поле битвы позабыт,
Один лежит.
Маршеобразное движение, с глубинными отзвуками траурного шествия. И, вместе с тем, скандирование – словно резкие прыжки ворона, его перескоки с груди павшего на голову, с хлопаньем крыльев, отрывистыми поворотами головы, жесткими ударами клюва. Второй куплет не повторял музыкально первый, но стал развитием темы, еще более нагнетавшей напряжение:
И между тем как жадный вран
Пьет кровь его из свежих ран
И точит незакрытый глаз,
Грозивший смертью в смерти час,
И, насладившись, пьян и сыт,
Долой летит —…
Тут, внезапно, и начинала звучать мелодия – протяжная, как народная песня:
Далёко там, в краю родном,
Мать кормит сына под окном…
Из тихого печального напева проступила колыбельная:
«А-гу, а-гу, не плачь, сынок,
Вернется тятя. Пирожок
Тогда на радостях дружку
Я испеку…»
И колыбельная сыну – музыкальным эхо на первую строчку («Он смерть нашел в краю чужом…») – перетекала в сумрачную и краткую колыбельную павшему отцу:
А тот – забыт, один лежит…
Баллада могла показаться столь простой в своей ритмике, что ее легко было воспринять как музыкальный плакат. Но музыка каждой строфы не повторяла музыку других строф. Она шла дальше, то развивая начальное впечатление от музыки, то звуча тихим контрастом резкому началу. В «колыбельной» части в басу сохранялось воспоминание о тревожном начале. Последняя фраза соединила всё: и сумрачную музыку первых фраз, и убаюкивающие интонации «колыбельной».
Следом сразу хлынула музыка на стихи Арсения. Можно ли было назвать это романсами? Скорее – музыкальные монологи. И что-то родственное, какое-то безнадежное спокойствие сквозило в них. Романсы-монологи рождались друг за другом, он сам ощущал необыкновенное воодушевление. Та музыкальная волна, которая началась в мае, шла и шла. 7-го – «В четырех стенах», потом цикл перебивается музыкой баллады «Забытый», но уже 19-го закончен 2-й номер, «Меня ты в толпе не узнала…», в ночь с 19-го на 20-е – «Окончен праздный, шумный день…», 2 июня – 4-й монолог, «Скучай». Это уже, несомненно, был цикл. С точным и емким названием: «Без солнца».
Каждое произведение – еще одна ночь. Он мог припомнить много таких ночей. Днем была служба, вечером могли случиться музыкальные встречи. Ночь – время, когда он мог отдаться своим замыслам (отрадное, творческое время!) или воспоминаниям (горьким, безутешным, с которыми особенно остро он чувствовал нынешнее одиночество). Уже девять лет, как не было с ним матери. Она скончалась в такие же весенние дни, когда день становился все длинней и хотелось жить светлыми надеждами. Недавняя выставка умершего друга тоже посещала его воспоминания. Для Гартмана уже навсегда пришло это время – «без солнца». Но и в своей жизни Мусоргский мог ощутить то же безотрадное чувство, – после того, как их кружок стал медленно рассыпаться, когда прежние единомышленники уже обнаруживали и равнодушие друг к другу, и даже полное непонимание. Сидеть при тусклом свете свечи в ночном полумраке, вспоминать, ощущая в душе безнадежный покой: «Вот она, ночь моя – ночь одинокая…»
Когда Голенищев-Кутузов будет уже известным поэтом, он заметит в воспоминаниях о Мусоргском, что его стихи, взятые композитором, – это были только «минутные настроения в фетовском роде». Здесь и вправду было что-то фетовское, было и что-то от Алексея Константиновича Толстого. Но размер первого стихотворения словно пришел из лермонтовского:
Тучки небесные, вечные странники!
Степью лазурною, цепью жемчужною
Мчитесь вы, будто как я же, изгнанники,
С милого севера в сторону южную…
Рядом с этим певучим стихотворением «В четырех стенах» кажется произведением слишком бледным, слишком камерным. И все же магия ритмики здесь сохранилась. К одной строчке из «Тучек» Лермонтова – «…Зависть ли тайная? злоба ль открытая?» – интонация Голенищева-Кутузова подходит совсем близко.
«Альбом стихотворений гр. А. Голенищева-Кутузова» – такой подзаголовок даст композитор своему циклу. Первые четыре произведения из этого альбома, написанные с начала мая до самого начала июня – под пером композитора преобразились из «фетовских мотивов» в дневник ночных мыслей и ночных чувств. Сначала – замкнутое пространство комнаты, потом – печальное воспоминание:
Меня ты в толпе не узнала —
Твой взгляд не сказал ничего…
В третьей пьесе – «Окончен праздный, шумный день…» – уже цепь воспоминаний, «годов утраченных страницы». Появление из сонма унылых призраков любимой тени отзывается «Заклинанием» Пушкина. Но там с первых же строк нагнетается странное, «потустороннее» чувство:
О, если правда, что в ночи,
Когда покоятся живые,
И с неба лунные лучи
Скользят на камни гробовые…
И подлинным заклинанием звучит призыв: «Явись, возлюбленная тень…»
У Голенищева стихотворение лишено этой сумрачной энергии. Здесь «Тень» – всего лишь отблеск былого:
Как будто вновь, вдыхая яд
Весенних, страстных сновидений,
В душе я воскрешаю ряд
Надежд, порывов, заблуждений…
Внешне – такая же аскетичная, как и предыдущие пьесы, и полная напряженного, тайного драматизма. Пейзажные строки из начала монолога: «Все тихо. Майской ночи тень столицу спящую объемлет…» – отзовутся в просветленной музыке слов: «Лишь тень, одна из всех теней, явилась мне, дыша любовью…» Музыка берет на себя роль драматургического начала, наполняет слова, написанные Голенищевым-Кутузовым, новым, более глубоким смыслом. Мерцающий свет петербургских светлых ночей рождает в памяти дорогой образ, и отрадное видение пробуждает вместе с тем и острое чувство утраты.
После сонма видений, пробегающих перед мысленным взором в третьем монологе, четвертая пьеса звучит снова камерно, «тесно», как и первая. Но монолог обращен не к себе. Здесь в цикле появляется третий женский образ:
Скучай. Ты создана для скуки.
Без жгучих чувств отрады нет…
Иронический тон стихотворения преображается музыкой с грустным вступлением, который повторяется перед каждым «куплетом». Здесь не только мягкая насмешка над бесцельно проходящей жизнью, здесь и – сожаление, и – особая мысль-чувство: так и проходит жизнь человеческая.
Если вытянуть из стихотворений Голенищева самые «говорящие» строки, зазвучит не просто мрачное – несмотря на частый мажор – оцепенение души, но и особая последовательность сумрачных переживаний:
– Вот она, ночь моя – ночь одинокая!
– …Мгновенье… я в нем перенес всей прошлой любви наслажденье, всю горечь забвенья и слез!
– Годов утраченных страницы… В душе я воскрешаю ряд надежд, порывов, заблуждений… Лишь тень, одна из всех теней, явилась мне, дыша любовью…
– Скучай. С рожденья до могилы заране путь начертан твой…
В написанных четырех монологах – словно движение по кругу: одиночество – вспыхнувшее воспоминание о некогда пережитых мгновениях счастья – образ любимого лица, тень из мира умерших, навестившая душу на миг… – и снова одиночество, но уже с чувством полной бессмысленности жизни, которое – чуть ли не через четверть века – столь мучительно точно выразит Александр Блок:
Ночь, улица, фонарь, аптека,
Бессмысленный и тусклый свет.
Живи еще хоть четверть века —
Всё будет так. Исхода нет.
Умрешь – начнешь опять сначала,
И повторится всё, как встарь:
Ночь, ледяная рябь канала,
Аптека, улица, фонарь.
Жуткая рябь Леты, реки из загробного мира, реки забвения, колышется в этом стихотворении. Арсений Голенищев-Кутузов на протяжении всей жизни будет тянуться к этому мраку, его он не раз будет пытаться выразить в стихах. Но чтобы сказать о «мире ином», ему не хватало подлинной поэтической силы. Быть может – и поэтической отваги. Почувствовать на своем лице дыхание темной бездны, – на это решится далеко не каждый. Зато особая сила – подобная мрачной простоте Блока – жила в Мусоргском. Он своею музыкой многократно усилил хоть и небольшое, но подлинное лирическое дарование Кутузова. Аккомпанемент этих монологов был прост до невероятного. Суровая аскетика выразительных средств лишь усиливала впечатление странно замершей души. Любые эмоциональные всплески гасятся возвращениями к исходному оцепенению.
Прикоснулся композитор и к словам. Всего более – в четвертой пьесе, в первой ее строфе.
Скучай – ты создана для скуки,
Тебе иного дела нет;
Ломай и голову, и руки —
Тебе на все один ответ!
Этот текст Голенищева-Кутузова Мусоргский менял, вероятно, не только потому, что фраза «ломай и голову, и руки…» при слишком буквальном ее понимании превращалась в комическую. В трех «мусоргских» строках звучало нечто, выводящее за пределы этого монолога, за пределы цикла:
– Без жгучих чувств отрады нет, – память о некогда пережитом, и как созвучно тому внезапному признанию, которое однажды – полутора годами раньше – прозвучало в письме Стасову: «Если сильная, пылкая и любимая женщина сжимает крепко в своих объятиях любимого ею человека, то, хотя и сознается насилие, но из объятий не хочется вырваться, п. ч. это насилие – „через край блаженство“…»
– Как нет возврата без разлуки… – не только то чувство, которое мог он пережить, возвращаясь в родные места или навещая дорогих сердцу людей. Но и те, с кем разлучился навсегда, – он уже испытывал эту странную горькую отраду, – могли навестить его внезапным своим явлением, – в воспоминании или как в третьей пьесе: «Лишь тень, одна из всех теней, явилась мне, дыша любовью…»
– Как без боренья нет побед… —Это он мог вынести из своей композиторской несговорчивости, из долгого, мучительного пути «Бориса» на сцену. И после пережитого совсем недавно, он снова ощутил в себе то особое, творческое борение, которое и после написанных пяти романсов продолжало разгораться в его душе. Закончив четвертую пьесу цикла «Без солнца», он уже ощущал тесноту вокальной музыки. Критики в отзывах на «Бориса» бросали скептические реплики в сторону его умения писать инструментальные вещи. Они и стали вдруг рождаться, номер за номером. С самого начала июня. То необычайное произведение, которое войдет в историю под названием «Картинки с выставки».
* * *
Светились июньские ночи. Днем на улицах взгляд то и дело натыкался на процессии извозчиков, на повозки, груженные мебелью. По Неве заскользили лодки, набитые всяким скарбом. Петербург пустел, разъезжался, расселялся подачам. А ночь трепетала живым сиянием. В опустелом городе сквозило что-то неизъяснимое. Пройдет двадцать лет, и Арсений Аркадьевич Голенищев-Кутузов, вглядываясь в зачарованный мир летнего Петербурга, напишет стихотворение «Заря во всю ночь», – стихотворение не без характерных для него слабостей, когда автор не замечает, насколько уже «стерты» его эпитеты, и все же – одно из лучших:
Было поздно; в душе замирающий шум
Пережитого дня был чуть слышен;
Сумрак вешнего бреда, видений и дум
Надвигался – волшебен и пышен.
В нем росли очертанья дремучих дерев,
В нем туманились гладкие воды;
Шла заря от заката к востоку – садов
Проникая вершины и своды.
И боролася ночь с этой белой зарей,
И боролися – радость с печалью,
Непроглядная грусть с незакатной мечтой,
Ближний сумрак с сияющей далью.
И заря побеждала, и ночь не могла
Заключить ее в своды темницы —
И победная радость росла, всё росла
Вместе с пламенем юной денницы.
И в 1874-м Мусоргский видел этот «ближний сумрак с сияющей далью». И его охватывали минуты «непроглядной грусти», которые сменялись мгновениями «незакатной мечты». Он ощущал в груди что-то неизъяснимое. Опять образы Виктора Гартмана стояли перед его взором. И он торопился запечатлеть звуками всплывавшие в памяти рисунки. Те эмбрионы фортепианных пьес, которые уже проступали в неясных очертаниях еще в апреле, словно застыли в воздухе. Они стали наливаться звуковой плотью, стали увязываться в нечто чрезвычайно причудливое, разнообразное и, вместе с тем, невероятно стройное. Он услышал свои шаги на посмертной выставке Витюши Гартмана, и эта прогулка зазвучала русскими распевами, когда сначала вступает один голос, а потом – множество голосов подхватывает тему и распевает ее, распевает. И только стихнет этот хор – снова одинокий голос ведет мелодию. И снова ее подхватывают разом другие голоса. Не только сам Модест Петрович шел рядом с этими звуками, но вставала за ними вся Русь, не то крестьянская, не то мастеровая. И вот выплыл из прошлого первый рисунок – гном. Колченогий. Диковинный. Странный…
Пьесы рождались одна за другой. Они выстраивались, связывались, сталкивались… Сюита прослаивалась «прогулками». Каждая из которых звучала иначе, нежели раньше – то быстрее, то медленней, то с раздумчивой грустью, то – бодро и легко.
Для «Баха» – в запарке, очнувшись от своих рукописей, – набросал однажды письмецо-отчетец. Это была среда. Кажется, 12 июня. Он только-только подходил к середине своей сюиты. И так не хотелось останавливаться, что приходилось жертвовать музыкальным вечером, на который зазывал Стасов:
«Мой дорогой généralissime,Гартман кипит, как кипел „Борис“, – звуки и мысль в воздухе повисли, глотаю и объедаюсь, едва успеваю царапать на бумаге. Пишу 4-й № – связки хороши (на „promenade“).Хочу скорее и надежнее сделать. Моя физиономия в интермедах видна. До сих пор считаю удачным. Обнимаю Вас и понимаю, что Вы меня благословляете – дайте же Ваше благословление! Мусорянин».
Кажется, здесь он остановился. В левом верхнему углу – наискось – приписал: «Не могу быть у Вас».
И – не мог уже прервать мысленной беседы с généralissime– докончил об уже сочиненном:
«Номинация курьезна: „ Promenade (in modo russico)“№ 1. „ Gnomus“ – intermezzo (intermezzoне надписано); № 2. „Il vecchio castello“ – intermezzo(тоже без надписи); № 3. „ Thuilleries“ (dispute d’enfants après jeux),прямо в лоб № 4. „Sandomirzsko bydio“ (le telegue) (le telegue,разумеется, не надписано, – так между нами). Как хорошо работается. Мусорянин».
Но и тут не удержался, прибавил о том, что уже реяло в воздухе: «Хочу примахнуть Витюшкиных евреев».
…Спустя годы Стасов постарается припомнить те изображения из посмертной коллекции работ Гартмана, которые Мусоргский запечатлел в звуках. В его списочке застыли эти образы, застыла и сама их последовательность. Начиная с «Promenade (in modo russico)», то есть – с «Прогулки» («в русском стиле»):
«Вступление носит название: „Promenade“.
№ 1. „ Gnomus“ – рисунок, изображающий маленького гнома, неуклюже шагающего на кривых ножках.
№ 2. „ Il vecchio castello“.Средневековый замок, перед которым трубадур поет песню.
№ 3. „Tuilleries. Dispute d’enfants après jeux“. Аллея тюипьрийского сада со множеством детей и нянек.
№ 4. „Bydlo“.Польская телега на огромных колесах, запряженная волами.
№ 5. „Балет невылупившихся птенцов“. Картинка Гартмана для постановки одной живописной сцены в балете „Трильби“.
№ 6. „Два польских еврея, богатый и бедный“.
№ 7. „ Limoges. Le marche“.Французские бабы, ожесточенно спорящие на рынке.
№ 8. „Catacombae“. На картинке Гартмана представлен он сам, рассматривающий парижские катакомбы при свете фонаря.
№ 9. „Избушка на курьих ножках“. Рисунок Гартмана изображал часы в виде избушки Бабы-яги на курьих ножках. Мусоргский прибавил поезд Бабы-яги в ступе.
№ 10. „Богатырские ворота в Киеве“. Рисунок Гартмана представлял его проект городских ворот для Киева в древнерусском массивном стиле с главой в виде славянского шлема».
Рисунки и проекты покойного товарища. Никто тогда не знал, что пройдут десятилетия, и многие из этих работ исчезнут, растворятся во времени, будто и сами были частью зыбких петербургских призраков, столь полюбившихся русской литературе. От Гнома, детской игрушки, задуманной для рождественской елки 1869 года в Клубе Художников, осталось лишь упоминание в каталоге для выставки Гартмана, составленном Николаем Собко. И несколько реплик современников. Из них проступает фигура неуклюжего щелкунчика: длинные ноги – ручки щипцов, в рот вставлялся орех… Рисунок был выполнен сепией, – то есть гном был изображен в желтовато-коричневых тонах. В музыке он вышел живописнее: выскочил из неясного сумрака. То скачет, спотыкаясь, то медленно шествует, переставляя ноги-ходули. Он жуток, но и сам боится. Сердится, иногда – жалобно вскрикивает, стонет. И как внезапно возник из какого-то зыбкого морока, – также фантастично исчезает.
Старый замок – еще загадочнее. В каталоге – два рисунка. На одном – замок с башней, остроконечной крышей, со стеной и воротами. На другом – двухбашенный замок. Рядом с которым из них был помещен трубадур, каталог Собко умалчивает. Но звук трубы явственно выпевает именно его партию. Трубадур поет, – и в музыке запечатлевается что-то старинное; его аккомпанемент аскетичен, бас удерживает все ту же медленно «пульсирующую» ноту [176]176
Повторяющийся звук в басу называется «органный пункт», даже если среди инструментов нет органа.
[Закрыть]. За печальной элегией (в которой – в какой-то момент – нарастает драматическое начало, чтобы тут же угаснуть) слышится даль веков.
«Тюильрийский сад» был изображен карандашом. Мусоргский увидел в нем не только детей и нянек, но и мальчишеский спор, который разгорается, переходит в потасовку… И эта картина тоже растаяла в дебрях времен.
Польская телега с огромными колесами, отраженная в пьесе «Быдло», – одно из самых загадочных изображений. Из множества рисунков Гартмана, запечатлевших Сандомир, – соборы, орнаменты в костеле, детали церквей, старинная ратуша… Есть изба, есть колокольня, есть корова… Тележка была набросана еще в Италии, но огромные колеса… Или рисунок не попал в каталог выставки? Или Мусоргский и Стасов видели его где-то еще? Пьеса была названа «быдло», то есть – «скот». Грузный ход темы мог изображать и телегу. Но все же тут чувствуется нечто более мучительное, изнурительное, тяжкое. Соизмеримое с движением бурлаков, или мастеровых, которые, наваливаясь грудью, вращают огромный ворот, подымающий гигантский колокол. И сила, и тяжесть, и усталость запечатлелись в пьесе.
И резким контрастом – с писком, детским гомоном, – «Балет невылупившихся птенцов». Акварельных эскизов к фантастическому балету «Трильби» у Гартмана было множество. Но взор Мусоргского притягивался к самым странным рисункам: дети, наряженные в птенцов канарейки, в скорлупах-латах, с желтыми «клювастыми» шапочками, к рукавам приторочены крылышки, ножки в чулочках, как лапки. А в музыке – щебет, счастливый писк, скачки на шатких птичьих ножках, которые разъезжаются и скользят… – Скорее, птенцы, нежели дети.
«Хочу примахнуть Витюшкиных евреев», – это о своих картинах, которые Гартман подарил в начальную пору их знакомства. В каталоге запечатлены оба карандашных портрета: «Богатый еврей, в меховой шапке» и «Бедный сандомирский жид». В музыке – сначала тема «богатого», – властная, сильная. Затем, в ответ, – жалкие «причитания» бедного. И вот уже обе темы сплетаются, – и грозные возгласы «богатого», его не терпящие никакого прекословия жесты, и заискивание «бедного», его стонущий голосок.
Лиможские рисунки Гартмана запечатлели собор, стены, монахов, головы и силуэты его жителей. В каталоге нет и упоминания о рынке. Не то рисунок был увиден вне выставки, не то игра воображения композитора воссоздала этот «Лиможский рынок». В автографе Мусоргского – на французском – запечатлена целая сценка. Сначала набросал: «Большая новость: Господин Пимпан из Панта-Панталеона только что нашел свою корову: Беглянку. „Да, сударыня, это было вчера. – Нет, сударыня, это было третьего дня. Ну, да, сударыня, корова бродила по соседству. – Ну, нет, сударыня, корова вовсе не бродила… и т. д.“». В таком виде «программка» показалась монотонной. Композитор перечеркнул текст. Напишет новый: «Большая новость: господин Пьюсанжу только что нашел свою корову Беглянку. Но лиможские кумушки не вполне согласны по поводу этого случая, потому что госпожа Рамбурсак приобрела себе прекрасные фарфоровые зубы, между тем как у господина Панта-Панталеона мешающий ему нос все время остается красным как пион».
Здесь уже можно было улыбнуться: не просто спор, но сама несуразица такого рода новостей запечатлелась в коротеньком словесном пояснении. И все же в названии композитор оставит лишь три фразы: «Лимож. Рынок. Большая новость».
В той картинке, которая была запечатлена словами, – сутолока, нескладица и разноголосица всяких слухов. Сплетня летит, обрастая побочными сюжетами, оплетаясь другими «новостями», которые к первой не имеют уже никакого отношения.
Еще более выразительно эта суматоха, с переругиваниями, передразниваниями, резкой и быстрой жестикуляцией, запечатлелась в музыке. Моторный ритм «заводит» сплетниц, и он же резко обрывается, словно наткнувшись на преграду. Твердые созвучия, – долгие, темные, с гулким эхом, рисуют римские катакомбы. На акварели был изображен сам Гартман с архитектором Кенелем, оба – в цилиндрах. Рядом, в картузе, стоял проводник с фонарем. Свет выхватил угол, стену, низкий потолок, квадратный столб, ряды черепов, поставленных один на другой… Из загробного рокота «каменных» аккордов на мгновение вырывается одинокий, взывающий голос… Из сумрачных созвучий вырастает мерцающая тема, – преображенная «прогулка», открывшая сюиту. В рукописи пьесы Мусоргский приписал: «NB. Латинский текст: с мертвыми на мертвом языке. Ладно бы латинский текст: творческий дух умершего Гартмана ведет меня к черепам, взывает к ним, черепа тихо засветились».
Стихающий звук катакомб прерывается резкими прыжками следующей пьесы: «Баба-яга». Рисунок «Избушка Бабы-яги на курьих ножках» запечатлел часы в стиле XIV века из бронзы с эмалью. Избушка «в русском стиле», с резными подзорами и наличниками, золотистого цвета. На крыше – двухголовый конек, с извивистой гривой, похожий на змея. Посередине – большой циферблат, изукрашенный такими же резными узорами. На часах – без двадцати двух двенадцать. Время приближается к полдню? К полночи?
В музыке слышна сама хозяйка избушки, ее колченогие прыжки, удары клюкой, залихватская песня (совершенно в русском духе), подплясывание и подскакивание ступы…








