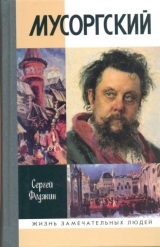
Текст книги "Мусоргский"
Автор книги: Сергей Федякин
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 43 страниц)
Он сокращает всё, что касается боярских интриг. Только в лице Василия Шуйского двуличие знати явится на сцену. Первая сцена пушкинской трагедии – разговор князей Шуйского и Воротынского – исключена. Начать нужно было сразу с главного противостояния: народ и власть. В заветном томе, подаренном Шестаковой, композитор читает вторую сцену, озаглавленную «Красная площадь». Народ в растерянности, реплики из толпы – о Годунове: «Неумолим!.. Его страшит сияние престола… О Боже мой, кто будет нами править?..» Затем – выход думного дьяка Щелкалова:
Собором положили
В последний раз отведать силу просьбы
Над скорбною правителя душой…
Опера должна была начаться отсюда. Но здесь еще не хватало самого действия. Взгляд Мусоргского переходит на следующую сцену – «Девичье поле. Новодевичий монастырь». Скопление народа, из отдельных реплик проступает сюжет: бояре и патриарх еще раз пытаются уговорить Годунова взвалить на себя бремя власти. И Борис дает согласие.
Эти сцены и станут началом действия оперы. На титульном листе либретто Мусоргский предупредит о первоисточнике: «с сохранением большей части его стихов». Но как изменится пушкинский текст под его пером в самом начале!
Что сподвигло его на переделки? Что вставало перед мысленным взором, когда он вписывал в книгу Шестаковой – рядом со стихами Пушкина – свой вариант трагедии? Могло мелькнуть давнее воспоминание: лютая зима, ослепительное солнце, толпы народа, он сам в одном ряду с товарищами по Школе гвардейских подпрапорщиков. Прах почившего государя Николая I перевозят в Петропавловскую крепость. Пушкин описывал Москву: «…смотри: ограда, кровли, все ярусы соборной колокольни, главы церквей и самые кресты унизаны народом».Тогда и в Петербурге толпа затопила площадь, растеклась по улицам. И так же – от одного края к другому – двигался шум голосов. «Народ завыл, там падают, что волны, за рядом ряд… еще… еще…»И тогда – показался эскорт. И народ – такими же волнами, быть может, чуть беспорядочнее, – стал валиться на колени. Разумеется, была гвардия. Да и сам он, совсем юный, был среди тех, кто представлял «силу». Народ на коленях – и рядом обязательно представитель власти, пристав. Мусоргский вглядывается в сцену. Видит ее совершенно отчетливо. Появляется ремарка: «Двор Новодевичьего монастыря под Москвой. Выходные ворота в монастырской стене с башенкою. Входит пристав».
Позже, в годы реформ, он тоже мог видеть противостояние «власть имущих» и только-только получивших волю крестьян. И – совсем недавние воспоминания – сами крестьяне, лето, сельцо Шилово, он в гостях у брата наблюдает за мужиками и бабами. И яркие, картинные персонажи сами собой просятся на бумагу.
Мусоргский вслушивается в голоса. Они ложатся на музыку. Стих ломается. Это поначалу почти проза. Деление на стихотворные строки лишь подчеркивает паузы. Музыка первых тактов – жесткая, слова пристава – хлещут, как плетка.
Пристав (к народу).
Ну, что ж вы?
Что ж вы идолами стали?
Живо, на колени!
Ну же! (Грозит дубинкой.)
Да ну! Эко чёртово отродье.
Музыка в ответ – с интонацией стона и плача. И тяжести, легшей на тела и души. Ремарка – «Народ на коленях».
Народ.
На кого ты нас покидаешь, отец наш!
Ах, на кого-то да ты оставляешь, кормилец!
Мы да все твои сироты беззащитные.
Ах, да мы тебя-то просим, молим
Со слезами, со горючими:
Смилуйся! Смилуйся! Смилуйся!
Боярин-батюшка! Отец наш!
Ты кормилец!
Боярин, смилуйся!
Музыка затихает: «Пристав уходит. Народ остается на коленях». Хор должен был распасться на отдельные голоса. Мусоргский не зря этим летом вглядывался в мужиков, баб, в их жесты, в беглые фразы, в разговоры, ругань, жалобы. Диалог его – естественен и прост. Сначала мужские голоса:
– Митюх, а Митюх, чево орём?
– Вона! Почём я знаю!
– Царя на Руси хотим поставить!
Затем – женские:
– Ой, лихонько! Совсем охрипла! Голубка, соседушка, не припасла ль водицы?
– Вишь, боярыня какая!
– Орала пуще всех, сама б и припасала!
Потом – все вперемежку:
– Ну, вы, бабы, не гуторить!
– А ты что за указчик?
– Нишкни.
– Вишь пристав навязался!
– Ой, вы, ведьмы, не бушуйте!
Ушел образ пушкинской бабы с ребенком, – на сцене его изобразить было бы делом немыслимым. Пришла другая баба («Ой, лихонько! Совсем охрипла!»). «Скоморошистый» юмор Пушкина («Нет ли луку? Потрём глаза. – Нет, я слюнёй помажу») оборачивается простоватым, но словно с живой натуры списанным: «Митюх, а Митюх, чево орём?»
Музыкальная проза «Женитьбы» подтолкнула летом на приглядку, собирание крестьянских «типажей» – и вдруг хлынула в оперу, смешиваясь с пушкинским словом. Далее либретто должно было снова почувствовать стих, но в пушкинский пятистопный ямб музыка крестьянской речи не укладывалась, и потому полилась четырехстопным хореем, размером народных припевок:
Баба.
Ах, пострел ты, окаянный!
Вот-то нехристь отыскался!
Эко, дьявол, привязался!
Прости Господи, бесстыдник!
Ой, уйдёмте лучше, бабы,
Подобру да поздорову,
От беды да от напасти!
(Приподнимаются с колен.)
Крестьяне.
Не понравилася кличка,
Видно солоно пришлася,
Не в угоду, не по вкусу.
(Смех.)
Ведь мы в путь уж собралися.
(Усиливающийся смех.)
После эпизода «безначалия», когда из общего хора выступили отдельные голоса, создав ощущение толпы разношерстной,запечатлев всю пестроту характеров, нужно было толпу заставить снова заголосить в один голос. Мусоргский вставляет ремарку: «Появляется пристав. Завидя его, бабы опускаются на колени… Прежняя неподвижность толпы».Но пристав не может говорить народным стихом, размер снова ломается:
– Что ж вы? Что ж смолкли?
Аль глоток жалко?
(Грозя дубинкой)Вот я вас!..
Народ тараторит, четырехстопный хорей усечен до трёхстопного, «расторопного»:
– Не серчай, Никитич.
Не серчай, родимый!
Только поотдохнем,
Заорем мы снова.
Но «в сторону» можно сказать привычной четырёхстопной «припевкой»:
– И вздохнуть не даст, проклятый!
Эпизоды из третьей сцены пушкинской трагедии преобразились и переместились в начало оперы. Речь Щелкалова – тоже изменилась. Пушкинский дьяк говорит о печальном, но говорит спокойно, он «повествует» и призывает молиться так же, как сделал бы в любой другой раз:
…Собором положили
В последний раз отведать силу просьбы
Над скорбною правителя душой…
Если следовать этому тексту – улетучится второй план всей сцены. Народ у Пушкина и притворяется («Нет, я слюнёй помажу»), но он же и горюет, и совершенно искренне:
О Боже мой, кто будет нами править?
О горе нам!..
Надсадный вопль толпы у Мусоргского: «На кого ты нас покидаешь, отец наш!» – в опере должен был усилиться, укрепиться в музыке. И у него народ переживает странное раздвоение – и печалится, и притворяется. Но скорбь должна стать не только народной, тревога наполняет всё Московское царство. И дьяк Щелканов, «не попадая в стих», но точно вкладывая слова в музыкальные фразы, не говорит – выводит со страданием,с паузами-вздохами: «Православные! Неумолим боярин! На скорбный зов Боярской Думы и патриарха и слышать не хотел о троне царском. Печаль на Руси… Печаль безысходная, православные!..»
Народ Мусоргского не стесняется просторечий. В четкий пушкинский стих врывается иная речевая стихия. Русский литературный язык был еще молод. Когда говорят о его рождении, называют обычно несколько имен: Карамзин («История государства Российского»), Крылов (басни), Жуковский (стихи) и – Пушкин, Пушкин, Пушкин, в разных жанрах, родах и видах литературного творчества. Национальному языку всегда предшествует «многоречие»: церковнославянский, язык деловой письменности, просторечие, множество диалектов. С Пушкиным в русский язык вошла смысловая четкость. В лицее будущего национального русского поэта, как и его товарищей, учили особому искусству – предельно точно выражать свою мысль. И не случайно юный Набоков будет не просто читать пушкинские заметки к ненаписанной «Истории Петра Великого», но будет учить их наизусть: он ощутил, что в пушкинской прозе особое качество: кратчайшее расстояние между словом и смыслом. У Мусоргского – кратчайшее расстояние между смыслом и интонацией. И оно требует подчас особой речи. Впрочем, уже у Пушкина – сквозь четкую литературную речь – временами пробивается иная:
Жил-был поп,
Толоконный лоб.
Шел поп по базару
Посмотреть кой-какого товару,
А навстречу ему Балда
Идет, сам не зная куда…
«Сказка о попе и работнике его Балде». Ритм фразы, если их выкрикивать резко, жестко, напомнит базарную ругань. Если же произносить слова мягче, – стих зазвучит затейно, как у зазывал. В середине века Некрасов даст свой образец такой народно-поэтической речи:
…У дядюшки у Якова
Хватит про всякого.
Новы коврижки,
Гляди-ко: книжки!
Мальчик-сударик,
Купи букварик!
Отцы почтенны!
Книжки неценны;
По гривне штука —
Деткам наука!
В начале XX века то же слово проступит и у изысканнейшего, но и чрезвычайно чуткого Иннокентия Анненского:
Шарики, шарики!
Шарики детские!
Деньги отецкие!
Покупайте, сударики, шарики!
Эй, лисья шуба, коли есть лишни,
Не пожалей пятишни:
Запущу под самое нёбо —
Два часа потом глазей, да в оба!
Русский раешный стих. Зазывный, затейный, «разговорчивый». Всели может схватить точное, выверенное слово? Почему Пушкина так тянуло к простонародью. Почему он советовал учиться языку у московских просвирен?
Раек – обыденно явление в российской жизни XIX века. Зазывала, рассыпая остроты, заманивает народ. Тот стекается с разных сторон к ящику. И если настанет твой черед заглянуть в окошечко, то увидишь, как меняются, одна за другой, картинки под заливистое балагурье раешника. Рассказ в иллюстрациях. Занятный, потешный. Народ толпится, каждому хочется заглянуть. Посмеивается, на каждую реплику отвечает то сдержанным хохотком, то громким гоготом.
В трагедию «Борис Годунов» язык балагана врывается с неизбежностью: начало смуты в российском государстве – это и раздор в умах, и беспорядочное смешение речи различных сословий.
Но раешный стих – со скоморошиной и балагурьем, что втекал в русскую литературу, – лишь одна ипостась «простецкого» языка. В «Бородино» Лермонтова, в его «Песне о купце Калашникове» звучит сказ. Из XX века будет хорошо видно, как ясному языку Пушкина, Гончарова, Тургенева, Чехова будет противостоять язык Гоголя, Достоевского (ранние вещи которого совсем близко стоят к Гоголю), язык Лескова. Трудно вписать в это противостояние Льва Толстого, здесь есть изумительная точность слова, но и следа нет от пушкинского «легкого слога». Скоро странный, «прыгающий» язык начнет завоевывать все большее литературное пространство. Произведения часто не повествуюто событиях, но именно сказывают.И XX век поразит обилием замечательных образцов «непричесанной» литературы: Розанов, Ремизов, Андрей Белый, Иван Шмелев… В 1928 году, после долгих споров о судьбах русского языка, один ученый вдруг бросит невероятную догадку: появление этих писательских имен – это ведь и «рождение литературногоязыка» [82]82
Из статьи 1928 г. «Вопросы русской языковой культуры». См.: Бицилли П. М.Избранные труды по филологии. М.: Наследие, 1996. С. 605.
[Закрыть]. За столкновением двух «литературных языков», в столкновении «повести» и «сказа», мерцало давнее противостояние «Петербурга» и «Москвы», столицы и провинции, «нации» и «народа». За литературным «двуязычием» стояла трагедия русской истории и культуры. «Империя» и «почва» еще столкнутся со всею силою в начале XX века. И после этой катастрофической сшибки ученый-эмигрант мог сделать лишь один неутешительный вывод: синтез двух русских языков невозможен, хотя оба зародились в общем «лоне» [83]83
Там же.
[Закрыть].
Но, быть может, раз к языку этому прибегал и «классичнейший» Пушкин, и «фантастичный» Гоголь, и одинокий Лермонтов, и «народный» Некрасов, и многоопытный, всё видавший Лесков, и мучительно близорукий Ремизов, и опять-таки «классичный» Анненский, – разве не жила тяга к этому «другому» слову в самой основе русской культуры? Тем более что в истоках «второго» литературного языка обнаруживается не только Гоголь, но и автор более древний, знаменитый расколоучитель протопоп Аввакум.
Мусоргский с его тягой к вслушиванию в живую речь, с его интересом к всякому «раешничеству», «скоморошеству», стал и музыку, сами ее законы, настраивать на этот особый лад. «Митюх, а Митюх, чево орём?» – эта речевая стихия отражается в столь точных интонационно узнаваемых фразах, что очевидным становится: их и невозможно было бы пропеть иначе. Любое иноеинтонирование превратилось бы в ложь. Мусоргский невероятно чуток к речи. И здесь – не только запечатлелась интонация отдельных персонажей, как у Даргомыжского. За двумя репликами – «Митюх…» и «Вона!..» – схвачено целое сословие. Речь дьяка Щелкалова, речь царя Бориса, речь летописца Пимена, Варлаама, юродивого… Не только психологическая точность, но и – что не удавалось еще ни одному композитору – точность «сословная», точность историческая.
Когда Мусоргский будет писать монолог Бориса в сцене венчания на царство, когда он переместится в келью Пимена, вообще в большинстве случаев – он не будет совсем уж далеко отходить от пушкинского текста. Разве что несколько сократит. Да еще прибавит пение отшельников за сценой – и рядом с разговорной речью персонажей потечет словесным «контрапунктом» церковнославянский: «Боже крепкий, правый, Внемли рабам Твоим, молящим Тя! Дух лжемудрия лукавый Отжени от чад твоих, верящих Ти!»
Но то – лишь малые «вкрапления» особого велеречия. Эти молитвы-песнопения пронижут всю оперу, заставляя все время помнить о Божьем суде. Высшая Сила у Пушкина может явиться через саму лавину событий. У Мусоргского ее присутствие тесно связано с хором. Песнопения за сценой и дают его драме иное измерение: на сцене кипят земные страсти, хор за сценой словно звучит из другого мира, где «вечный покой».
* * *
Чтобы закончить необычайное произведение, Пушкину понадобился год. Мусоргский писал свою оперу особым образом: сочинял, держа в голове, играл знакомым, словно «обкатывая» все нюансы, потом записывал клавир. К оркестровке приступит позже.
Горячность, с какою Мусоргский принялся за дело, была небывалой. Жизнь словно разделилась на две: жизнь внешняя – и творчество. Работа кипела. Жизнь словно летела. И общий очерк оперы быстро наливался музыкальной «плотью». Начал он воплощать свой замысел в конце октября. 4 ноября он уже закончит клавир первой картины первой части. 14-го – вторую картину, то есть уже всю часть. После этого можно было чуть отдохнуть, и на следующий день – Мусоргский у Даргомыжского, где исполнялся «Каменный гость». Мусорянин взял на себя партии Лепорелло и дона Карлоса, как всегда, был неподражаем. 17-го – он на дне рождения доброй Людмилы Ивановны Шестаковой. С радостью узнал, что Римлянин не отстает – закончил партитуру хора из III действия «Псковитянки». Сразу две оперы на исторические сюжеты писались не случайно: само время дышало интересом к истории и русскому прошлому.
Пятого декабря Мусоргским закончена сцена в келье Чудова монастыря, первая картина второй части оперы. Далее ждала «Корчма на литовской границе».
Там, где нужна была ровная речь, Мусоргскому не с руки менять классический подлинник. А «корчма» и у Пушкина полнится затейным «народным языком». Композитор разве что изменил вес каждого из пушкинских бродяг, беглых монахов. Варлаама стало «больше», Мисаила – чуть «меньше». На одном эпизоде композитор застрял.
Варлаам, бродяга в рясе, должен был запеть. Мусоргский чувствовал, что это должен быть особый номер. Пушкин не дал текста. Обошелся лишь указанием: «Монахи пьют; Варлаам затягивает песню: Как во городе было во Казани».
Можно было бы вставить эту народную песню, если б вписалась она в его драматургию. Но всего нужнее был текст. А как сыскать его? Где?
Стасов выручил. Выкопал-таки нужные слова в «Древних русских стихотворениях», сборнике Худякова. 9 декабря, на концерте РМО в зале Дворянского собрания, где за дирижерским пультом стоял Балакирев, и вручил текст долгожданной песни Мусоргскому.
Композитор, похоже, и не знал, что Пушкин имел в виду совсем другую песню. Но радовался как ребенок. И, конечно, не тем словам, которые читал. А тому, что сюжет песни к опере подходил идеально. А текст – что текст! Над текстом можно было и поработать.
Песня из сборника называлась «Про Казань». Перечитывая листок, поднесенный Стасовым, он не торопился помещать его в свою книгу с либретто.
Уж вы люди ли, вы люди стародавние!
Молодые молодцы, послушайте,
Еще я вам расскажу про царевый про поход,
Про грозна царя Ивана Васильевича.
Столь эпический зачин никак не подходил для его драмы. Варлаам опорожнил кружку с вином, кровь в жилах закипела, он и загорланил… Тут и музыка должна была ходить ходуном. Остальную часть песни вписал в свою «пушкинскую книгу», чувствуя: многое надо править.
Сюжет был хорош. «Разгульный». Слова?.. Модест Петрович тронул текст в одном месте, вписал кое-что в другом. Большая часть текста сохранилась, но всё вместе изменилось до неузнаваемости. Начал с пушкинских слов: «Как во городе было, во Казани». Далее – полетело свое: «Грозный царь пировал да веселился». И сразу песня так и заходила, вместе с разухабистой своей темой, слова словно сами выпрыгивали из этой музыки:
Он татарей бил нещадно,
Чтоб им было неповадно
Вдоль по Руси гулять.
Далее пригодился худяковский текст, он только ритмически иначе «заплясал», да и словечки капельку пришлось подправить:
Царь подходом подходил да под Казань-городок;
Он подкопы подкопал, да под Казанку под реку…
Песня из сборника тяготела к эпике: «Что и тут-то наш грозен царь прикручинился, он повесил буйну голову на правое плечо, утупил он ясны очи во сыру мать-землю…» Всё это нужно было взвинтить, чтобы сначала как бы «пригасло» —
Грозный царь-от закручинился,
Он повесил головушку на правое плечо…
А потом ходуном заходило:
Уж как стал царь пушкарей сзывать,
Пушкарей все зажигальщиков,
Зажига-а-альщиков!
И далее всё нужно было взболтать: «Воску ярого свеча затеплилася…»? Нет – «задымилася». Бочка «загорелася»? – Нет, «закружилася». Он и сам не подозревал, какую – вторя музыке – дивную литературную работу совершил. Тут всё движется как живое. И скоморошина какая-то есть в этом разгуле: и жестоко, да и смешно, ведь не «взорвалась» и даже не «грохнула», но – с усмешечкой – «хлопнула». Так и вылепилось историческое предание пополам с карикатурой:
Задымилася свечка воску ярова,
Подходил молодой пушкарь-от к бочечке.
А и с порохом-то бочка закружилася.
Ой, по подкопам покатилася,
Да и хлопнула.
В финале он сочинял слова, словно бежал за музыкой. Тут из худяковского текста сгодилось только числительное:
Завопили, загалдели зли татарове,
Благим матом заливалися.
Полегло татаровей тьма тьмущая,
Полегло их сорок тысячей да три тысячи.
Так-то во городе было во Казани…
Да, не тягучая песня «Про Казань». А разудалая, разгульная песня Варлаама. В оставшейся части сцены можно было не терзаться с текстом, Пушкин сам выводил. Только вот в сцене с приставами живую разорванность речи подчеркнуть…
Сцена так ему нравилась, что в декабре на одном из вечеров – не то у Пургольдов, не то у Даргомыжского, не то у Шестаковой – решился ее показать даже не совсем завершенную. Даргомыжский, услышав начало рождаемой оперы, когда народ, понуждаемый плетками, падает на колени и голосит, упрашивая Бориса взойти на престол, а затем «Корчму» – был в восхищении. И – совсем уже ослабший – не мог не выразить своего чувства: «Мусорянин идет еще дальше меня!»
* * *
«Борис» рождался невероятно быстро. За два месяца с небольшим – часть октября, ноябрь и декабрь – сочинена была уже половина оперы! Стасов, всегда готовый подтолкнуть своих нерадивых подопечных к работе, тут сразу почувствовал, какая сила ожила в Мусоргском. Еще 11 ноября, когда только-только была закончена первая сцена, у него в письме к Корсиньке сквозь рассуждения о возможном вечере у Пургольдов проскочит: «Мусорянина, разумеется, никакими пряниками не вытянешь из берлоги».
Кажется, когда Мусоргский писал своего «Бориса», другой жизни почти не существовало. Он не отвлекался ни на что. Лишь одно сочинение все-таки зазвучало в его душе вместе с «Борисом»: в конце 1868 года он оркеструет свой романс четырехлетней давности «Ночь». Стихотворение Пушкина пронизано и тихою грустью, и трепетом возможного счастья, и предвкушением радости.
Мой голос для тебя и ласковый и томный
Тревожит позднее молчанье ночи темной.
Близ ложа моего печальная свеча
Горит; мои стихи, сливаясь и журча,
Текут, ручьи любви; текут полны тобою.
Во тьме твои глаза блистают предо мною,
Мне улыбаются – и звуки слышу я;
Мой друг, мой нежный друг… люблю… твоя… твоя!..
То ли воспоминание. То ли игра воображения. И та взволнованность, которую после будешь вспоминать с благодарностью за пережитое.
В романсе – в окончательной его редакции – певучий пушкинский стих превращается в сбивчивую, взволнованную речь Мусоргского. Стихи ломаются, становятся полупоэзией-полупрозой. Еще точнее – драмой:
«Твой образ ласковый так полн очарованья, так манит к себе, так обольщает, тревожа сон мой тихий в час полночи безмолвной… И мнится, шепчешь ты. Твои слова, сливаясь и журча чистой струйкой надо мною, в ночной тиши играют, полны любви, полны отрады, полны все силы чар волшебной неги и забвенья. Во тьме ночной, в полночный час твои глаза блистают предо мной. Мне… мне улыбаются, и звуки, звуки слышу я: мой друг, мой нежный друг! люблю тебя, твоя, твоя».
Конечно, рядом с пушкинской лирикой это – лишь бледное ее подобие, как прозаический перевод с неизвестного подлинника, «подстрочник». Но музыка начинается с мягкого тремоло, с этого дрожания звука, в котором запечатлелось и струение лунного света, и душевное томление. В романсе живет ночная тишина, нервное ожидание, здесь ощутимо прерывистое дыхание в предчувствии встречи. У Пушкина – поэт наедине со своим воображением и перед листом бумаги. У Мусоргского – не то состояние счастливой полудремы, не то пробуждение в момент свидания: «Твои глаза блистают предо мной…»
Романс, сочиненный еще в 1864-м, окутанный теплыми звуками оркестра в декабре 1868-го, во всех четырех редакциях посвящен женщине, о которой, кроме ее имени, не известно почти ничего. Только в Публичной библиотеке, спустя более столетия, отыщется почти случайная ее записка на бумаге с фамильным гербом, отправленная 4 марта 1864 года Балакиреву:
«Надеясь на вашу любезность, Милий Алексеевич, прошу известить меня, когда и где будет генеральная репетиция концерта в пользу вашей школы – чем много утешите Надежду Опочинину» [84]84
Новиков Н. С.У истоков великой музыки. Поиски и находки на родине М. П. Мусоргского. Л., 1989. С. 194.
[Закрыть].
…Одна из самых непроницаемых тайн души композитора. С какой редкой постоянностью образ женщины, что была много старше его, чье изображение затерялось в истории, чей облик не запечатлел ни один литератор, ни один мемуарист – встает в его посвящениях.
Первое октября 1859-го. Ему – двадцать, ей – тридцать восемь. «Impromptu passionné», то есть – «Страстный экспромт». Пьеса для фортепиано. Посвящена – Надежде Петровне Опочининой. 15 августа 1863-го. Романс «Но если бы с тобою я встретиться могла…». Посвящен – Надежде Петровне Опочининой. В словах Василия Курочкина можно прочитать намек на какую-то биографическую подробность:
Расстались гордо мы; ни словом, ни слезою
Я грусти признака тебе не подала.
Мы разошлись на век. Но если бы с тобою
Я встретиться могла!..
Но, может быть, и не было этого сюжета в жизни Надежды Петровны? Может быть, это Мусоргский хочет ей сказать о своем?
Год 1864-й – первая редакция романса «Ночь», где слова – ближе к пушкинским. Подзаголовок – «Фантазия». Тогда же появилась и вторая редакция, со сбивчивой речью. «Она»– приблизилась к композитору. 26 июля 1865-го – милая фортепианная пьеска «Шалунья» на тему ныне никому не известного Л. Гейдена. В 1866-м – романс «Желание». Ему – двадцать семь, ей – сорок пять. Дата на одном из вариантов выдает душевное смятение: «С 15-го на 16-е апреля 1866 г. Питер, (2-й час ночи)». Еще большее признание – в посвящении: «Надежде Петровне Опочининой. В память ее суда надо мной». Слова Гейне, перевод Михайлова. В последней строке знакомый в переделках Мусоргского «прозаический» перебой ритма, – как спазм, когда перехватывает дыхание. И через эти чужие слова опять сказано нечто сокровенное:
Хотел бы в единое слово
Я слить мою грусть и печаль
И бросить то слово на ветер,
Чтоб ветер унёс его вдаль…
И пусть бы то слово печали
По ветру к тебе донеслось,
И пусть бы всегда и повсюду
Оно к тебе в сердце лилось;
И если усталые очи
Сомкнулись под грёзой ночной,
О, пусть бы то слово печали
Звучало во сне… во сне над тобой.
Слова душевного прощания? Или только мучительного смятения?
«Стрекотунью-белобоку», эту «шутку» 1867 года, где он соединил два пушкинских произведения, перемежая заглавное стихотворение с другим – «Колокольчики звенят», посвятит не только ей, но и брату ее, Александру Петровичу. Показал во время музицирования, и они пришли в восторг от его чудачества? «Классик», написанный в том же в 1867-м, накануне нового года, посвящен только ей. Сатира понравилась Надежде Петровне своей необычностью?
Вопросы, вопросы, нескончаемые вопросы. Жизнь его сердца едва различима сквозь пелену времен и сроков. И все же его сочинения, – посвященные ли Надежде Петровне, связанные ли с ней, – всего более могут рассказать об этой женщине. И о нем. И о его постоянстве.
1868-й. Романс «Ночь» одет в звуки оркестра. Кем же она была для него, Надежда Петровна Опочинина? Разница в восемнадцать лет – слишком большая разница. И все же…
После ее кончины, в незаконченном «Надгробном письме», Мусоргский в отчаянии произнесет несколько фраз, за которыми лишь отблеск каких-то житейских эпизодов: «Вы вовремя порвали „с блеском света“ связь привычки, расстались с ним без гнева; и думой неустанной познали жизнь иную, – жизнь мысли для труда святого».Что за история проглядывает за этими строчками? Был успех в свете? И следом – разочарование?
Женщина с особенной судьбой. Уйти в себя, жить собственной духовной жизнью… «О, если бы могли постигнуть Вашу душу!»– Это возглас Мусоргского из 1874-го, еще под свежим впечатлением от тягостных похорон, когда стоял он у свежей могилы. Но душу ее знали очень немногие. И Модест Петрович – один из этих немногих. «О, если б Вам внимали в беседе, в жарком споре…»– значит, были эти беседы, о которых не известно почти ничего. Были и споры. И – та горячность, с которой он уходил в них, и которая прочитывается за этими возгласами.
Только лишь любила музыку и ценила новых русских композиторов? С особым трепетом ловила звуки, созданные именно Мусоргским?.. «В память ее суда надо мной…»
Многое из посвященного можно объяснить стечением обстоятельств: исполнил только что сочиненную вещь – и Надежде Петровне она «приглянулась». Но никакой иной женщине он не посвятил столькопроизведений. Да и кому посвятил больше? Разве что Стасову. Но это уже не просто старый товарищ, соратник, зачастую – и необходимый помощник, и двигатель, который побуждает к действию.
А в посвящения Опочининой часто вплетаются странные, непринятые в обычных посвящениях пояснения.
«Страстный экспромт». Приписка – «Воспоминание о Бельтове и Любе». Значит – читали вместе Герцена, роман «Кто виноват?». Или – говорили о нем. И разговор этот был столь значителен для юного еще Модеста Петровича, что он, под впечатлением этого общения, пишет свою фортепианную пьесу.
«Кто виноват?» – роман редкой печали. Люба, дочь помещика и крестьянки, воспитывается в господском доме, постоянно чувствуя двусмысленность своего положения. Ей объясняется в любви учитель ее законнорожденного брата, Дмитрий Яковлевич Круциферский, и она, уверенная в своем ответном чувстве, вырывается из-под опеки отца и мачехи.
Семья живет спокойно и счастливо. Жить «устроенно», воспитывать сына – что еще нужно для женского счастья? Но однажды друг семьи, доктор Крупов, знакомит Круциферских со своим знакомым, Владимиром Бельтовым, недавно объявившимся в здешних краях. Человек особой породы, словно бы предназначенный для большого дела, он не находит себе места в нынешней жизни.
Когда Печорин у Лермонтова произносил знаменитую фразу: «Верно, было мне назначение высокое, потому что я чувствую в душе моей силы необъятные», – он говорил, в сущности, не только о себе, но о целом поколении. Бельтов – из тех же «лишних людей». И вот – встречается на его пути женщина, без которой становится бессмысленной жизнь. И ее тянет к нему, потому что ведь и она – натура волевая и сильная. Ее жизнь, быть может, тоже предназначена была не для тихого семейного счастья.
И – рассыпается всё. По городу ползет грязная сплетня. Любовь Алексеевна тяжело болеет. Разгневанный Крупов требует от Бельтова, чтобы он уехал из города. Владимир уезжает к матери, потом – неизвестно куда. Добрый и слабый духом Дмитрий Яковлевич пьет. Он уверен, что не может дать счастья любимой женщине. Любовь Алексеевна с трудом пережила тяжелую болезнь маленького сына. Вскоре в городе появляется мать Бельтова. Она ухаживает за больной женщиной, которая любила его Владимира. Теперь они вместе говорят о нем…
«Воспоминания о Бельтове и Любе» – это воспоминание о пережитом? О той преграде, которая легла между Мусоргским и Надеждой Петровной? И что было этой преградой? Ее возраст? Иная причина? В душе ее – при взгляде на Модеста Петровича – боролись чувство материнские с чувствами совсем иными?
«Страстный экспромт». Название заставляет ждать музыки бурной, патетичной. Но всего более «Страстный экспромт» удивляет своим тихим, просветленным мажором. Да, в средней части музыка обретает черты драматические. Но и это – сдержанные волнения. Они пробуждаются в душе, но словно пришли из воспоминаний: всё, что было, – осталось в прошлом. «Страсть» в экспромте – подлинная, но – сдержанная. В первых тактах ее различит только очень чуткий слух. Главным образом, здесь запечатлелось просветление, та благодарность миру или Создателю за саму встречу, за пережитое.
Грустную историю, рассказанную Герценом в романе «Кто виноват?», можно прочитать и под знаком вынесенного в заглавие вопроса: кто виноват в развале доброй семьи? «Лишний человек» с его презрением к общественному мнению или сплетня, воплотившая это мнение? Но можно прочитать и как печальную повесть совсем о другом: жизнь часто складывается против человеческого счастья. Два человека любят друг друга, но между ними – жестокое препятствие: страдания другого человека, осуждение друга, общепринятая мораль.
Надежда Петровна Опочинина и молоденький еще Модест Петрович Мусоргский. Здесь тоже была преграда, всё то же общественное мнение… «В память ее суда надо мной»… Что за оговорка? Как будто препятствие в какое-то мгновение перестало ощущаться, но потом – пришло «отрезвление» и укор со стороны той, что все-таки была старше?








