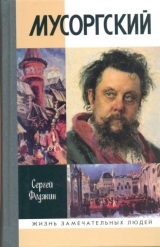
Текст книги "Мусоргский"
Автор книги: Сергей Федякин
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 43 страниц)
С Милием что-то происходит. Ему трудно общаться с друзьями. Корсинька, в свою очередь, просит Людмилу Ивановну не заставлять его что-либо показывать при Стасове, Кюи и Балакиреве. Кружок разваливался.
Двадцатого января 1871 года скончался Александр Николаевич Серов. На следующий день выйдет его посмертная статья «Русская народная песня как предмет науки». Серов словно бы с того света толковал о сборнике русских песен, подготовленном Балакиревым: «…сборниквесьма неважен и переполнен грубыми промахами всякого рода, – но как первый шаг на новом пути, – это труд чрезвычайно замечательный».
Двадцать второго января Балакирев признается Владимиру Жемчужникову в странном чувстве: «Мне оченьхочется Вас видеть, ибо я очень мрачен вследствие смерти моего врага Серова» [112]112
Балакирев М. А.Воспоминания и письма. Л., 1962. С. 103
[Закрыть]. Как будто часть жизни была от него отрезана. Прошлое словно перестало существовать.
То, что с Милием творится что-то неладное, можно было заметить давно. Теперь же некоторые его поступки не поддавались никакому объяснению. В Мариинке возобновлен «Руслан». Балакирев, обожавший Глинку, просит Людмилу Ивановну взять для него ложу. Но в театре Милия нет: весь вечер он просидел с Жемчужниковым.
Стасов негодует: Балакирев ничего не делает для концерта ради памяти Даргомыжского. «Каменный гость» сможет пойти лишь в том случае, если удастся добыть деньги для выплаты наследникам Александра Сергеевича. Милий будто не слышит и не понимает, о чем речь. «Бах» готов потрясать кулаками. Ему видится, что Милий целый день спит, или режется в дурачки, или бессмысленно слоняется по комнате и грызет ногти. Когда тот пропустил очередной вечер у Шестаковой, ему уже кажется, что Милий «решительно спячивает».
Балакирев зачастил к гадалке. Был близок к самоубийству. Спасением стала вдруг обретенная вера.
«Я тоже был атеистом до 1871 г. Особенные обстоятельства не только тяжелые, но даже ужасные привели меня к уверенности,что Бог есть, а потому я благословляю пережитые мною ужасы, принесшие мне самое драгоценное, что только человек может иметь в жизни – веру в Бога, так как только при обращении с Ним человеческая душа может сохранить чистоту, способность к самопожертвованию, неустрашимость в исповедании истины и ко всему благородному, и если этот идеальный резервуар закрыт для души, то она сохнет в эгоизме, кругозор умственный суживается и человек нравственно падает при гнетущих его неправдах, не находя нигде нравственной опоры» [113]113
Письмо Балакирева к доктору И. С. Покровскому, побочному сыну Улыбышева, от 10 июня 1906 г. См.: Русская музыкальная газета. 1916. № 40. Стб. 698.
[Закрыть].
Это позднее, уже «успокоенное» признание Балакирева. Во времена «ужасов» всё было иначе: и уверовав, он еще не был уверенным человеком.
Милий Алексеевич 12 апреля пишет Жемчужникову: «Пожалуйста, никому не говорите ни слова о моем обращении к религии.Я сам скажу лишь кому найду нужным, а для остальных пусть останусь прежним» [114]114
Балакирев М. А.Воспоминания и письма. Л., 1962. С. 105.
[Закрыть].
Через четыре дня Стасов встретит его у Шестаковой. «Бах» поражен. Корсакову отправит письмо, за которым так и виден жест – человек в изумлении разводит руками:
«Вообще скажу Вам, что Милий произвел на меня вчера самое грустное впечатление. По наружности, как будто, все то же и ничего не переменилось: голос тот же, фигура, лицо, слова – все те же, – да – но только на самом деле все переменилось и от прежнего не осталось камня на камне».
Милий был мучительно молчалив, односложно отвечал на вопросы. Паузы повисали в воздухе как укор. Людмила Ивановна пытается Милия расшевелить, просит его закончить «Тамару». Тот, странно улыбаясь, говорит, что если кончать, то уж никак не «Тамару».
«Мы спросили, – недоумевает „Бах“, – не концерт ли? – Нет, не концерт, а другое, – и больше ничего уже не добились. – Что это все значит? Уж не сочиняет ли он что по секрету? Но такого мизантропского и одичавшего сочинительства еще не видано, и я ничего не возьму в толк» [115]115
Римский-Корсаков Н. А.Полное собрание сочинений: Лит. произведения и переписка. Т. 5. М., 1963. С. 347–348.
[Закрыть].
Увы, Владимир Васильевич Стасов не отличался особой чуткостью. Бывший товарищ намекал, что собирается покончить с музыкой как своей профессией. Вся жизнь перевернулась, все пошло прахом! Черствый в своем упорстве «Бах» гадает о пустяках: какое произведение Милий собирается «заканчивать».
Стасов полон решимости окончательно объясниться. 24 апреля он идет к Балакиреву напомнить о концерте в память Даргомыжского. Донне Анне-Лауре черкнет перед выходом: «Поссорюсь я с ним окончательно или добуду из него, как из кремня – старый огонь?» [116]116
Милий Алексеевич Балакирев: Летопись жизни и творчества. Л., 1967. С. 190.
[Закрыть]Балакирева дома не застанет. Оставит записку. Скоро получит ответ: «Бах! Я очень занят в настоящее время своими собственными делами и положительно не имею возможности заниматься концертами. Если Вы не хотите отложить концерт до осени (конца сентября или начала октября), то пригласите Направника. Он, полагаю, охотно устроит Вам все и продирижирует концерт» [117]117
Балакирев М. А., Стасов В. В.Переписка. В 2 т. Т. 1. М., 1970. С. 277.
[Закрыть].
Балакирев жил уже иной жизнью. Через три дня он поставит дату в партитуре «Херувимской песни» для трехголосного мужского хора.
* * *
То, что душа Балакирева надломилась, Мусоргский узнает из письма Стасова к Корсакову. Его весточка «Баху» выдает пережитое потрясение:
«Ваши строки о Милии, дорогой мой, пришибли меня, хотя я и не был очевидцем его замерзания. Благодаря впечатлительности моей, мне пригрезилось нечто ужасающее: Ваши строки показались мне отпеванием художественного жара Милия – ужасно, если это правда и если, с его стороны, не было личины! Слишком рано: до гадости слишком рано! Или разочарование? что же – может быть и это, но где же тогда мужественность, а пожалуй, и сознание дела и художественных целей, которые без борьбы никогда не достигаются. Или искусство было только средством, а не целью?..»
Странные, даже дикие вопросы. И говорят лишь об одном: трагедии Балакирева Мусоргский не понял. При всей своей «сумбурности», «клочковатости», Мусоргский был натурой цельной, и для него такое поведение иначе и необъяснимо. Милий Алексеевич, когда-то бывший «Силой», выказывал очевидную слабость. В 1860-е годы он – резкий противник музыкальной «учености» и «школьничанья» в искусстве. В консерватории он видит силы, чуждые русскому началу в искусстве. Пройдет совсем немного времени, и смятенный Балакирев, узнав, что Корсакова пригласили преподавателем в консерваторию, будет рад иметь там своего человека. Сам же, чувствуя свою неготовность к педагогическому поприщу, откажется от места в Московской консерватории, хотя за него готовы были хлопотать Чайковский и Николай Рубинштейн. Позже, уже в заметке об умершем Мусоргском, – кратенькой и сухой, – бросит нечто «консерваторское»: «…И так как я не теоретик и не мог научить его гармонии (как, напр., теперь учит Римский-Корсаков), в чем именно и состояло его и Гуссаковского несчастье, то я объяснял ему форму сочинений»… [118]118
М. П. Мусоргский в воспоминаниях современников. М., 1989. С. 89.
[Закрыть]
Модест Петрович, наверное, и не мог по-настоящему ощутить беду Балакирева: перед ним была тяжелая задача – заново вжиться в «Бориса» и серьезно его доработать, чтобы увидеть свое сочинение на сцене. Он сыпал предположениями, не успев их даже осмыслить. Искусство не было для Милия Алексеевича «средством», как это примерещилось Мусоргскому. Но он был измучен борьбой, неудачами и безденежьем. И – самое главное – стал сомневаться в своей правоте. И это было самым страшным.
Летом 1871-го Бородин будет всерьез беспокоиться. До него дойдет страшная весть, что Балакирев сошел с ума. Александр Порфирьевич был как-никак медик. Он помнил, что Милий некогда пережил тяжкую болезнь, чуть ли не воспаление мозга. Знал, какие головные боли преследовали Балакирева, сколько нервов отнимали концерты и уроки. Скоро выяснится, что слух о безумии, пожалуй, был преждевременный. Но Бородин все-таки сокрушается. Корсиньке пишет: «Относительно же Милия я душевно скорблю. Положим, что он не сошел с ума. Но разве состояние, в котором он находится, лучше помешательства?..»
Знали бы они, что произойдет еще через год, летом 1872-го! Окончится еще один мучительный сезон, когда концерты БМШ не дадут нужных сборов. И Балакирев оставит музыкальное поприще. Превратится в обычного чиновника. 6 июля занесет в записную книжку:
«Сегодня начались занятия мои в Магазинной конторе Варшавской железной дороги. Благослови, Боже!!!» [119]119
Милий Алексеевич Балакирев: Летопись жизни и творчества. Л., 1967. С. 198.
[Закрыть]
…«Могучая кучка», «балакиревский кружок», «Кюи-композиторы», «новая русская школа»… Как ни называй, какими глазами ни смотри – друзей ли, врагов ли, – все пятеро казались до времени единомышленниками. То, что слишком они были разными, чтобы стать соратниками во всём, показало будущее. Милий Алексеевич Балакирев, сам пробивший себе дорогу, ставший одним из ведущих музыкантов России, некогда возившийся со своими подопечными, как нянька возится с детьми, первый стал отходить от кружка, от своего собственного чада.
Ученики чтили. Но уже мало слушались его мнения о своих сочинениях. Они становились «взрослыми», и это, наверное, тоже раздражаю его, столь горячего, темпераментного, привыкшего подчинять.
Страстность его, рано или поздно, должна была перехлестнуть через край. Неуравновешенность, вечные душевные колебания могли обернуться депрессией. Юношеский атеизм в зрелом возрасте мог – как это частенько бывало в жизни многих русских писателей, мыслителей, ученых – обернуться экзальтированной религиозностью.
В сущности, Балакирев действительно был болен. В его вере очевиден надрыв. Но есть и другое. Товарищи по кружку его, в сущности, не понимали. Он в душе своей не был столь «демократически» настроен, как Стасов, с которым Милий особенно много общался. Балакирева тянуло к идейному славянофильству, и даже к охранительности. Потому столько сил он отдавал на славянское дело.
После своего долгого кризиса Милий Алексеевич однажды на скептические замечания Стасова ответит письмом, похожим на трактат. Здесь, быть может, он даже более «крайний», нежели кто-либо из «столпов» и основателей славянофильства, – Иван Киреевский и Алексей Хомяков. Он пишет о чехах, сербах, черногорцах, поляках, сыплет именами, деталями. В истории западного славянства чувствует себя как дома. Стасова упрекает в поверхностном знании и выговаривает:
«Вы, как и публика вообще, в данном случае преклоняетесь перед удачей и отвертываетесь с презрением от несчастья, не входя ни в какие разбирательства. И что Вам далась на смех славянская доброта. Разберите-ка хорошенько: если из двух племен одно с самой колыбели, по свидетельству истории, обнаружило такие душевные свойства, в силу которых, например, пленные у него становились как бы членами семьи, а другое, наоборот, относилось к пленным с беспощадной жестокостью, то к которому из двух Вы отнесетесь как к более развитому? Конечно, к первому, т. е. славянскому, которое с колыбели оказалось одаренным тем душевным развитием, к которому германское племя могло прийти только длинным путем переработки под влиянием христианской цивилизации…» [120]120
Балакирев М. А., Стасов В. В.Переписка. В 2 т. Т. 1. М., 1970. С. 351.
[Закрыть]
Несомненно, Балакирев здесь пристрастен. Но он не судит об истории поверхностно. Стасов же, при своем крайнем упрямстве, возможно, и в этом послании мог увидеть лишь балакиревскую «кривизну головы».
Музыкально они были союзниками. Но мог ли Балакирев испытывать такую тоску, возвращаясь в Россию из-за границы, какую испытывал Стасов, когда впечатления от шумной и пестрой парижской жизни заслонялись непролазной российской дорожной грязью? Стасов пестовал русское искусство, но часто обязательным его признаком было слишком прямолинейное прочтение, где социальная сторона в содержании произведения преобладала.
Тот период, который для друзей Балакирева будет годом его кризиса, для самого Милия Алексеевича окажется временем поиска самого себя. Он, в конце концов, не обязан был разделять ни прогрессизм Стасова, ни его скепсис в отношении славянства. Не хотел быть вечным подростком, который требует во всем демократии. Он имел право идейнобыть другим. И музыку свою, как и понимание музыкального искусства, соотносить со своими – а не стасовскими – представлениями о том, что есть подлинная правда.
Но для друзей его отход был внезапен и странен. Подобно тому, как в свое время Русь переживала раскол, так «балакиревский кружок» переживал потерю Балакирева. Основатель кружка перестал быть единомышленником. Хотя и сохранил все те же устремления к развитию русскоймузыки. Идеал остался прежним. Но путь – изменился резко. Для друзей это было свидетельством чуть ли не психического расстройства. 11 октября 1872 года Стасов «ахнет» в письме к дочери:
«Представь себе, прошлой зимой и весной Балакирев истинно рассказывал Влад. Жемчужникову (я это только теперь узнал), что „во Владимира Стасова вселился сатана, и Балакирев сильно жалеет об этом бедном Стасове, но помочь покуда не может и потому отграничился от всей этой музыкальной компании, но, когда окрепнет как следует, то пойдет и сразится с диаволом и изгонит его из Стасова“» [121]121
Стасов В. В.Письма к родным. Т. 1. Ч. 2. М., 1954. С. 92.
[Закрыть].
В 1875-м бывшие товарищи по кучке вдруг как бы заново встретят Балакирева на своем творческом пути. В 1877-м они уже будут уверены, что Милий воскресает для музыки. Но до той минуты Балакирев будет жить вдали от прежней жизни. Да и вернется он совсем другим.
Милий Алексеевич не раз будет говорить, что «Борис» писался без малейшего его участия. С 1871 года Мусоргский живет и сочиняет словно бы и вовсе «без Балакирева».
* * *
Десятого апреля появится клавир первой польской сцены – «Уборная Марины Мнишек в Сандомире». Вторая сцена – у фонтана – будет написана летом. Казалось, теперь он близок к тому, чтобы представить в комитет оперу «второй раз законченную», – только оркестровать написанное. На мгновение он и сам мог подумать, что конец совсем близок. Летом даже мелькнет идея новой комической оперы на гоголевский сюжет. Появится и новая редакция романса «Ночь», – где он далеко отходит от текста Пушкина, где слышней прерывистое дыхание и его собственное волнение. Он словно бы прощался с той, кому посвятил свой романс. Большую часть июня проведет у брата в деревне, а вскоре по приезде покинет добрый дом Опочининых, поселится отдельно, в меблированных комнатах на Пантелеймоновской улице. Прощался с прежней удивительной жизнью, с Инженерным замком, с «Годуновым». Но именно «Борис» и не захотел его отпустить.
В сцене на Литовской границе – «для усиления женского элемента» – добавит песню корчмарки, изменив слегка и музыку вступления к этой картине. В самом начале хозяйка корчмы «штопает старую душегрейку» и поет:
Поймала я
Сиза селезня,
Ох ты мой селезень,
Май касатик селезень.
Посажу тебя,
Сиза селезня,
Ох, на чистенький прудок,
Под ракитовый кусток…
Слова пришли к нему из народной песни. Хозяйка корчмы словно бы превращалась в «утицу», и песня сразу схватывала этот характер – женщины, «видавшей виды».
Опера явно становилась долгой. По всей видимости, именно мысль о сценическом времени подвигла его сократить рассказ Пимена в келье о преступлении Бориса.
Но создание его давно уже живет своей жизнью и требует все новых изменений. Сцена в тереме – расширяется. Преступный царь наделяется очень важным ариозо (пригодилась музыка из давно оставленной «Саламбо»). Монолог он «произносит», сидя у стола, «в раздумье, перебирая свитки и пергаменты»:
Достиг я высшей власти.
Шестой уж год я царствую спокойно,
Но счастья нет моей измученной душе!..
В начало действия, дабы развеселить пригорюнившуюся Ксению Годунову, тоскующую по умершему жениху, врастают песни «Как комар дрова рубил…» и «Туру-туру-петушок…». Внимательное чтение «Истории» Карамзина родило и рассказ царевича Феодора о попугае, и тот переполох, который учинила сия живность. «Попинька» сидел «с мамками в светлице», успел обидеться на одну, обозвать ее «дурой» и даже клюнуть, всполошивши уже всех мамок…
Композитор вводит все новые контрасты: мрачное ариозо Бориса и следом – затейная история с попугаем. Переделками он очень доволен. Горит нетерпением показать их Стасову, сам начинает изъясняться густой затейною речью:
«Понеже противно и докучливо зреть и слышать скрежет зубовный преступника, то вслед за оным врывается толпица малая мамок и сии ревут и вопят непонятно, почему царь их изгоняет и посылает сына узнать „с чего там бабы взвыли“… Пока сын исполняет оное, предстает ближний боярин и шпионит царю, докладывая о Шуйском, а когда шпион сей утекает, возвращается царевич и на вопрос Бориса „ну что там?“ объясняет следующее…»
Текст рассказа о попугае приводит целиком. А в сносочке присмеивается: «Уже седьмой зверь, мною любезно воспеваемый; в исторической последовательности выскакивали: 1, Сорока, 2, Козел, 3, Жук, 4, Селезень, 5, Комар с клопом, 6, Сыч с воробьем, 7, оный попка».
Смеховое начало в его музыке уже начинает выходить за рамки «общепринятого юмора», порождая какие-то сюрреалистические выплески, сближая его с Достоевским. У того в «Бесах» (роман создавался в это же время) появляется персонаж, который сочиняет дикие стихи:
Жил на свете таракан,
Таракан от детства.
Таракан попал в стакан,
Полный мухоедства…
Но рядом с этим «попинькой», с этим ерничаньем и юродством, у Мусоргского в сцену входит и трагедия. Куранты, звонившие некогда в годуновское время, подвигли его еще на одну переделку.
Гляди-ко! Часы пошли!
Куранты заиграли!
Это царевич Феодор произносит. В самом начале картины. В конце ее – Борис, после рассказа Шуйского об убиенном царевиче Димитрии, опускается в кресло. Начинается монолог: «Уф, тяжело! Дай дух переведу…» Доходит до мучительного: «О совесть лютая, как страшно ты караешь!..» Следующая ремарка в либретто лишь указывает: «Часы с курантами приходят в движение». Сама же музыка пробирает жутью. Странное сочетание – отчаянная полубезумная исповедь преступного царя и жесткий, механический бой курантов – словно сталкивает живую падшую душу с неумолимой судьбой. Царевич Феодор вдруг сближается с невинно убиенным Димитрием. Кошмар, кровавое видение, настигающее Бориса под звук курантов, – это не только его прошлое. Это и будущее уже обреченного Феодора Годунова.
* * *
С 1 сентября 1871 года Мусоргский и Римский-Корсаков поселились вместе. Снова была «коммуна», но какая! Два композитора под одной крышей, которые делили между собой один рояль. Мусоргский весь полон оперой и творческого общения. В жизни Корсакова – это живое, счастливое время, когда он не был придирчив к музыке Мусорянина, но мог советовать и восхищаться.
Римлянина пригласили в консерваторию, преподавать. Друзья рады, что вместо нудного консерватора Зарембы там появится свойКорсаков. Скоро Николаю Андреевичу – всегда такому исполнительному и серьезному – придется много учиться, пройти через сомнения, разочарования в себе и своем деле, чтобы после снова воспрянуть и твердо встать на собственный путь. Та будущая пора заметно разведет их с Мусоргским. Но пока они были единомышленниками в полном смысле.
Их жизнь бок о бок будет не без драматических событий. В начале ноября, в Пизе, внезапно скончается старший брат Корсиньки, Воин Андреевич. Римский-Корсаков должен будет ехать в Италию с самыми горькими мыслями, как-никак, а брат для него был более чем брат, – и брат и отец в одном лице. Осенью случится еще одно несчастье: Людмилу Ивановну Шестакову разобьет паралич. Вечера у нее на время прекратятся. И все же в памяти это время – конец 1871-го, первая половина 1872-го – оставит самые светлые воспоминания.
Мусоргский дописывает своего «Бориса». О другом он, всегда скрытный в некоторых вопросах, умалчивает, но Опочининых часто навещает. Корсаков заканчивает «Псковитянку». Он влюблен в Надежду Николаевну, в «милый оркестр». Она уже вся живет одним Корсинькой, ее «Искренностью», его (и немножко ее) почти готовой оперой. Что-то творится и с Александрой Николаевной. «Анна-Лаура» живет словно в предчувствии будущего счастья. Маленький дневничок [122]122
См.: Дневник А. Н. Пургольд // Советская музыка. 1957. № 5. С. 134–138.
[Закрыть]доносит этот ее звонкий девичий голос:
– 23 октября 1871 исполнялась в первый раз вся «Псковитянка». Без увертюры. Славный, хороший вечер, на меня нашло какое-то дурачество. Разные тосты за ужином. Квей был мной недоволен.
– 5 ноября 1871. Замечательная ссора Наденьки с Тигрой. Тигра был во многом прав, со временем я это докажу.
– 12 ноября 1871 г. самый хороший вечер, исполнялся «Борис» в первый раз, без первого акта и без дуэта в четвертом действии.
Биографы рисуют ее всегда взрослой, серьезной (хорошая певица!), хотя и живой. Здесь запечатлевается совсем еще девчонка, жизнелюбивая, счастливая, невзирая на то, что «Тигра» ее заметил только лишь как певицу.
– Бах был в восторге от меня в меховом костюме, просил снять в нем карточку. Разные шалости и смех с Бородиным. Мы с Фимом условились быть вечером у Стасовых, но нам прислали билет на Руслана. Очень было весело на репетиции.
– За ужином мне было хорошо. Тосты за успех наших милых опер.
Сестры Пургольд накануне перемен. Надежда Николаевна обожает «Псковитянку» Корсиньки. Александра Николаевна явно предпочитает «Бориса». Скоро в ее книжечке появится еще одна запись – роковая, с которой начнется и ее житейское счастье:
– 12 января 1872 первый раз у Корсаковых, очень милый вечер, знакомство с Молас. Много пела довольно удачно.
Николай Павлович Молас был художником-любителем, писал пейзажи. Скоро Мусоргский начнет показывать странную ревность, – опасался не за судьбу Александры Николаевны, но за ее искусство.
– 25 января «Псковитянка» в третий раз. Очень, очень хорошо.
И уже будет «маленькая ссора с Тигрой», по пустяковому, впрочем, случаю, и «дурачество с Н. Моласом».
– Я поднесла Тигре жука, чем он был очень доволен. —(Вот уж действительно ребенок жил в авторе «Бориса Годунова»!) – Кюи мной особенно доволен. В этот вечер с Тигрой делалось что-то особенное, надо хорошенько за ним наблюдать. Тосты за ужином за Надю, за то, чтобы она написала на гоголевский сюжет. За «Псковитянку» и за «Заколдованное место».
Надежда Николаевна сочиняла. Написала фантазию на дивную историю из «Вечеров на хуторе близ Диканьки», на веселое, полное юмора (но и с чертовщинкой) «Заколдованное место».
– 4 февраля 1872 года. Репетиция концерта Русского Музыкального общества. Исполнялось: финал первого действия «Бориса», «Ромео и Юлия» [123]123
Так в то время иногда называли «Ромео и Джульетту».
[Закрыть]Чайковского, «Дон-Кихот» Рубинштейна. «Борис» затмил все остальное! Что-то будет завтра, какой будет первый выход Тигры. Талантливого Тигры, самого талантливого из всех разбойников! Стасов прав, по силе таланта никто не может сравниться с Тигрой. В нем лежит что-то особенно оригинальное!
День более чем знаменательный. Эту сиену из «Бориса» запомнит и Направник, как-то особенно для себя ее выделяя. Но Мусоргский нервничал.
– Борис прошел плохо, но Тигра был вызван два раза. Тигра сильно взволнован…
Скоро Кюи в рецензии заметит: сцена все-таки слишком оперная, не для концертного исполнения. Вероятнее – слишком необычной была сама музыка. Мусоргский был в растрепанных чувствах. Анна-Лаура тревожится за него, сама переживает.
– 6 февраля 1872. Написала Тигре, чтобы он зашел, очень хотелось его развлечь, он тотчас же пришел, и мне удалось его несколько успокоить. Надя страшно кашляет, это меня сильно волнует. После чаю играли в короли с Тигрой и Марьей Федоровной.
Запись оживила и это не очень ранее заметное в их компании лицо, Марию Федоровну, вдову Воина Андреевича Римского-Корсакова. Надежда Николаевна – невеста Корсиньки. И сестры Пургольд уже знакомы с его родными. Разумеется, и вдова старшего брата – почти «своя».
Дневник Александры Николаевны более походит на записную книжку. Но почти каждая реплика – живой молодой голос и трепет, волнение, радость.
– 16 февраля 1872. Первый раз Каменный гость. Ужасно хорошо, я с ума сходила от восторга. Было необыкновенно весело!
Опера покойного друга, старшего их товарища, любимое сочинение всего кружка, наконец попала на сцену. Три года уже прошло со дня кончины Даргомыжского. Будет еще одна ремарочка об оратории Франца Листа, которая Анне-Лауре совсем не приглянулась. Далее дневник замолчит. Взорвется новыми записями лишь ближе к лету. И здесь – судьба окончательно решилась.
– 24 мая прелестная поездка в Юкки с Моласом. Он приходил в такой восторг, что целовал мою лошадь и вообще сумасшествовал. Поскорее бы опять приехал. За что его Тигра ненавидит, я не понимаю. Но видно, он всегда хочет что-нибудь ему насолить. Когда это объяснится? С Надей все хуже и хуже отношения. Неужели она ревнует Корсиньку ко мне, это непроходимо глупо. Перебрать всю музыкальную компанию, так я бы скорее могла в каждого влюбиться, чем в Корсиньку. Она никогда не хочет, чтобы я гуляла с ними, поэтому я постоянно удаляюсь от них.
– 24 июня 1872 г. Восхитительный день, я сума схожу. Только сегодня убедилась, что Молас меня также любит, как я его! Вечером гости, я много пела, а когда Корсинька играл новую симфонию, я не могла чтобы не жать руки Моласа. Боже мой, как мне хорошо! Зачем он ушел так скоро! В этом человеке какая-то притягательная сила!
Чуть более полугода, в кратеньких репликах. Счастливого года, когда рождалась на свет «Псковитянка» Корсакова, а потом начала сочиняться его третья симфония. Те полгода, когда завершался «Борис».
* * *
Смотреть на одно и то же время разными глазами. И ловить общее настроение. С осени 1871-го до лета 1872-го в их кружке, несмотря на болезненную отчужденность Балакирева, заметна эта приподнятость. Еще они вместе. Еще не пошли каждый своей дорогой. Необъяснимая радость иной раз захлестывает даже Стасова. Он и через многие годы не мог вспоминать без волнения «коммуну» Мусиньки с Корсинькой:
«Никогда не забуду того времени, когда они, еще юноши, жили вместе в одной комнате, и я, бывало, приходил к ним рано утром, заставал их еще спящими, будил их, поднимал с постели, подавал им умываться, подавал им чулки, панталоны, халаты или пиджаки, туфли, как мы пили вместе чай, закусывая бутербродами со швейцарским сыром, который мы так любили, что Римского-Корсакова и меня звали „сыроежками“. И тотчас после этого чая мы принимались за наше главное и любезное дело, музыку, начиналось пение, фортепиано, и они мне показывали с восторгом и великим азартом, что у них было сочинено и понаделано за последние дни, вчера, третьего дня. Как это все было хорошо, но как все это было давно!»
Какое-то воодушевление сквозит и в письмах Бородина с его неизменными отчетами жене. Он недавно в Питере. В сентябре здесь северная сухая погода. В его квартире – перестройка, рядом – в лабораториях, зоологическом музее, коридорах – хаос и «полнейший разгром». Он уже думает о начале лекций, но успевать нужно везде. Ставят двери, врезают замки, тянут водопровод, проводят газ для лабораторий. В здании выставили окно, собираются протащить слона для зоологического музея. Отопление – в самом плачевном состоянии, в комнате двенадцать градусов, одиннадцать, а то и десять. Но вот он пошел навестить Корсиньку, тот, оказывается, переехал. Александр Порфирьевич, наконец, находит его и встречает Модеста. Они оживлены, готовы показать то, что успели сочинить за лето. Позже Бородин будет показывать им куски своей симфонии. И каждая встреча – в радужных красках:
– Как теперь хорош «Борис»! Просто великолепие. Я уверен, что он будет иметь успех, если будет поставлен. Замечательно, что на не музыкантов «Борис» положительно действует сильнее «Псковитянки», чего я сначала не ожидал.
– У меня были Модя, Корея и Н. Ладыженский, которые все сума сходят от финала моей симфонии; у меня только не готов там самый хвостик. Зато средняя часть вышла – бесподобная. Я сам очень доволен ею; сильная, могучая, бойкая и эффектная.
– Модинька с Корсинькой, с тех пор как живут в одной комнате, сильно развились оба. Оба они диаметрально противоположны по музыкальным достоинствам и приемам; один как бы служит дополнением к другому. Влияние их друг на друга вышло крайне полезное. Модест усовершенствовал речитативную и декламационную сторону у Корсиньки; этот, в свою очередь, уничтожил стремление Модеста к корявому оригинальничанию, сгладил все шероховатости гармонизации, вычурность оркестровки, нелогичность построения музыкальных форм, – словом, сделал вещи Модеста несравненно музыкальнее. И во всех отношениях наших ни тени зависти, тщеславия, безучастия; всякий радуется искренно малейшему успеху другого.
– …У Пургольд исполняли «Бориса» всего, кроме последнего действия. Прелесть! Какое разнообразие, какие контрасты! Как все теперь округлено и мотивировано. Мне очень понравилось [124]124
Письмо А. П. Бородина Е. С. Бородиной от 14 ноября 1871 г. // Письма А. П. Бородина. Вып. 1. М., 1928. С. 322.
[Закрыть].
Последние счастливые месяцы «Могучей кучки». Даже в суховатых воспоминаниях Римского-Корсакова, где так и чувствуется иной раз профессор музыки в строгих очках, появляется какое-то умиротворение, когда он пишет об их с Мусоргским маленькой «коммуне»:
«Наше житье с Модестом было, я полагаю, единственным примером совместного житья двух композиторов. Как мы могли друг другу не мешать? А вот как. С утра часов до 12 роялем пользовался обыкновенно Мусоргский, а я или переписывал или оркестровал что-либо вполне уже обдуманное. К 12 часам он уходил на службу в министерство, а я пользовался роялем. По вечерам дело происходило по обоюдному соглашению. Сверх того, два раза в неделю с 9 часов утра я уходил в консерваторию, а Мусоргский зачастую обедал у Опочининых, и дело устраивалось как нельзя лучше. В эту осень и зиму мы оба много наработали, обменивались постоянно мыслями и намерениями. Мусоргский сочинил и оркестровал польский акт „Бориса Годунова“ и народную картину „Под Кромами“. Я оркестровал и заканчивал „Псковитянку“».
С ними пытались общаться и музыкальные недруги. Раз зашел Николай Феопемптович Соловьев, докончивший по наброскам Серова его последнюю оперу «Вражья сила». Но разговор так и не заладился. В другой раз появился Герман Августович Ларош. Беседа шла вполне благопристойно, да на беду появился «Бах» и обрушился на давнего противника, не слушая никаких доводов, не чураясь и грубоватых обвинений в нечестности.
И все же одно потепление наметилось. Еще в сентябре на праздновании девятой годовщины основания консерватории Антон Рубинштейн произнесет речь, где надеждой русской музыки назовет не только Чайковского и Лароша, но и Римского-Корсакова, и Балакирева, и Бородина, и Мусоргского, и Кюи. Встретив Антона Григорьевича, Мусоргский черкнет письмецо Стасову: «Вчера зрел Рубина милого – он столь же горячо, как и мы, жаждет свидания». Нет уже ни «Дубинштейна», ни «Тупинштейна». Антон Григорьевич хочет показать участникам кружка своего «Демона», оперу на лермонтовский сюжет, просит, чтобы не было лишних людей. И главное, что черпнул из разговора Модест Петрович, – «Рубин был горяч до прелести– живой и отменный художник» [125]125
Письмо В. В. Стасову от 11 сентября 1871 г.
[Закрыть].
* * *
В конце года Мусоргский запишет от народного сказителя Т. Г. Рябинина напев былины «Про Вольгу и Микулу». Ее суровый напев воплотится в сцене появления Варлаама и Мисаила под Кромами. Последняя картина оперы, о которой он давно думал, обрела уже твердые очертания. Но странный поворот судьбы замедлит завершение «Бориса».








