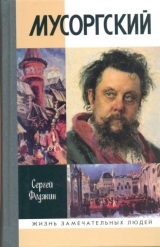
Текст книги "Мусоргский"
Автор книги: Сергей Федякин
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 43 страниц)
Конец – и живой, и умиротворенный. История с жуком ушла в прошлое. Музыка запечатлевает обычное, жизнерадостное состояние ребенка.
Маленький шедевр – «С куклой» – появится уже в декабре. Девочка укачивает куклу «Тяпу». Поет ей колыбельную песенку. Здесь – милая детская подражательность, когда маленькая няня «совсем, как взрослая», но все-таки – звуками это запечатлено – еще ребенок. Поет монотонно, как и покачивает:
Тяпа, бай, бай.
Тяпа, спи, усни,
Угомон тебя возьми…
Остановка. По-детски строгий «нянин» голос:
Тяпа! Спать надо!
И снова, как обычно «стращают» непослушных детей взрослые:
Тяпа, спи, усни,
Тяпу бука съест,
Серый волк возьмет,
В темный лес снесет.
Снова пауза. И следом – маленькая утопия, «Беловодье» на детский лад:
Тяпа, спи, усни,
Что во сне увидишь,
Мне про то расскажешь;
Про остров чудный,
Где ни жнут, ни сеют,
Где растут и зреют
Груши наливные,
День и ночь поют
Птички золотые!
Мягкая пауза. Кукла уже почти совсем уснула. И маленькая няня только еще разочек повторяет:
Бай, бай, бай, бай,
Бай, бай, Тяпа…
Следом пришла и вторая вечерняя сценка – «На сон грядущий». Детская молитва, которую старательно начинает произносить, возможно, та же девочка, что только что угомонила свою «Тяпу»:
Господи, помилуй папу и маму и спаси их, Господи!
Господи, помилуй братца Васеньку и братца Мишеньку!
Господи, помилуй бабушку старенькую. Пошли ты ей доброе здоровьице, бабушке добренькой, бабушке старенькой, Господи!
А далее – перечисляются тети и дяди, множество имен, которые произносятся все быстрее, чтобы и никого не забыть, и поскорее всех назвать. И уже скороговоркой:
…И всех их, Господи, спаси и помилуй! И Фильку, и Ваньку, и Митьку, и Петьку, и Дашу, Пашу, Соню, Дуняшку…
Здесь маленькая молельщица сбивается…
– Няня, а няня! Как дальше, няня?
Речь взрослого резко отличается от речи ребенка. Слова произносятся «по-затверженному»:
– Вишь ты, проказница какая! Уж сколько раз учила: Господи, помилуй и меня, грешную!
И маленькое существо пытается повторить точь-в-точь:
– Господи, помилуй и меня, грешную! Так, нянюшка?
Та же фраза, сказанная взрослым с «заученным» выражением, холодновато, у ребенка звучит с неподдельным старанием, мягко. И на слово «грешную»,пропетую тоненьким голоском, изнутри самой музыки падает теплый лучик: в нем трепещет подлинный смысл молитвы, произнесенной безгрешнымидетскими устами.
«В углу» Мусорянин посвятит милому Витюшке Гартману. Не то – в ответ на подаренные картины, не то увидев в маленьком, худеньком архитекторе с вечными фантазиями в голове что-то по-детски трогательное, не то услышав от этого непоседы истории про его давние детские шалости. «Жук» посвящен Стасову, под отеческой опекой которого находится композитор. А чудные сценка с Тяпой и наивная молитва – посвящены детям. «Тяпу» – дорогим племянникам, «Танюшке и Гоге Мусоргским», «На сон грядущий» – своему крестнику, Саше Кюи.
Это была уже не случайная удача, какою могла показаться написанная в 1868-м первая вещь, «С няней». И это не просто изумительно точные «музыкальные картинки». Это был целый мирок. Одно из целомудреннейших сочинений во всей мировой музыке.
Как часто писатели стремились к особому произведению о детях, такому, чтобы взрослые не мешались, чтобы этот непонятный и чуткий мир существовал в книге сам по себе. «Страна, населенная детьми», – однажды такая строчка появится в черновых записях Достоевского. И как ответ самому себе, он произнесет в одном из произведений: «Дети снятся и мерещатся». Мусоргский первым сумел сделать эту страну живой, осязательной. Нисколько не вмешиваясь в детский мир, но тонко и точно его запечатлевая.
* * *
Год 1870-й – и жизнь «Могучей кучки». Почему-то именно теперь потянуло к обобщениям. 19 апреля 1870 года Стасов отправил Римлянину письмо. Хотел было сказать Корсиньке несколько добрых слов, но вдруг его прорвало, и «Бах» начал сыпать характеристиками, сказав о каждом:
«Знаете ли, из всей компании Вы самый мыслящий – это, кажется, я уже раз говорил Вам, ну да ничего, мне вот пришлось повторить. Кюи – страстный, но вовсе не думающий и ровно ни об чем не способный думать, у него головы нет, да притом же, при всем таланте, ему ровно ни до чего нет дела. Мусорянин – просто выходит из всех пазов вон, по свойству своего таланта, но головою довольно ограничен, критики никакой и ни о чем, не надумывается и не размышляет ровно ни по случаю чего бы то ни было; Бородин – ужаснейший консерватор и никогда не сделает ни единого шага вперед в чем бы то ни было, а скорее 100 шагов назад, он все бы с удовольствием заморозил, чтоб ничто не двигалось, – не странность ли все это! Что за странный склад людей талантливых не только у нас, да и везде на свете!! Что за соединение золота с какой-то самой дрянной известью или глиной, что за засорение таланта – вечным хламом? Балакирев – орел во всем музыкальном, и мне нечего прибавлять к тому, что всякий из нас чувствует до корней души, и такого другого человека мы на своем веке, конечно, не увидим; но его Ахиллесова пята – это прозаичность и кривизна головы во всем немузыкальном. Зато во всем музыкальном – что за человек!!! Ну а Вы: никто больше Вашего не предан своему делу, никто больше Вашего не сидит вечно на своей университетской скамье. Как я ни посмотрю, Вы никогда не перестаете учиться, никогда не развлекаетесь ничем, поминутно возвращаетесь к своему прямому делу: то музыку учите,то оркестровку следите, то разговор возвращаете от посторонних предметов (и часто вздоров) на ту же музыку; наконец, постоянно все наблюдаете и разбираете, все взвешиваете и оцениваете».
Осенью 1870-го будет еще одна попытка понять и оценить каждого. Надежда Николаевна Пургольд, «Милий оркестр», ведет дневник [108]108
Отрывки из дневника Н. Н. Пургольд опубликованы в кн.: Римский-Корсаков А. Н.Н. А. Римский-Корсаков. Жизнь и творчество. Вып. II. М., 1935. С. 81–98.
[Закрыть]. И снова – те же лица. Почти все. Но в несколько ином освещении. Только положить рядом письмо «Баха» и дневник «Оркестра», и в глаза бросится не сходство или различие в суждениях, но разность самого зрения.
Стасов вечно торопится, у него всегда множество дел, он и крошечные творческие портреты своих товарищей рисует словно бы на бегу. Надежда Николаевна – человек совсем еще молодой. Она и сама понимает, что жизненного опыта для полных суждений ей не хватает. Но в отличие от «Баха» она умеет сомневаться. Пробует одну краску, другую, – думает, опровергает то, что недавно казалось верным…
Правда, при всей ее сдержанности и склонности к рассуждениям, женское начало мешает быть во всем объективной. Да и симпатии к Корсиньке окрашивают все ее суждения. Но ведь не просто так она одно время серьезно занималась ботаникой, у нее был особый талант – наблюдать.
О себе она не очень высокого мнения, не верит в свои способности. О Бородине не сказано ни слова. Всего вероятнее – дело случая, дневник велся урывками. Кажется, Бородин был весьма уважаем, да и сам Александр Порфирьевич к обеим сестрам относился с мягкою теплотой. О Кюи – несколько слов, совершенно вскользь. Его сестры не случайно прозвали «Едкость». Цезарь Антонович им не нравился. Почти о каждом члене кружка Надежда Николаевна могла бы сказать: «вполне хороший человек». Но к этой фразе прибавлено в скобках: «кроме Едкости». (Пройдет чуть более года после этой записи, и уже Александра Николаевна в своем крохотном дневничке отметит: «26 декабря исполнялась „Тизба“ Квея. Не сочувствую этой вещи, ужасно ходульная, непростая и малоталантливая».)
О Балакиреве – лишь эпизоды. Когда-то, возможно, под влиянием Даргомыжского, Надежду Николаевну Милий Алексеевич поразил. Старое воспоминание после одного вечера нахлынуло на нее. Ночью 30 сентября она записывает: «Боже мой, что со мной вчера было! Как выразить то, что заключается в этом человеке: это какая-то сила, какая-то неодолимая, страшная сила, которая сидит в нем и влечет к нему. Он совсем какой-то особенный, всё освещается каким-то особенным светом, когда он входит. Из этих глаз исходят какие-то чудные лучи. Его одно ласковое слово значит больше, чем тысяча хороших слов, сказанных другими. Ни в ком, ни в Искренности, которого я так люблю, не чувствуется присутствия этой силы, этого чего-то необъяснимого, что есть только в нем и в его музыке. И вчера он был со мной так ласков, внимателен, чего же больше надо? Я была счастлива!!»
Это – веяние минуты. Уже на следующий день – заметная перемена. А через полтора месяца о «Силе» и об этом же вечере – совсем иная запись: «Просто я была хорошо настроена, мне было вообще весело, вовсе не оттого только, что он тут был, я приписала тогда все это его личности и нагородила такую чепуху, что можно подумать, будто я в него влюблена. А это сущий вздор».
Пройдет время, и к той первой «влюбленной» записи будет прибавлена сносочка: «Как я переменилась с тех пор, теперь этот человек не то, что производит на меня приятное впечатление, но он мне почти что противен».
Римский-Корсаков, «Искренность», «Морской разбойник»… О нем, об «Искренности» – больше чем о других. И самые теплые слова. Мягкость и честность – этого в нем в избытке. Его романсы она напевает про себя. «Милый оркестр» не может жить без музыки Искренности, как, впрочем, и без него самого: «Когда я слушаю некоторые из моих любимых вещей Искренности, то во мне происходит такой внутренний восторг, что нет возможности сдержать его в себе и не выразить каким-нибудь жестом, движением, словом».
А вот и Стасов, непререкаемый авторитет для раннего Балакирева, идейный наставник всего кружка: «Он такой славный вообще! Наверно честный и хороший человек». Это – 3 сентября. А 21 ноября: «Я прежде больше воображала о нем, чем есть. Во-первых, я пришла к тому, что он не очень умен. Мне кажется, я сделала очень удачное сравнение, именно следующее: если взять небольшой кусок резины и растянуть его во все стороны, то он сделается довольно большим, будет далеко хватать во все стороны, но зато он будет очень тонок, плосок и мелок. Я применяю это к уму Баха. Он многое знает, за многое хватается, многим интересуется и толкует об этом, но, в сущности, он все-таки человек мелкий, вся его деятельность тратится на мелочи, которым между тем он придает огромную важность, так что, судя по его словам, пока сам хорошенько не вдумаешься, можешь вообразить, что он чуть что не горы ворочает. Именно ум его уж очень не глубок. Это выражается также и в его мелком тщеславии, которого я прежде не замечала, и в необычайном самообожании. Он воображает, что он умнее и деятельнее всех и что деятельность его крупная, что он играет большую роль и в художественном, и в ученом мире. Между тем как в самом деле крупного он ничего не сделал, а хлопочет и тратится большею частью на совершенные пустяки, которые тем рельефнее и выдаются, что он им придает огромную важность».
Пройдут годы. Надежда Николаевна будет иначе, лучше смотреть на «Баха». И все же внезапное ее «открытие» – не глубокий ум, но просто добрый «болтун», – так ли было оно беспочвенным?
И вот – «Тигра». Он же – «Юмор». Самый непроницаемый. Самый непонятный.
«Одно время мне даже казалось, будто он в самом деле начинает увлекаться ею, но теперь, вникая более, я этого не думаю, или он необыкновенно умеет скрывать свои чувства и сдерживать себя».
Это о Мусоргском и своей сестре Саше. Та наблюдательность, которая пронизывает этот дневник, заставляет поверить этой записи. Увлечение Мусоргский, видимо, начинал испытывать. И не дал развиться этому чувству. В дневнике Надежды Николаевны мелькнет еще один загадочный образ, что ее смущало в Юморе: «Его дружба с Едкостью и, главное, с той госпожой…» Цезарь Антонович – человек язвительный и не очень-то добрый. Но кто была «та госпожа»?.. С неизбежностью вспоминается одно: Мусоргский жил у Опочининых. И Александр Петрович, и Владимир Петрович принадлежали к тому своеобразному «сословию» – «певец-любитель», – без которого не могли обходиться музыкальные вечера. На каком-то вечере или в театре могла появиться и Надежда Петровна.
Весною 1870 года Саша Пургольд, кажется, почувствовала душевное движение Модеста Петровича в ее сторону. Сама она была серьезно увлечена. Но осенью, по возвращении из-за границы, когда ее чувство наталкивалось лишь на шуточки Юмора, донна Анна-Лаура стала испытывать горькие чувства. Надежда Николаевна все ясно видит. И записывает:
«Ее хандра, которая вообще довольно часто на нас обеих находит, но до сих пор у нее никогда так сильно не проявлялась, как у меня, в эти дни дошла до ужасных размеров».
К «Тигре» «Милый оркестр» относится без предубеждения, но с осторожностью:
«Между тем в человеке, к которому с ее стороны могла бы развиться страсть, если бы он ей показывал более участия, она видит холодность. Т. е. именно, не видя того, чего бы она желала в нем видеть, она утрирует и называет это чуть не ненавистью, говорит, что он и пение ее не любит, и что не для нее он приходит».
Наблюдательность Надежды Пургольд здесь усилена ее умением разъяснить:
«Насчет того, чтобы он чувствовал более симпатии ко мне, чем к ней, мне кажется это даже невозможно. Собственно по складу его ума и характера, я убеждена, что скорее ему бы могла понравиться Саша, т. е. он скорее мог бы влюбиться в нее, чем в меня».
Эти отношения и окрасили тот образ Мусоргского, который встает со страниц дневника. «Милый оркестр» готов самолюбие видеть чуть ли не главной чертой «Тигры»:
«Он хочет, чтобы с ним говорил только тот, кто считает за особенное удовольствие разговор с ним и кто сам начинает. То же и в других действиях: от излишнего самолюбия он никогда первый не вызовется принести своих романсов. Хотя знает, какое это удовольствие доставит, но он ждет, чтобы его попросили. Опять по той же причине он никогда не просит Сашу петь, хотя я уверена и знаю положительно, как высоко он ставит ее пение. Особенно когда он бывает один (когда все вместе – это еще случалось несколько раз, хотя Саша и уверяет, что это неправда, но я помню, что это бывало). В этом случае он приходит обыкновенно с целью исполнить какую-нибудь свою вещь, показать что-нибудь новое и потому желает, чтобы уже все внимание было обращено исключительно на него, хочет наполнить собой весь вечер».
Кажется, от Стасова или Балакирева Надежда Николаевна уже слышала, что Тигра не особенно умен. С этим она не согласна:
«У него ум своеобразный, оригинальный и очень пикантный. Но именно этою пикантностью-то он иногда злоупотребляет. Из желания ли порисоваться, показать, что он не такой, как все, а совсем особенный, или это уже так в его натуре. Первое вероятнее. В нем слишком много перцу, если можно так выразиться. Прозвище, которое мы с Сашей ему дали (как и всем остальным) – именно Юмор, я нахожу удачным, потому что юмор действительно составляет главное свойство его ума. Но в чем еще у него есть недостаток – это в теплоте, в мягкости, которой так много, напротив, у милой Искренности».
Тридцать первое августа: «Юмор» был в ударе – умен, интересен, замечательно пел… «Его отношение к Саше я все не могу хорошенько понять. Во всяком случае, мне кажется, что она его интересует и представляется ему какой-то загадочной, своеобразной, капризной, но сильной натурой. Но способен ли он ею увлечься, влюбиться, не знаю. Он самолюбив, страшно самолюбив!»
Пройдет немного времени, и наблюдательная Надежда Николаевна к последним словам припишет: «Это неверно; по крайней мере теперь я убедилась, что он знает ее хорошо и такой, какая она в действительности».
Мусоргский был слишком странен, настораживал. Ум – несомненный, но какой-то диковинный, «подвывихнутый». Мягкость? – есть, но весьма необыкновенно выражаемая, если сразу ее нельзя было заметить. А рядом – собственное трепетное чувство к Корсиньке, которое – не дай бог! – показать Тигре:
«Я уже было попалась Юмору на удочку еще прошлую весну. С ним ведь надо у-у… как ухо держать востро. А я показала ему слишком много, то есть слишком много моего расположения к Искренности, должно быть, уже начала немного рисоваться перед ним и перед собой, ну он и обрадовался, пошли намеки, шутки, которые мне были ужасно неприятны. Конечно, я постаралась их прекратить, но меня даже теперь иногда это сильно беспокоит, чтобы из этого не вышло чего-нибудь нехорошего. Его дружба с Едкостью и, главное, с той госпожой, да я наконец; и в нем самом не уверена, чтобы он не был в состоянии дурно про меня сказать, даже с „ухищрением злобы“ [109]109
Выражение Глинки (примечание автора дневника).
[Закрыть], а то для красного словца. А между тем, если бы вследствие этого наши отношения с Корсинькой испортились, для меня это было бы ужасно. Еще недавно мы с ним говорили, что нам невозможно поссориться».
Про «дурно сказать» – позднейшая приписка: «Это неверно, чтобы он был способен дурно сказать». Как только дело доходит до Тигры, попытка что-либо запечатлеть заканчивается вопросами и – опровержением. Только заметит: «…Я не могу положительно утверждать, что он не способен никогда и ни при каком случае сказать об нас за глаза что-нибудь дурное, отпустить какую-нибудь неприятную шуточку, подать повод к сплетне». И скоро припишет: «Теперь я убедилась, что на это он не способен».
Решающим во всех сомнениях, конечно, будет слово «Искренности». Корсинька внушает сестрам, что Мусоргский – хороший, честный человек. «Милый оркестр», разумеется, согласен. И все же: «Он с придурью, и эта придурь подчас бывает очень неприятной».
Точной характеристики Мусорянину не сумел дать ни опытный «Бах», ни вдумчивый «Оркестр».
Мусорянин ускользал ото всех. Правда, чуткая натура Надежды Николаевны всякий раз замечала, что Тигра лучше, нежели казался в ту или иную минуту. Но что он за человек? Каждый из содружества на Мусоргского смотрел совершенно особенным образом.
Стасов ценил не только талант, что выходит «изо всех пазов», но и чуткость к слову. Был уверен, что нужный текст Мусорянин – при надобности – состряпает. Кюи ценил за способность к мелодической декламации. Однажды, сочиняя статью об изданных романсах, засомневался в одной строчке у Корсиньки. И сразу же за советом – к Мусорянину, только его ответ мог разрешить сомнения. Для Балакирева Модинька чуть-чуть «без мозгов». Но Мусоргский-пианист был выше любых похвал. С ним, в четыре руки, можно было сыграть любое симфоническое произведение. Он и к знакомым звал Мусорянина, когда хотел их познакомить с нужным сочинением.
И все же чувствовалось: и Балакирев, и Кюи смотрели на Мусоргского, как взрослые смотрят на странного «немного ребенка». Потому часто не замечали и многих его открытий.Лишь Бородин и Римский-Корсаков (они и сами – при всем различии в возрасте – были у Балакирева в «учениках») к Модесту относились с полным вниманием. Бородин – с неизменным интересом, даже когда критиковал. Корсинька – с уважением и с особой восприимчивостью. В 1870-м они были очень дружны. И через многие годы, вспоминая эти счастливые времена, Людмила Ивановна Шестакова улыбнется в своих воспоминаниях:
«…Они почти всегда приходили ко мне раньше, чтобы до появления других лиц успеть поговорить о своих новых сочинениях. При этом бывали иногда забавные случаи. Корсаков сядет за инструмент и исполняет Мусоргскому сочиненное им за те дни, когда они не видались; тот внимательно слушает и затем сделает ему замечание. Корсаков при этом вскакивает и начинает ходить по комнате, а Мусоргский в это время спокойно сидит и что-нибудь наигрывает. Успокоившись, Н. А. подходит к М. П., выслушивает уже подробно его мнение и часто соглашается с ним».
Это маленькое содружество двух музыкантов скоро ждал краткий расцвет, который после сменят годы взаимонепонимания.
Вторая редакция «Бориса Годунова»Он едва успел потешить себя вольным сочинительством. С декабря 1870-го будет возиться с фортепианной «вещицей» (как назовет в письме свою пьесу), которую закончит уже в январе 1871-го. Кажется, если бы он ее оставил без названия, – «Швея», – то и тогда образ легко вставал бы перед мысленным взором слушателя: и быстрое мелькание иглы, и ее механическое движение, и «бегущая» строчка, и равномерный стрекот, и даже женская головка, склоненная над своей работой. Но образ этот глубже одного лишь зрительного ряда. Сквозь мерное ритмичное звуковое «дрожание» различима и тихая радость от создаваемой вещи, и вся жизнь швеи, столь же мерная и однообразная.
В марте, по просьбе Корсиньки, придется набросать слова для величальной песни девушек Ивану Грозному – маленькое прибавленьице от себя к либретто «Псковитянки».
Из-под холмика —
Под зеленого
Быстра реченька
Прокатилася…
В седьмой куплет, для пущего колориту, вставил «стародавний псковский вариант» слова «повстречалась»:
Как сустрелася
Рать боярская,
Тому молодцу
Земно кланялась.
Эту строфу со «словцом» Римский вставить в оперу не решился.
Тогда же, вдогонку прежней жизни, не обремененной большими замыслами, появится «Вечерняя песенка» на слова Алексея Плещеева: «Вечер отрадный лег на холмах, ветер прохладный дует в полях…» Ее он посвятит дочери Стасова, Софии Владимировне Сербиной. Более времени на маленькие сочинения уже не будет.
Десятого февраля свершится суд над «Борисом». Заседание капельмейстеров дирекции императорских театров оперу забаллотировало. Из семи шаров лишь один был белый. Догадаться было нетрудно – голос мог принадлежать только Направнику. Другие лица, вершившие сценическую судьбу «Бориса», – Маурер, Воячек, Манжан, Папков, Бетц и Ферреро, – вряд ли могли прийти к иному решению. Опера не могла не поразить людей, привыкших к совсем иным сочинениям. Здесь и глубинная тема произведения была совсем «не оперная»: не столько драма лиц, сколько драма истории. До него история чаще всего присутствовала в опере лишь как ее «одежда», но не ее суть.
Возглас: «Что за опера без женского элемента!» – долетит до друзей композитора. Впрочем, недоумение членов комитета могло выплеснуться и в иные, весьма странные замечания. Контрабасист Ферреро был поражен второй песней Варлаама: в сопровождении контрабасы играли хроматическими терциями. Ферреро от столь неожиданного приема ощутил даже некоторую обиду.
Официальное уведомление придет только через неделю. Знакомый, несколько витиеватый стиль деловой письменности:
«По приказанию г. директора императорских театров, имею честь уведомить Вас, что по рассмотрении музыкально-театральным комитетом партитуры сочиненной Вами оперы „Борис Годунов“, опера эта не одобрена для исполнения на русской оперной сцене имп. театров. Возвращая при сем означенную партитуру и либретто оперы, покорнейше прошу принять уверение в совершенном моем почтении».
Но Мусоргского не могло поразить это послание. К вечеру 10-го он уже знал о решении.
Первой о неприятном событии узнала Людмила Ивановна Шестакова. Тут же отослала записочки Мусорянину и «Баху». Вечером оба явились. Стасов сразу, с горячностью, заговорил о новых сценах, Мусоргский начал наигрывать музыкальные кусочки. Вечер прошел живо, Людмила Ивановна могла вздохнуть с облегчением: Мусорянин был готов вернуться к своему сочинению. Тревоги друзей, как бы не случилось срыва, быстро рассеялись.
Вряд ли у Людмилы Ивановны он сочинил что-то новое. Всего скорее – извлекал музыку из тех черновиков, что хранились в его памяти: о Марине Мнишек он уже думал, рождая первую редакцию оперы. Но способность сочинять «на ходу» – тоже проявил. Однажды на вечере у «шашей», при Стасове и Римлянине, все подходил и подходил к роялю, наигрывая отрывочки. Так за вечер словно сам собой сочинялся весь монолог Марины.
Он мог довольно быстро закончить две польские сцены, тогда, похоже, ничто уже не препятствовало «Борису». Но что-то мешало сделать это столь же быстро, как сочинялась прежняя редакция оперы. Вряд ли он обратил особое внимание на глуповатую шутку Д. Минаева из журнала «Искра»: демократический литератор изголялся над самой идеей писать оперу на текст гоголевской «Женитьбы», ненароком присоветовал положить на музыку «Судебные уставы» и десятый том гражданских законов.
А вот мимо желания Тургенева услышать у Стасова домашнее исполнение «Каменного гостя» пройти не мог, как и другие члены кружка.
Роман «Дым» вышел в 1867-м. И вызвал гнев со стороны людей почвенного склада. (Достоевский – давний литературный противник Тургенева – места себе не находил, читая иные пассажи Ивана Сергеевича. После – намеренно будет издеваться над фразами, слетевшими с тургеневского языка, над некоторыми образами.) Не то с отчаяния, не то в порыве внезапно проснувшейся бессильной ярости, Тургенев наговорил о России, о русском столько дурного, что равнодушным вряд ли мог оставить хоть кого-либо. Монолог его Потугина и сам-то мало походил на художественное воспроизведение живой речи. Это был, скорее, своего рода трактат. Досталось всем – и русской науке, и русской живописи, и вообще творческому началу русского человека. Досталось и балакиревскому кружку:
«…Не то что у Мейербера, а у последнего немецкого флейтщика, скромно высвистывающего свою партию в последнем немецком оркестре, в двадцать раз больше идей, чем у всех наших самородков; только флейтщик хранит про себя эти идеи и не суется с ними вперед в отечестве Моцартов и Гайднов; а наш брат самородок „трень-брень“ вальсик или романсик, и смотришь – уже руки в панталоны и рот презрительно скривлен: я, мол, гений. И в живописи то же самое, и везде. Уж эти мне самородки! Да кто же не знает, что щеголяют ими только там, где нет ни настоящей, в кровь и плоть перешедшей науки, ни настоящего искусства?
Неужели же не пора сдать в архив это щеголянье, этот пошлый хлам вместе с известными фразами о том, что у нас, на Руси, никто с голоду не умирает, и езда по дорогам самая скорая, и что мы шапками всех закидать можем? Лезут мне в глаза с даровитостью русской натуры, с гениальным инстинктом, с Кулибиным… Да какая это даровитость, помилуйте, господа? Это лепетанье спросонья, а не то полузвериная сметка».
Еще ладно, если бы дело ограничилось только этим. Но Потугин-Тургенев задел самого чтимого в кружке композитора:
«Сказать бы, например, что Глинка был действительно замечательный музыкант, которому обстоятельства, внешние и внутренние, помешали сделаться основателем русской оперы, – никто бы спорить не стал; но нет, как можно! Сейчас надо его произвести в генерал-аншефы, в обер-гофмаршалы по части музыки…»
Похоже, и сам Иван Сергеевич надеялся втайне оказаться неправым. Надеялся, что его Потугин «перегнул палку». Он и позже несколько раз попытается ознакомиться получше с новой русской музыкой. Сейчас ему не простили того «дыму», которого он понапустил на русское художество и русское сознание. Никто из композиторов не пожелал знакомить писателя с «Каменным гостем». Более других кипятился Мусоргский.
Но и Тургенев вряд ли мог сколько-нибудь отвлечь от завершения оперы. Куда тягостнее было совершенное неприятие «Бориса» Милием. И общение с ним становилось подчас до странного гнетущим.
* * *
Темноволосый и темнобородый, с темными горящими глазами, полный несокрушимой энергии, толкавший своих подопечных к действию, зажигавший их желанием сочинять, и сочинять как можно лучше, – этот Балакирев уходил в прошлое. Он словно бы таял. В нем пробуждалась совсем иная личность. И тот, другой Балакирев хотел быть смиренным. Хотя – в силу характера – оставался непокладистым и неуютным.
Бедный Милий Алексеевич! При всем его исключительном даровании, при всей его энергии ему не хватало опоры, не «нравственной», но – душевной. Расхлябанный в иные дни, нелепый, странный Мусорянин эту опору имел. Энергичный, подвижный Балакирев, которому и прозвище-то дали – «Сила», – быть может, потому с такой настойчивостью и проводил свое мнение, давил на своих учеников, что ему подобной внутренней твердости не хватало. И что ему теперь приходилось пережить!
Четырнадцатого февраля 1870 года, в записочке, отправленной Владимиру Жемчужникову, он взмолится: «Если Вам есть возможность прислать мне рублей 15 или даже 10, то Вы выведете меня на несколько дней из самого скверного положения, а то не с чем послать на рынок. Весь Ваш М. Балакирев».
Этот недостаток в средствах преследует изо дня в день, ощущается чуть ли не каждую минуту. 24 июня 1870 года Милий пишет Стасову. Здесь – всё та же «Алёна», великая княгиня Елена Павловна, всё то же безденежье, которое преследует не только его, но и сказывается на подготовке каждого концерта. «…Я совсем падал духом. Вы же воскресили меня, взявшись поправить это дело; и мне вчера еще хотелось сказать Вам, что я Вам благодарен бесконечно, какие бы ни были результаты Ваших хлопот. Неудача теперь мне не так страшна, потому что я ожил». Один раз так «ожить» было можно. Но если эта мука, эти «стесненные обстоятельства» становятся неизбывным состоянием?
С общедоступными концертами Бесплатной школы – неудача за неудачей. То не хватает средств на последнее выступление, то играть невозможно, потому что здание Михайловского манежа находится в плачевном состоянии («концерт в манеже может состояться лишь после отбития штукатурки на потолке в тех местах, где имеются трещины» [110]110
Милий Алексеевич Балакирев: Летопись жизни и творчества. Л., 1967. С. 177.
[Закрыть]).
Друзья хотят поддержать его. 31 мая 1870 года, в воскресенье, под неясным предлогом Людмила Ивановна ведет Милия Алексеевича в здание Думы. На лестнице их встретил взрыв аплодисментов. Балакирев немного растерян:
– Да это, кажется, сюрприз?
– Виновата, Милий, теперь уже Ваше дело, идите…
Милия чествовали в зале Городской думы: вручили адрес, серебряный венок. И слова были сказаны самые нужные: «Несмотря на ограниченность средств Школы, несмотря на очень хорошо известные всем нам действия враждебной нам партии, не раз находившие себе выражение и в печати, Ваши редкие музыкальные способности и громадная энергия вывели Школу на тот национальный, самостоятельный путь, который составляет истинную задачу нашей Школы, и поставили ее, без всякого сравнения, выше остальных петербургских музыкальных учреждений» [111]111
Там же. С. 178.
[Закрыть].
Балакирев тронут. Ответная речь его коротка, но искренна. Но разве могло это доброе внимание спасти от нужды? Каждый творческий взлет оплачен горестными неудачами.
В июне Балакирев в безвыходном положении. Он занимает 500 рублей у Шестаковой. В августе дает концерт в Нижнем Новгороде. Так надеялся, что родной город его выручит! Был почти уверен, что концерт принесет около тысячи рублей. Выручить удалось лишь одиннадцать. Он измучен, раздавлен, убит. В октябре Николай Рубинштейн отказался от участия в концерте БМШ. Балакирев – потрясен. Правда, его ценит Петербургское собрание художников. В Зале дворянского собрания они устроили концерт памяти Глинки под его управлением. Милий снова триумфатор: собрание художников подносит ему венок. Но в декабре он решил-таки пригласить Аделину Патти. Она от участия отказалась. Концерт БМШ опять не состоялся.








