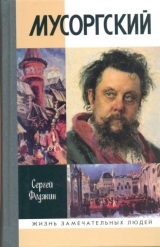
Текст книги "Мусоргский"
Автор книги: Сергей Федякин
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 43 страниц)
Атмосфера майских вечеров помнилась и летом. Сестры Пургольд были в Германии, слали письма «милым разбойникам». Александра Николаевна, в увлечении, как-то по-особенному писала к Мусорянину. Он же отшучивался: «Но почему я насмешник – не понимаю. Я скромен, прост и вежлив, только не стыдлив…» Цитаткой из собственного «Классика», то есть словами карикатурного Фаминцына он дает характеристику самому себе, оставляя свой ответ в круге приятельской шутки. Воспоминания о «Классике» тоже не были случайными. Он жил его продолжением.
* * *
Весною 1870-го Мусоргский отдаст своего «Бориса» в репертуарный комитет. И сразу испытает голод по новому большому сочинению. Мелькнет было рассказ Писемского «Леший». История была незамысловатая: молодой управляющий, человек мелкий, пронырливый, неприятный, замутил голову девушке-крестьянке, выкрал ее из дому. Она изнывает, скрываясь на чердаке, просит ее вернуть единственной матери. Управляющий, наконец, сдается, пригрозив: не приведи Господи, если хоть кому-нибудь расскажешь! И вот девушка, после долгого отсутствия, появляется в деревне. Мать свою уверяет, что ее унес леший. В церкви – после пережитого – впадает в истерику, бьется, словно кликуша… Сюжет был усложнен: тут и второе похищение (от страха, что история раскроется), и развенчивание негодяя, которого после так и прозвали «Лешим»… Да и о самих событиях не автор повествует, но рассказывает его герой, исправник, человек честный, испытанный и бывалый.
Оперу из этого вряд ли можно было сделать, разве что внести в сюжет новые повороты, новые ходы. Но очень уж колоритен был язык. И разве могло не вздрогнуть сердце, когда словно и не читал, а слышал эту дивную речь крестьян, да и самого исправника: «…На верхушку дерева посмотришь, так шапка с головы валится. На всем этом протяжении всего и стоят только три деревнюшки да небольшой приходец в одно действительство…»
По-прежнему не отпускала и русская история. У «дяиньки» В. В. Никольского набрал книг. Прочел с удовольствием «Историю раскола» Е. И. Троицкого, приглянулось еще кое-что. Но всего более поразило одно издание. Позанимательней любых исторических трудов. Через эту книгу можно было войти в самую атмосферу идейно-религиозной жизни XVII и XVIII веков: «История Выговской старообрядческой пустыни», изданная по рукописи Ивана Филиппова.
Автор сочинения родился еще при Алексее Михайловиче, застал времена превращения Московской Руси в Петербургскую Россию. Ведь такой излом времен! И – контрастом к ним – размеренное, с чувством своей неизбывной правды повествование Ивана Филиппова о рождении и жизни старообрядческого скита на реке Выге. И начинается, как положено было в те времена, с древности:
«Стояше убо православная християньская вера в российской земли, от Владимира князя, до царя Алексея Михайловича без малого чесого седмь сот лет, вня же и многие обители, не точию во градех и близ городов, но и в пустых местех составишася и святых чюдотворцов, яко звезд пресветлых на тверди небесней бесчисленное просия множество, и сие глаголю о ведомых и свидетельствованных, а неведомых Господь весть всевидец един сый. Толико Россия благочестием воссия и возблиста: яко и от восточного патриарха третиим нарещися Римом, многими монастырями украсися и вседобрыми церковными законы, пресветлыми благочестия догматы, просия благочинием и преданием уставов святоотеческих украсися и церквями святыми возблиста…»
Что-то брезжило в истории русского раскола. Что-то могло родиться для творчества из этого времени, только вот что?
Тридцатого апреля подоспело первое слушание в окружном суде по делу Стасова и Фаминцына. Последний обвинил своего литературного противника в клевете. «Баху» удалось-таки доказать, что истец в своих критических опусах сообщал факты, «несогласные с истиной». Обвинение в клевете суд отклонил. Правда, признал, что Стасов был виновен в разглашении фактов, позоривших истца. «Баха» присудили к штрафу в 25 рублей и домашнему аресту на семь суток. Всю неделю, сидя дома, Стасов принимал гостей. Приходили даже люди совсем ему не знакомые. Выражали сочувствие по поводу домашнего заключения, ликовали, что Фаминцын и по суду оказался лжецом. Разгоряченный этой историей «Бах» и подтолкнул Мусорянина к памфлету.
«Раёк», новая музыкальная шутка «для голоса с фортепиано», будет закончен 15 июня. Стасов бурлил от восхищения. В письме к Надежде Николаевне Пургольд выплеснул всё:
«Это „Раек“, т. е. рассказ и прибаутки мужика под балаганами на масленице, показывающего „честным господам“ – чудушко морское в круглое стеклышко своего домика. Только чудушек морских на нынешний раз целых четверо: Заремба, Ростислав, Фаминцын и Серов; но, сударыня, я вам скажу, это до того уморительно, что всякий раз мы просто за животы держались, катаясь со смеху. Забавнее и едче он еще ничего не сочинял. Всего смешнее Фиф-Ростислав, который поет неимоверные глупости на тему пошлейшего вальсика… Выходит карикатура великолепная, и верно то, что еще ничего подобного в музыке никогда не бывало. Впрочем, вы и сами знаете, что по части оригинальности и своеобразия Мусорянин всех за пояс заткнул, и просто гениален. С этим соглашается даже сам ваш идеалистБалакирев, которому собственно вовсе не по нутру реальнаямузыка Мусорянина» [101]101
Орлова А. А.Труды и дни М. П. Мусоргского: Летопись жизни и творчества. М., 1963. С. 193–194.
[Закрыть].
Сам Мусоргский всего подробней написал о своей сатире В. В. Никольскому в знакомом «затейном» стиле:
«Понеже жажду имеем – здравствуйте, дружок дяинька, и с целованием крепким – паки здравствуйте. А мы без Вас „Раёк“ согрешили, а выходит так, что этот самый „Раёк“, якобы в зерцале, отражает безобразие превесьма важных музыкальных особей; и зовут их, сердечных, разно. А как зовут и зачем так зовут, а не иначе, – прислушать просим».
Сочинение было длинное. Поначалу – раешник-зазывала (сам композитор) приманивает публику: «Эй, почтенны господа, захватите-ко глаза, подходите – поглядите, полюбуйтесь – подивуйтесь. На великих на господ, музыкальных воевод. – Все здесь!..»
Консерваторец Заремба – со своими идеями в намеренно нелепом их изображении – явился с темой Генделя из оратории «Иуда Маккавей»: «Вот, сорвавшись с облаков, туманов вечных житель смертным открывать идет смысл таинственный вещей совсем обыкновенных. „С помощью Божией“. Учит, что минорный тон – грех прародительский и что мажорный тон – греха искупление…»
Следом выпрыгивал «Фиф», говорливый, вертлявый Ростислав Толстой. Помешавшись на пении Аделины Патти, он «воспевает» ее под салонный вальс:
О Патти, Патти,
О Па-па-Патти,
Чудная Патти,
Дивная Патти…
Передразнивая фиоритурное пение, где один слог растягивается на несколько нот, Мусоргский доводит пародию до абсурда: «О Па-па, Ти-ти! О Ти-ти, Па-па!..»
Третьим появлялся скорбный Фаминцын под собственную горе-музыку, с воспоминанием о позорном решении суда:
«Вот плетется шаг за шагом тяжко раненный младенец, смыть пятно с себя молящий – неприличное пятно»…
Последний из всей раешной компании – Александр Серов. Со всей его «манией величия». Под музыку из собственной оперы «Рогнеда»:
«Вот он – титан! Ти-тан, ти-тан! Вот он мчится, несется, метется, рвет и мечет, злится – грозит шеклатый, страшный!.. На тевтонском Букефале, заморенном Цукунфтистом»…
Через несколько лет Римский-Корсаков заметит как-то Стасову, что вещи, подобные «Райку», могут жить только в очень тесном кружке. Для широкой публики многое становится непонятным. За «околонемецким» словцом «цукунфтист» («будущник») стоял намек на идею, будоражившую Серова, что музыка Вагнера есть музыка будущего. И не сам ли Вагнер предстает здесь в виде «тевтонского Букефала»?
«Раек», действительно, могли оценить немногие: кто знал о столкновениях балакиревского кружка с враждебными им музыкальными критиками, кто знал музыку Генделя и пристрастие Зарембы к «старым мастерам», кто читал статьи Ростислава, кто слышал хоть однажды музыкальные опусы Фаминцына, кто знал про грустную историю расхождения Стасова с Серовым, кто знал и оперы Александра Николаевича, и его критические выступления. И здесь нужно было не только словесное балагурство, но и звучащие намеки, с «выворачиванием» уже известных музыкальных тем. Музыка памфлета брала на себя совершенно особую драматургию: так «противоречить» или «сопутствовать» словам, чтобы отчетливей была видна нелепость раешных героев.
Под занавес появляется Муза – великая княгиня Елена Павловна. Четыре горе-критика поют ей гимн:
«О преславная Евтерпа, о великая богиня, ниспошли нам вдохновенье, оживи ты немощь нашу!..»
Музыку народной песни «Из-под дуба, из-под вяза…» узнать легко. Многие ли, слушая «Раек», могли знать, что именно ее Серов использовал в опере «Рогнеда» как «Песню дурака»…
Успех был несомненный. Стасов уверял позже, что «хохотали до слез даже сами осмеянные, так была талантливо и заразительно весела, забавна эта оригинальная новинка» [102]102
Стасов В. В.Модест Петрович Мусоргский // Стасов В. В.Статьи о музыке. В 5 вып. Вып. 3. М., 1977. С. 102–103.
[Закрыть].
Но если б «Раек» был только сатирой, он – как и другие произведения «на случай» – со временем превратился бы для большинства публики в почти непроницаемое в своих смыслах произведение.
Но есть в «Райке» и другое измерение, которое выводит его из рядов чистой сатиры. Это – та шутейность, та «юродивость», которая ощутима вопреки всему. Да, нечто вроде народного кукольного театра с «зазывалой», с давней традицией русского пересмешничества, будь то скоморошины, небывальщины или Петрушка. Потому, даже не зная ничего о персонажах этого сочинения, начинаешь чувствовать «высокое дурачество» композитора.
* * *
Обе «Шаши» за границей, хлопочут об издании «Семинариста». Донна Анна-Лаура в Пильнице спела одному русскому немцу, большому почитателю Даргомыжского, песню Мусорянина «С няней». Тот в неописуемом восторге, но поражен: как же он не знал до сих пор одного из самых лучших произведений Даргомыжского.Но Анна-Лаура хотела бы петь и для других немцев. И шлет Мусоргскому письмо с просьбой: что же ей предпочесть из немецких авторов. Ответ пришел не сразу. Подробный и по первому впечатлению – чрезмерно жесткий: петь, что понравится, поскольку сам композитор в немецкой вокальной музыке, особенно современной, ничего замечательного не видит. И все это – с подтруниванием над немецкой сентиментальностью: «…На мой вкус, немцы, переходя от зажаренной в свином сале подошвы до семичасовой оперы Вагнера включительно, не представляют ничего для меняпривлекательного. Другое дело немцы, отставшие от фатерландской [103]103
От «фатерланд» – отечество (нем.).
[Закрыть]подошвы и петушьей потяготы, – они всегда интересовали и интересуют меня, но такие немцы романсов и лидеров [104]104
То есть песен (нем.).
[Закрыть]не пишут». Мусоргский убежден, что самые гениальные немцы – к последним относит Бетховена, Вебера и Шумана, – велики вовсе не в вокальной музыке, поскольку «это народ и в музыке умозрительный, чуть не на каждом шагу впадающий в отвлеченность». Сама же Донна Анна-Лаура воспитана «на русской почве реализма», и вряд ли ей придется по душе немецкая школа.
Всё послание тоже слегка отдает «райком», Мусоргский много балагурит. Но главное сказано серьезно и со знанием дела.
Здесь нет предубеждения против немецкой музыки как таковой. Здесь – утверждение своего метода.Весьма не похожего на тот, что уже установился. И дело не только в «формальных» речитативах европейской оперы. Оживление речитатива, интонационная и ритмическая правда в речитативе – к этому пришел и Даргомыжский, и Мусоргский, да и вся новая русская школа стремилась к этому, даже те композиторы, которые полную свою силу проявят в другом. Римский-Корсаков о декламации – совсем в духе Мусоргского – скажет в недавней рецензии на «Нижегородцев» Направника.
Но Мусоргский ощущал нечто более «основополагающее» в своем расхождении с немцами.
Сонатная форма, фуга и т. д. – установившиеся музыкальные формы. Здесь есть исходные темы; через их «сочетания», «столкновения» и развитие выводится всё. Подобно тому, как строилась немецкая философия, которую он в юности с большим интересом изучал, после охладев к этим умственным «упражнениям». Он знал ту логику, которую выпестовали немцы, начиная с Канта и кончая Шеллингом и Гегелем. Здесь все знание предстает как движение понятий – от одного к другому по довольно жестким «траекториям». Знаменитую свою «Науку логики» Гегель начинает с самого «пустого» понятия «бытие», которое, в силу своей пустоты, представляет чистое «ничто». Но само движение от «бытия» к «ничто» дает «становление»… Каждое понятия порождает свою противоположность, чтобы после – в синтезе – дать новое понятие. Двигаясь такими «кругами», Гегель стремился охватить всю науку логики. И здесь, в сущности, был до предела доведенный принцип теоретической науки, первой из которых была геометрия. Когда сначала формулируются понятия и аксиомы, то есть узнается точка, прямая, плоскость и т. д., вплоть до параллельных, которые «не пересекаются». И после, из основных «правил», выводится весь геометрический мир.
Но в 1839 году русский математик Николай Лобачевский вдруг откроет, что «непересекаемость» параллельности не есть «исконное правило», что она зависит от того, в каком пространстве «работают» эти правила. Геометрия Евклида лежала на плоскости. Но в другом геометрическом мире и параллельные начинают вести себя иначе.
Мусоргский – особый, драматургическийталант. Его темы – не подобны «понятиям», но подобны характерам. Которые могут сталкиваться «не по правилам», а так как это бывает в жизни. Нет предвзятых форм. Каждое произведение – вместе с его формой – должно твориться заново.Потому и писать много– занятие дурное. (Кюи не случайно придерется в одной из статей к тому, что немцы часто берут количеством,а не качеством.) Тема может стать характером, символом (через лейтмотив), сама их последовательность может быть весьма свободной. Более того, произведение может размыкаться в мир. В «Райке» – темы из Генделя, Фаминцына, Серова. Но преломленные карикатурно.Такое произведение уже не есть «замкнутое» целое, но своего рода беседа.
На отповедь Анны-Лауры, которая не замедлила появиться, он мог ответить в следующем послании предельно кратко: «Я враг советов и друг беседы». И пояснить: «А „враг советов“ я потому, собственно, что, по моему скромному мнению, всякий человек есть индивидуум, и в качестве последнего имеет многое ему одному свойственное. Следовательно, опять-таки по моему скромному мнению, беседа, то есть обмен мыслей и воззрений, есть лучшая почва для свободного приобретения того, что навязывается советом. В моем письме я сказал то, что думал, и беседовалс самостоятельной натурой самостоятельно».
Что оставалось еще? – Только пожать «трепещущую от гнева руку Донны Анны-Лауры» и «неподвижно простертую» руку «милого Оркестра». Мог ли он знать, что донна Анна-Лаура, эта дивная «Шаша с Шиньоном», уже отправила письмо «Баху». А там – и о Листе, и о Вагнере, и о жене Шумана: «Брала просматривать новую оперу Вагнера, романсы Клары Шуман и Франца, все это так ничтожно, тупо и банально после всех тех свежих талантливыхи разумных вещей,которыми меня так избаловали наши хорошиеразбойники!» [105]105
Мусоргский М. П.Письма и документы. М.; Л., 1932. С. 160–161.
[Закрыть]
* * *
…Их «разбойничья компания» всё расширялась. В апреле 1869-го у Балакирева появится новый подопечный. Странный, впечатлительный юноша в ореоле духов. Привела его мать, Александра Александровна Щербачева. Семья совсем недавно приехала из-за границы, там юного музыканта успели послушать Шарль Гуно и Рихард Вагнер. О его даровании отозвались не без восторженности: «Прекрасный гений». Балакирев послушал игру молоденького Николая Щербачева. Он оказался весьма неплохим пианистом и явно выказывал способности к сочинительству.
Скоро Николай Владимирович Щербачев замелькает и на музыкальных вечерах. От «Баха» получит множество прозвищ – «Флакон», за пристрастие к духам, «Шевалье» за безукоризненный французский, «Черемис» – за особую матовость лица и темноволосость, «Щербач» – за свою фамилию. Утонченный, несколько изломанный, лирик по своей музыкальной природе, он по большей части будет сочинять фортепианную музыку и романсы. Какой-то надрыв чувствовался в его облике. Какая-то неустойчивость и неустроенность души. Похоже, нервность свою он унаследовал от родительницы: купчиха, которая живет за границей и принимает католичество; мать, которая оставляет сына в Петербурге, а сама с дочерью возвращается в Европу… Его душа тянулась к изысканности, и пьесы его как-то поневоле заставляли сравнивать их с произведениями Шумана. Через несколько лет он всерьез увлечется медиумом Бредифом. Шарлатан будет давать в Петербурге спиритические сеансы, люди будут сидеть в темноте, ждать явлений иного мира. И в ответ будут издавать звуки детские музыкальные инструменты, которые возил с собой Бредиф, иной раз они будут даже летать по комнате. На беду, фокусы Бредифа слишком часто терпели фиаско. Среди гостей хватало скептиков, которые следили за бесстрашным медиумом. Настанет час, и будут найдены и проволоки, помогавшие таинственному иностранцу совершать свои «чудеса». Но «Флакон» проникнется спиритизмом до смешного, и Стасов с издевкой будет его иной раз именовать «Друг Бредифа».
Щербачев будет появляться, исчезать из виду, появляться снова. Попытается устроиться на работу к Стасову, в библиотеку, потом – чиновником особых поручений при шефе жандармов. Все попытки найти какое-то жизненное поприще так и останутся бесплодными. Пройдут годы. «Щербач» частенько будет вспоминать любимую им Ниццу. В 1887-м, выиграв судебную тяжбу, которая утвердит за ним некоторую недвижимость во Франции, он покинет Петербург, его след затеряется в Европе.
Но будущие изломы еще только провидятся в трепетном юноше. И пока он – подающее большие надежды музыкальное дарование.
Вслед за «Черемисом» появится и еще одно удивительное лицо: Виктор Александрович Гартман, художник и архитектор.
В мае 1870-го приспело время большой, всероссийской мануфактурной выставки в Соляном городке. Стасов, воспламенившийся мыслью, что вот и у нас начинают не просто «наваливать товар», но, как и в Европе, думать о красоте обстановки, отправился глянуть на редкое для России дело. Выставка еще не открылась, но он как всегда торопился, запасся разрешением посетить здание еще до открытия. Вряд ли ожидал увидеть что-либо замечательное – просто как всегда был гоним жаждой лицезреть зачин нового дела. Само здание, где ранее располагались винные склады, – неуклюжее, чем-то похожее на тюрьму, – вряд ли располагало к ожиданию чуда. И вдруг… Тяжелая масса здания преобразилась, стала воздушной. Откуда? Как? Не знающий покоя Стасов забрасывал вопросами каждого, кто мог бы что-нибудь сказать об авторе. Имя Гартмана всплыло не сразу. Он был лишь младшим помощником архитектора выставки. Но вся творческая сторона была делом его рук. Не тогда ли в памяти Владимира Васильевича забрезжило давнее воспоминание: святки 1862-го, бал-маскарад в Академии художеств: пышные декорации и костюмы, роскошные процессии: Робинзон Крузо с дикарями, Мария Стюарт, Данте, Дон-Кихот и – следом – целая свита рыцарей, турки, звездочеты, Пьеро, ожившие игральные карты… Поначалу было весело, потом как-то все подустали, и маскарад стал превращаться в скучный ритуал… И вдруг, средь «парадного веселья», – словно ветер пробежал. Гул, топот ног, хохот, рукоплескания… Дивная, «с вывихами» Баба-яга неслась-кружилась по античному залу вдоль гипсовых богов, размахивая помелом. Костлявые руки торчали из широких рукавов балахона, ноги в онучах дико приплясывали, рыжие космы разметались из-под мохнатой шапки, надвинутой на самый лоб. Ближе зрелище оказалось еще более впечатляющим: физиономия раскрашена, клыки блестят, из острого подбородка торчат редкие волосинки старушечьей бороденки, из-под бровей сверкают жуткие глаза. Яга летела, оставляя за собой движение масок, волны смеха и голоса из разных углов: «Кто это! Кто это! Кто такой?!..» И толпа веселых паяцев и шутов с погремушками, взбаламученная промчавшейся Ягой, закричала: «Гартман! Это Гартман!»
Припомнит Владимир Васильевич, как поневоле воскликнул тогда:
– Кто такой Гартман?
И услышал в ответ человека бывалого:
– Как, вы не знаете? Гартман, архитектор… Это самая оригинальная голова в Академии.
И забрезжило в памяти: да, молодой, одаренный, обожаемый молодыми, ценимый стариками. И всегда вокруг Гартмана – нескончаемое оживление…
И теперь неутомимый Стасов принялся разыскивать автора чуда. А Гартман был сразу везде и нигде, появлялся в одном месте выставки, потом – в другом. Носился по всему Петербургу, снова возвращался на выставку, – загадочный, неуловимый. Встречался чуть ли не с целой сотней людей, чертил, рисовал, иной раз – прямо на месте, кисть и карандаш не покидали его рук, когда этот человек спал, было совершенно непонятно. Несколько месяцев – и более шестисот рисунков, где каждый – своеобразен, оригинален, иной раз до удивления.
Стасов увидит его через несколько дней. Маленького росточка Гартман, живой, непоседливый, вокруг – целая толпа рабочих, с бумагами, шаблонами, каждый ждет разъяснений…
Они быстро сблизились. Глаза у Виктора Александровича не стояли на месте, схватывали одно, другое, фигурка его тоже находилась в вечном движении. И все время – карандаш или кисть, и все время – в неостановимом творчестве. Однажды Стасов не удержался от несколько бестактного вопроса:
– Вы так талантливы, что мне кажется, вы жид!
Гартман смеялся, не без смущения, и ответ его летел куда-то в пространство: «Быть может».
Неугомонный «Бах» и Гартман в короткое время стали приятелями. По нескольку часов пропадали на выставке в Соляном городке, вечер кончался на квартире у Виктора Александровича. Пока измученный за день и все-таки неутомимый Гартман возился с новыми чертежами и рисунками, – карандаш или кисть так и летали по листам, – Стасов рылся в его папках. Смотрел заграничные акварели, наброски, листал и то, что появилось совсем недавно. И поражался неистощимости этой фантазии.
Так и войдет этот маленький неугомонный архитектор в стасовский круг. И сразу сойдется с Мусорянином. Композитору он подарит два своих эскиза – портреты евреев, набросанные, когда Гартман – почти проездом – был в Польше. Один – суровый, в шапке. Другой – усталый, измученный старик.
«Милый В и тюшка…» – вздохнет Мусоргский, когда самого Гартмана уже не будет на свете. Сейчас – каждый жадно впитывал творчество другого. Чем мог поразить Гартман композитора? Тем, что настойчиво стремился утвердить русский стиль в архитектуре? У «Витюшки» была одна особенная страсть – орнамент. Он собирал его образцы, он сам стремился изукрасить русским орнаментом свои проекты. «Русский стиль» его иногда кажется слишком уж «пряным». Есть странное ощущение, когда смотришь на его проекты, будто настенные часы или арку каменных ворот украшает рисунок, сошедший с косоворотки, с наличников деревянного дома или роскошно вышитого полотенца. Но была и другая черта, действительно ценная: Гартман никогда не закисал на уже найденном, всюду он вносил какое-то творческое беспокойство. В этот год – как это было созвучно! – Мусоргский и сам пребывал в смутной тревоге: искал сюжет для новой оперы. И все не мог его найти.
* * *
Лето 1870-го выдалось хлопотливое. И «Семинарист», отпечатанный в Лейпциге, был задержан цензурой, и сюжет для нового сочинения не подбирался. Пришлось объяснять цензору, что латынь в тексте вокального произведения – это не о религии, что «сия латыньобозначает исключения в склонении и почерпнута из латинской грамматики» [106]106
Письмо Мусоргского к Стасову от 18 августа 1870 г.
[Закрыть]. И все равно ноты в продажу не поступили, смутила фраза, сорвавшаяся с уст семинариста, что ему «от беса искушенье довелось принять во храме Божьем». Автору разрешили получить лишь десять экземпляров, чтоб он мог раздарить знакомым.
Эта история его нисколько не огорчала, скорее веселила. Он бы и не подумал издавать свое сочинение, если б не «Бах» и не Опочинины, желавшие видеть его напечатанным. В письме к «généralissime» он черкнет даже с воодушевлением:
«До сих пор цензура музыкантов пропускала; запрет „Семинариста“ служит доводом, что из „соловьев, кущей лесных и лунных воздыхателей“ музыканты становятся членами человеческих обществ, и если бы всего меня запретили, я не перестал бы долбить камень, пока бы из сил не выбился; ибо „несть соблазна мозгам и зело великий пыл от запретов ощущаю“».
Более тревожила задержка с «Борисом». Театральный комитет рассматривать партитуру не торопился, «Борис» его всё еще держал. А жажда сочинительства была огромная.
«Бах», зная этот творческий зуд Мусорянина, написал ему длиннющее письмо с кратким либретто. Взял повесть Фридриха Шпильгагена «Ганс и Грета», перенес героев в Россию, присочинил кое-что от себя и вышел вполне оперный сюжет, которым, как Стасов уверял других, композитор остался весьма доволен [107]107
Письмо. В. В. Стасова к Д. В. Стасову от 29 июля 1870 г. // Стасов В. В.Письма к родным. Т. 1. Ч. 2. М., 1954. С. 59.
[Закрыть].
Было продумано всё – и место каждой сцены (село, мельница, дом ворожеи, вечерний лес, помещичий дом и сад), и – до деталей – основные герои. Предусмотрел «généralissime» даже возможные сокращения («Если найдете, что действующих лиц слишком много, то можно и лавочника, и его сына– просто вовсе вон. О них будут говорить, но их не будет на сцене»).
Странно, что после столь «непричесанного» сюжета «Бориса» Стасов мог присоветовать столь «причесанный» сюжет: главный герой, молодой деревенский парень («Ванюха или Петруха, что ли»); две соперницы – дочь мельника (бойкая «Аннушка») и дочь дьячка (тихая, мечтательная «Маша»); запутанная история с неизвестными браконьерами в барском лесу; ворожея, успевшая нагадать чего-то всем и каждому; выпавшие на долю «Ванюхи» и «Маши» испытания, а в завершение – счастливый конец со свадьбой.
Что могло приглянуться композитору в этом сюжете? «Сельская местность» напоминала Карево? Или – возможность воссоздать живую народную речь?
Опера должна была называться «Бобыль», каковым и представал ее главный герой, «Ванюха или Петруха». И Мусоргский действительно загорелся на какое-то время. Он сразу взялся за сцену гадания, быстро сочинив музыку, чем привел «Баха» в неописуемый восторг. Но вдруг вместо «Бобыля» стали появляться на свет совсем иные произведения.
…Его всегда любили дети. Приход странного, смешного «Мусорянина» встречали с радостным визгом. Еще бы! С ним можно было говорить совсем как со своим сверстником. В «Борисовы» годы и позже – он часто бывал у Дмитрия Стасова. Дочери Дмитрия Васильевича – и Варя, и Зина – были убеждены, что причудливое «Мусорянин» – как звали Модеста Петровича взрослые – это и есть его настоящее имя. А крошечный их брат, Андрюша, не умевший еще выговорить букву «р», произносил смешно: «Мусолянин». И добрый их взрослый друг, появляясь в доме, с порога кричал: «Вот и Мусолянин пришел!»
Вареньке и Зиночке очень нравилось, как он здоровался. Подходил с шутливой важностью: «Вашу ручку, боярышня», целовал тыльную сторону ладошки, как взрослым дамам, и забавно добавлял: «Доброго здравия, боярышня». Мальчишки знали, что «Мусорянину» можно рассказать про всяческие происшествия из своей жизни. И «Мусолянин» будет слушать с большим вниманием и даже что-нибудь придумает, а уж доверенную тайну будет хранить вечно.
Старшая, Варя, запомнит, сколько всего интересного знал их Мусорянин. То расскажет про имена звезд и созвездий, научит различать среди светлых россыпей вечернего неба и Большую Медведицу, и Малую, и Кассиопею, и Орион, и Большого Пса с ярким Сириусом. То объяснит, почему новый год начинается в январе и почему празднуют его зимой, хотя для детей он всегда начинается с осени, когда нужно с дачи возвращаться в Петербург.
Его обожали и маленькие Мусоргские, дети Филарета, – Гога и Танюшка. Иногда одолевали композитора и собственные детские воспоминания. И вслед за давно уже написанной, чистой и трепетной сценкой «С няней» вдруг появятся новые. И пойдут с осени, одна за другой: 30 сентября – «В углу», 18 октября – «Жук», через два месяца – «С куклой», следом – «На сон грядущий».
Здесь, как и в первой сценке, «С няней», – тончайшая нюансировка. Мелодическая декламация – редкой чистоты. И та диалогичность, которая пронизывает эти «эпизоды из детской жизни» (как пояснит свое сочинение автор).
«В углу» начинается резко, с тревожного «по-детски» аккомпанемента. Это – образ взрослого, няни: «Ах ты проказник! Клубок размотал…» И – тихий, из угла, обиженный голос ребенка:
– Я ничего не сделал, нянюшка, я чулочек не трогал, нянюшка, клубочек размотал котеночек. А Мишенька был паинька, Мишенька был умница.
И вот уже в детской душе просыпается маленькая рассерженность, и музыка становится не плавной, но – колючей, она ускоряется:
– А няня – злая, старая, у няни носик-то запачканный, Миша чистенький, причесанный, а у няни чепчик на боку.
И снова готовый разреветься голос:
– Няня Мишеньку обидела, напрасно в угол поставила! Миша больше не будет любить свою нянюшку! Вот что!..
Текст изумительно точен. Речь – именно детская: о себе – в третьем лице, как часто бывает у маленьких. Но главное – слова могут говорить одно, а та интонация, которую вносит музыка, – несколько иное, более сложное. Последняя фраза сказана «Мишенькой» и наперекорвзрослому, но вместе с тем в голосе ощутимо: ребенок готов уже и помириться.
То диалогическое начало, которым проникнуты эти сценки, чувствуется даже в монологах, в том же «Жуке». Более того, здесь виден даже сам захлебывающийся маленький рассказчик:
– Няня, нянюшка! Что случилось, няня, душенька!
Конечно, только что подбежал. Говорит быстро, запыхиваясь.
– Я играл там на песочке, за беседкой, где березки; строил домик из лучиночек кленовых, тех, что мне мама, сама мама нащепала. Домик уж совсем построил, домик с крышкой, настоящий домик…
Лучинки от мамы – не воспоминание ли о далеких годах в Кареве? И может быть, и маленький Модинька некогда пережил эту жутковатую и удивительную историю?
– Вдруг!.. – ребенок перебивает сам себя, замирая от маленького радостного ужаса. – На самой крышке жук сидит, огромный, черный, толстый такой, усами шевелит, страшно так, и прямо на меня все смотрит. Испугался я… А жук гудит, злится, крылья растопырил. Схватить меня хочет… И налетел, в височек меня ударил!..
Пауза после несколько тревожного повествования. Начинается то, что ребенку кажется загадочным:
– Я притаился, нянюшка, присел, боюсь пошевельнуться!.. Только глазок один чуть-чуть открыл… И что же? Послушай, нянюшка…
Музыка тихонько ускоряется. Ребенок рассматривает «уже не страшное» насекомое:
– Жук лежит, сложивши лапки, кверху носиком, на спинке и уж не злится, и усами не шевелит, и не гудит уж, только крылышки дрожат. Что ж он, умер? Иль притворился?..








