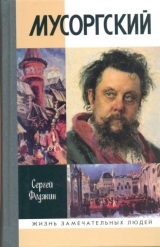
Текст книги "Мусоргский"
Автор книги: Сергей Федякин
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 43 страниц)
Мусоргский «сюжетец» увидел с неожиданной стороны, именно героиню изобразил усмешкой: «Она к мужу приласкалась, уверяла, что верна…» Если вслушаться в музыку – с усмешкой не без горечи. История, о которой прослышал? Или, быть может, давнее переживание? То самое, от которого осталось смутное свидетельство «третьестепенного» источника, где «он» и «она», родительское вмешательство со стороны невесты, написанная позже грустная, протяжная песня «Где ты, звездочка?»
«Светская сказочка», в обиходе балакиревцев прозванная грубоватым «Козел», будет исполнена в концерте через два месяца. Цезарь Кюи в своем отзыве отметит и хорошую музыку, и неудачное исполнение. Язык Мусоргского становился уже настолько отличным от привычных романсных «оборотов», что мог поставить в тупик любого не привыкшего к подобной музыке певца. Тем более – знатока. И об этом в декабре 1867-го Модест Петрович тоже напишет. Этот «романс» будет с историей.
…9 декабря в концерте РМО Балакирев исполнил свою «Чешскую увертюру» и симфоническую картину Римского-Корсакова «Садко». Корсиньку публика приняла радушно: молодого композитора несколько раз вызывали. Мусоргский задолго до премьеры радовался за младшего товарища, настолько самобытным и русскимоказалось произведение. Кюи в «Санкт-Петербургских новостях» не мог не откликнуться: «Самое удачное, оригинальное и самобытное произведение из всего написанного Корсаковым… поражает легкость, свежесть и вдохновенность мысли. Краски оркестра очаровательны, подводны по характеру своему от первой до последней ноты». Даже злопамятный Серов не мог обойти вещь Корсиньки. Пожурил за неточность названия «Садко – музыкальная былина», поскольку у Корсакова – лишь эпизод былины. Побрюзжал, не называя имен, на Стасова с Балакиревым: «В том кружке музыкальном, к которому на свою беду примкнул г. Римский-Корсаков, решительно нет заботы о мысли, руководящей музыкальным творчеством». Но все-таки саму вещь – оценил: «Что тут в звуках оркестра бездна не только общеславянского, но истинно русского,что музыкальная „палитра“ автора искрится своеобразным, самобытным богатством, это несомненно».
Одно лишь выступление звучало брезгливо-вызывающе, вразрез со всеми: «Неужели народность в искусстве заключается в том, что мотивами для сочинения служат тривиальные плясовые песни, невольно напоминающие отвратительные сцены у дверей питейного дома. Неужели музыка, идеальнейшее из искусств, способная вызвать в фантазии слушателя самые идеальные образы, возбудить в нем самые чистые, возвышенные чувства, может опускаться до низкого, недостойного уровня песен пьяного мужика…»
Одаренность Корсакова была очевидной и раздраженному рецензенту. Но и об этом он мог сказать лишь с поджатой нижней губой:
«Автор, несомненно, обладает замечательным талантом, но, к сожалению, он слишком заражен, пропитан простонародностью».
Александр Сергеевич Фаминцын. Если бы он не брался за критическое перо!.. Его вспоминали бы как знатока славянских древностей, автора книг о гуслях, домре, скоморохах, исследователе древнекитайской гаммы. Это будет, правда, уже на рубеже 1880–1890-х, когда Фаминцын приблизится к своим пятидесяти. Сейчас он, проживший чуть более четверти века, молодой профессор эстетики в Санкт-Петербургской консерватории, взялся за русских композиторов. Как зла бывает судьба к людям нечутким! Он – тот, кто будет писать о славянской древности, – не услышал музыкантов, «впустивших» эту древность в современную музыку. Неужели музыкальная выучка в Германии могла так затмить его слух? Фырканье Фаминцына раздразнило. И Мусоргский откликнулся памфлетом.
Я прост, я ясен,
Я скромен, вежлив,
Я прекрасен.
Я плавен, важен,
Я в меру страстен.
Я – чистый классик.
Я стыдлив,
Я – чистый классик,
Я учтив.
Текст «Классика» без музыки «не полон». Музыка дает возможность услышать то, что сам Мусоргский попытался пояснить в рукописи: «В ответ на заметку Фаминцына по поводу еретичества русской школы музыки».
Начало «Классика» – тихое, «благостное» (и сквозь эту приглушенную интонацию – скрыто-самодовольное) заставляет вспомнить европейскую оперу времен Моцарта. Строчка «я прекрасен» пропевается с «фиоритуркой», с той вокальной «завитушкой», которую «родные уши» балакиревцев должны были поймать с усмешкой. «Я в меру страстен», – явное тематическое оживление с «благопристойным» моцартизмом. И самохарактеристика: «Я – чистый классик», – выпевается в первый раз на «скромном» усилении голоса, во второй раз – на его замирании, с характернейшим для классической арии распевом «кла-ас-си-и-и-ик».
Сатира в музыке – тот жанр, на который решатся не многие. Она помнит о первоисточнике, она заставляет знать, что Александр Сергеевич Фаминцын учился музыке в Германии, учился старательно, и правила, им вынесенные, – это было то, что Мусоргский мог назвать «неметчиной».
Вторая «часть» этого крошечного памфлета – полна тем звуковым напором, который должен «классика» ужаснуть. Он и ужасается, и голос то и дело (на ключевых словах – «я злейшийвраг новейших ухищрений, заклятыйвраг всех нововведений») скачет на огромный интервал вниз. В аккомпанементе возникает отголосок темы «моря» из картины Римского-Корсакова «Садко». Потом вступают бравурные «маршеобразные» ритмы. Кульминация «музыкального безобразия» – скачок на целую нону (нечто невообразимое для «классика»!) вниз: «В них гроб искусства вижу я». «Падение» звука приходится как раз на самое точное слово «гроб».
Финал памфлета Мусоргского – возвращение к «тихому» началу, уже с нагнетанием буквы «я», которая превращается в самохарактеристику «классика»: «Но я, я – прост, но я, я – ясен…»
Декабрьская творческая волна не остыла и в январе, когда явилось еще одно произведение – «Сиротка». И опять – монолог ребенка. Но с «Озорником» роднило только это. «Сиротка» – почти «песенка». Жалостная до холода в спине.
Барин мой миленький,
Барин мой добренький,
Сжалься над бедненьким,
Горьким, бездомным сироточкой!
Баринушка!
Стихотворный размер ломается, когда тоска не вмещается в заданный ритм. Слова, написанные композитором, не дотягивают до стонущих звуков Некрасова. Но музыка усиливает звук – и преображает его.
Некрасова Мусоргский, кажется, не любил. Высоко ценив Герцена, он и не мог к поэту относиться иначе. Герцен сомневался в искренности некрасовского народолюбия, да и человеком считал весьма «нехорошим». И все же «заунывная» поэзия автора «Железной дороги», стихотворения «Еду ли ночью…», «Коробейников», его безутешность вряд ли могла миновать душу композитора.
Я лугами иду – ветер свищет в лугах:
Холодно, странничек, холодно,
Холодно, родименькой, холодно!
Я лесами иду – звери воют в лесах:
Голодно, странничек, голодно.
Голодно, родименькой, голодно!
Особый отзвук, – с жалостью, с жутью, – который «гудел» в стихах Некрасова, коснулся и Мусоргского. Эту мучительную «ноту» он схватил музыкой, и она многократно усилила сочиненные им самим слова:
…Холодом, голодом Греюсь, кормлюся я,
Бурей да вьюгою В ночь прикрываюся…
И снова от маленького сочинения повеяло будущей музыкальной драмой: царь Борис выйдет из собора, и его встретит многоголосный стон: «Хлеба!.. Хлеба голодным!..»
Спустя многие годы Александр Порфирьевич Бородин припомнит, как расхворалась его жена, припомнит и Мусоргского с рукописью «Сиротки», и его сочувственную надпись: «…как маленькое утешение больной женщине».
* * *
Зима 1867/68 года. Не только Мусоргский ощутил ее бодрящий холод и живое дыхание. Не только Берлиоз сквозь страдания улавливал последнее свое вдохновение. Медленно истаивала и жизнь того, чье присутствие в этом мире станет особенно важным для новой русской музыки, неповторимый лик которой только-только стал проступать в сочинениях балакиревцев. Но Александр Сергеевич Даргомыжский, в отличие от усталого Гектора Берлиоза, не хотел с полной обреченностью ожидать приближение смертного часа.
Всё было против него. Давний ревматизм отозвался тяжелейшей болезнью сердца. Материальные дела – в тревожном состоянии. Изводила тяжба вокруг Дубровы, имения, столь им любимого (в письме к знакомым – вопль: «…процесс, в который я завлечен обманом, принимает гнусный оборот…»). Пытался поправить дела «предпринимательством»… – безуспешно. Ко всему прибавилось и еще одно крайне неприятное «дело».
Федор Стелловский. В истории русской культуры – имя зловещее. Как мало о нем известно сейчас! И как известен был он в свое время! Потомкам Стелловский всего более запомнился как «черный человек» Достоевского с неожиданным «заказом», который более походил на желание похоронить писателя заживо. «Стелловский такая шельма, что подденет, где и не предполагаешь» [64]64
Письмо Ф. М. Достоевского к А. Н. Майкову от 27 октября (8 ноября) 1869 г. // Достоевский Ф. М.ПСС. Т. 29. Кн. I. Л.: Наука, 1986. С. 75.
[Закрыть], – эту фразу Достоевского поневоле вспомнишь, узнав, что этот издатель «наложил свою лапу» не только на автора «Преступления и наказания». Скупить векселя, дабы потом шантажировать, исчезнуть из города в решающий день, предоставить марку издательства, чтобы после постараться урвать и часть авторских прав… Печатал не только литературные произведения, был и нотоиздателем. Выпускал произведения М. И. Глинки, А. Н. Верстовского, А. Н. Серова. То и дело вытягивая из неимущих владельцев рукописи, сутяжничая, стремясь «урвать» где угодно и как угодно, пытаясь присвоить права на то, что ему не принадлежит, этот «черный человек» русских литераторов и композиторов запомнился и тем, кто знал А. Ф. Писемского, и тем, кто был знаком с Всеволодом Крестовским. Неприятности доставил и сестре Глинки, Людмиле Ивановне Шестаковой, правопреемнице брата, заявив претензии на часть наследия композитора. Бросит свою мрачную тень и на последний год жизни Александра Даргомыжского.
Композитор связался с предприимчивым издателем лет десять назад, чтобы выпустить в свет свою «Русалку». В договоре стояла сумма в 1100 рублей, хотя 700 из них композитор «приплатил», чтобы увидеть свое детище напечатанным.
С осени 1865-го возобновилась «Русалка», затем «Эсмеральда» и «Торжество Вакха». Новый успех старых произведений, взлетевший авторитет – все это откликнулось в 1867-м: Даргомыжского избрали председателем Музыкального Общества. Композитор был воодушевлен, но эти перемены возрадовали и дельца: он захотел по старому издательскому договору получать теперь и поспектакльную плату, заявив о своих «правах» дирекции императорских театров.
Зловещая фигура издателя преследовала воображение композитора, то воображение, которое естественнее было употребить на сочинение музыки. И уставший от болезней и тяжб Даргомыжский пишет «трезвому» Кюи письмо, где шутка соседствует с мукой:
«Не можете ли зайти ко мне сегодня, хотя на полчаса. Мне хочется показать вам бумагу о новой претензии Стелловского на все поспектакльные платы за представления „Русалки“.
Вы светлым своим умом
Поверьте мой ответ
В дирекции контору
И дайте мне совет
Для лучшего отпору.
А. Даргомыжский».
Письмецо отзовется в статье Кюи «Последний концерт Русского Музыкального Общества. Еще Стелловский» [65]65
Санкт-Петербургские ведомости. 1868. № 43. 14 февраля.
[Закрыть]. Публика узнает и о том процессе, который затеял беззастенчивый сутяжник с сестрой Глинки, и о его желании выпустить «Ивана Сусанина» с театральными купюрами. Нелепое намерение дать «неполную» партитуру заставила Цезаря Кюи подвести черту под «неблагонадежным» делом вздорного издателя, и здесь с неизбежностью прозвучит имя не только покойного автора «Сусанина» и «Руслана», но и другое – почти уже умирающего композитора: «…Деятельность Стелловского по музыкальным делам, его безобразное переложение увертюры „Русалки“, его запрещение исполнять произведения Глинки и Даргомыжского мало могут содействовать к усилению надежд на его настоящее предприятие».
И всё же была в жизни Александра Сергеевича Даргомыжского и другая, главная сторона. Некогда он увидел странный сон: вещий голос внушал ему написать музыку на пушкинского «Каменного гостя». Даргомыжский подумал о речитативной опере. И отшатнулся, испугавшись столь трудной задачи. Теперь, измученный болезнями, тяжбами, он понимал: время его жизни вот-вот начнет исчисляться не годами, но месяцами. Последний отрезок жизни грозил стать совсем непосильным бременем. И вот, когда времени почти не осталось, – вдруг взялся. Рывком. И все помыслы он уже связывал с одним «Каменным гостем».
Произведение выходило небывалое. Долгие мытарства после «Русалки» – когда писались симфонические вещи, когда задумал эпос, «Илью Муромца», потом хотел взяться за пушкинскую «Полтаву», потом за «Рогдану», сказочно-комическую оперу (там он набросал даже несколько сцен), – все это был лишь поиск этого небывалого. Драгоценная идея! «Каменный гость» Пушкина – вещь стремительная, в ней нет ни одного лишнего слова. Почему бы не писать музыку, не меняя слов, сразу на пушкинский текст? Замысел, ради которого можно было отдать всю оставшуюся жизнь. И тем более – хотелось общения. Хотелось видеть тех, кому будет дорог его последний замысел…
Еще одна стихотворная записочка Даргомыжского. К Мусоргскому:
О вы, что во улику
Классико-ктиторов
Принадлежите к лику
Кюи-композиторов.
Нуждаюсь скоро
Увидеть вас:
Придите скоро,
Не то я – пас.
Забыв ход чисел,
Я буду кисел,
Как старый квас.
Шутливое стихотвореньице, в котором то там, то здесь вздрагивают особые смыслы, ощутимо само дыхание истории. Особая роль Цезаря Кюи в балакиревском кружке. Мусоргский никогда не сочинял в духе Кюи, никогда не был «Кюи-композитором». Но Цезарь Антонович своими музыкальными критическими статьями, в которых пытался держаться общего духа балакиревского кружка, его мнений и оценок, «уважать себя заставил». Все «младшие» балакиревцы – Мусоргский, Бородин, Римский-Корсаков – в глазах музыкально-литературной публики – «Кюи-композиторы». За «классико-ктиторами» всплывает иное произведение: «Классика» Мусоргский закончил 30 декабря 1867 года.
Даргомыжский, сам любивший жестокую сатиру в музыке, не мог не откликнуться на эту вещь. Потому в стихотворном письмеце его и припомнит. Модест был из его любимцев, он чувствовал, как тот набирает силу, как движется в своем творчестве где-то рядом, и все же – совершенно по-своему. Он был нужен Александру Сергеевичу не только как голос, во многом ему созвучный, в чем-то – родной. Но и как живое подтверждение верности его собственного пути. И вместе с тем – другая, не менее важная строка: «Я буду кисел, как старый квас». Шутка была не такой уж смешной. Чувствовал он себя прескверно.
…Это был давний недуг. И теперь наступило обострение. То, что происходило с сердцем, – пугало. В апреле 1867-го на приглашение Стасова посетить балакиревский кружок Даргомыжский мог ответить лишь грустным отказом: «Такие колотья в груди, что насилу пишу к вам». День ото дня болезнь все более захватывала его. Становилось больно дышать, он чувствовал рези. Но, вместе с тем, измученный, уставший от болезни, Даргомыжский горбился над роялем.
Сцены «Каменного гостя» рождались одна за другой. Композитор рождал, рождал свою лебединую песнь, и сам был поражен и своим совершенно юношеским вдохновением, и тем, что оно прорезалось в столь тяжелые часы жизни, когда тело его все было подвластно недоброму недугу.
Ноты записывал с трудом. Но само сочинение – летело: в пять дней рождалось столько, сколько ранее не появлялось и в два месяца, в два месяца – столько, на сколько раньше уходил целый год. И вместе с «Каменным гостем» он остро ощутил потребность в единомышленниках. Потребность была неодолимая – очень уж необычно и оригинально было его сочинение. И так нужны были люди, способные одним своим вниманием вдохнуть в слабеющее тело новые, недостающие для сочинения силы.
Измученный болезнью и вдохновленный своей «лебединой песней», Даргомыжский всё чаще сзывает к себе на музыкальные вечера не прежних знакомцев, людей невысокого музыкального «полета», годных разве лишь для домашнего музицирования, но Балакирева и весь его круг. Появятся здесь и две 130 молоденькие сестры Пургольд, которых Александр Сергеевич знал еще с той поры, когда они были совсем крошечными.
Семейство Пургольд жило этажом выше: Владимир Федорович, давний товарищ Даргомыжского, весьма неплохой певец, и его чудесные племянницы. Когда девчонки были еще совсем маленькими, они пристально вслушивались в музыку «снизу». Вечера Даргомыжского – это главным образом звучащая музыка хозяина и Михаила Глинки. Сестры ложились на пол, прислонившись к нему ухом, и жадно впитывали в себя эти звуки. Сашу Пургольд Даргомыжский сразу отметил, когда услышал ее голос. И начал с редкой настойчивостью учить ее выразительному пению, показывая своим скрипучим тенорком, как верная интонация преображает произведение. Надя, только-только освоив фортепиано, сразу стала получать от него партитуры для четырехручного переложения. Ее прирожденная суровость забавляла Даргомыжского. Александр Сергеевич – человек влюбчивый и большой любитель поухаживать – часто пошучивал: «Женщины обязательно должны заниматься музыкой. Чтобы нравиться». Серьезной Наденьке однажды сказал: «Худо, что в вашей игре нет кокетства!»
Без них, веселой Саши и сосредоточенной Нади, ему уже трудно было обходиться. Как забыть их слезы после первого акта возобновленной «Русалки»! И разве не они, услышав про его вещий сон о «Каменном госте», заболели этой идеей, то и дело напоминая о ненаписанной опере?
Композитор будто проживал сразу две жизни. Одна, мучительная, отразится в письме Владимира Стасова брату Дмитрию. 7 марта 1868 года он побывает у Александра Сергеевича. «Он от досады почти задыхался и толковал, что хотя ему остается жить всего года два, но он поскорее все бросит, заплатит Стелловскому 8000 и уедет из этой проклятой России, где торжествуют все только Стелловские. Мы с его сестрой насилу успокоили его немножко».
Вторая жизнь – вдохновенная – воплощается в истории создания «Каменного гостя». «С каждым вечером, – припоминает Римский-Корсаков, – у Александра Сергеевича „Каменный гость“ вырастал в постепенном порядке на значительный кусок и тотчас же исполнялся в следующем составе: автор, обладавший старческим и сиплым тенором, тем не менее превосходно воспроизводил партию самого Дон-Жуана, Мусоргский – Лепорелло и Дон-Карлоса, Вельяминов – монаха и командора, А. Н. Пургольд – Лауру и Донну-Анну, а Надежда Николаевна аккомпанировала на фортепиано. Иногда исполнялись романсы Мусоргского (автор и А. Н. Пургольд), романсы Балакирева, Кюи и мои. Игрались в 4 руки мой „Садко“ и „Чухонская фантазия“ Даргомыжского, переложенные Надеждой Николаевной» [66]66
Римский-Корсаков Н. А.Летопись моей музыкальной жизни. 8-е изд. М., 1980. С. 52.
[Закрыть].
Пятого марта на квартире Даргомыжского впервые сойдутся вместе балакиревцы и сестры Пургольд. С этого вечера словно началось новое музыкальное время.
* * *
Пение Александры Николаевны на Мусоргского сразу произвело впечатление. Лаура из «Каменного гостя» засела в памяти. И вероятно не потому только, что Даргомыжский многое дал своей ученице, но в самом характере Александры Николаевны, при ее жизнелюбии, подчас даже какой-то веселой восторженности, жила особая отзывчивость.
Уже на следующий день после первой встречи, 6 марта, Мусоргский навестил новую знакомую. И она, увидев «Модиньку», не могла не улыбнуться. Совсем в иные времена – напишет о нем:
«М. П. был очень некрасив собой, но глаза у него были удивительные, в них было столько ума, так много мыслей, как только бывает у сильных талантов. Среднего роста, хорошо сложенный, изящный, воспитанный, прекрасно говорящий на иностранных языках, он прелестно декламировал и пел, хотя почти без голоса, но с замечательным выражением…»
Всё это можно было уловить с первого знакомства. Конечно, «почти без голоса» – неточность, смещение времен. Голос станет хриплым позже. В то время – если свериться с другими мемуаристами – у Мусоргского мягкий приятный баритон. Быть может, тогда уже, в этот день личной встречи, быть может, несколько позже Александра Николаевна увидит и другое: «Везде, где он ни появлялся, он был душою общества».
Мусоргский принес ноты, хотел показать свои сочинения. Возвращаясь мысленно к этой встрече, Александра Николаевна припомнит отрывки из «Бориса Годунова». Еще одна осечка: в марте о «Борисе» не было и речи. Была во многих частях весьма продвинутая опера «Саламбо», отсюда часть музыки перейдет чуть позже в «Бориса». Музыкальная память Александры Николаевны, запечатлев музыку, поневоле передвинет народную драму Мусоргского, ее части, на ту удивительную весну.
Кроме «Саламбо» Модест Петрович мог показать и то, что было уже «совсем Мусоргским» и что не могло не поразить чуткую Сашу Пургольд: «Савишну», «Гопак», «Семинариста», «Озорника», «Сиротку»… Что ощутила она в эту встречу? Музыкальную дерзость? Новизну? Необузданную мощь? «Сиротку», кажется, полюбила особенно.
Встреча с сестрами, Сашей и Надей, как-то воодушевила весь кружок. С их появлением в самом воздухе их собраний проявилось что-то мягкое, доброе. Даже мелькнувший однажды – будучи проездом – Чайковский, на которого ранее они поглядывали косо, сыграл по настоянию Балакирева первую часть своей соль-минорной симфонии и сразу им всем понравился.
Как-то легко за вечерами у Даргомыжского последовали и вечера у Пургольд – с мамой замечательных сестер, Анной Антоновной, с их сестрой, Софьей Николаевной, с пожилым дядей Владимиром Федоровичем. Этот замечательный меломан носил веселую кличку, данную когда-то племянницами: «Дядя О!» В былые годы он не просто болел театром, но и сочинял комедии на домашние события, приперчивая их то музыкой Доницетти, то сочинениями Даргомыжского. Продолжались и вечера у Шестаковой.
Балакирев и Мусоргский, как лучшие пианисты кружка, частенько садились за рояль поиграть в четыре руки, остальные «балакиревцы» слушали. Забавен был общий знакомый, певец-любитель генерал Вельяминов. Очевидцы припомнят, как исполнял он «Светика Савишну». Рукой опирался на стул аккомпаниатора, одну ногу откидывал назад, в правой руке почему-то сжимал ключ. Очень старался походить на юродивого: «Светик Савишна, сокол ясненький…» – но в пятидольный размер произведения Мусоргского вписывалось и пение генерала, и неизменное повторение его смешной просьбы: «Дайте вздохнуть!»
В Мусоргском эта весна пробудила что-то особенное, как будто в тайниках его души распахнулась волшебная дверка. Он ощутил, как затрепетало в нем что-то свежее, детское. Новые благодарные слушательницы вызвали и новую творческую волну. 16 марта – словно с какой-то неизбежностью после январской горестной «Сиротки» – появляется «Песня Еремушке» на стихи Некрасова. От стихотворения останется совсем немногое. Выпадут начальные строфы с нянюшкой, баюкающей дитя. Уйдут и «шестидесятнические» строфы про «Братство, Равенство, Свободу». Останется лишь эпизод – сама нянина колыбельная:
Ниже тоненькой былиночки
Надо голову клонить,
Чтоб на свете сиротиночке
Беспечально век прожить…
Но и эти строфы Мусоргский изменит, слова его «Еремушки» часто вбирают смысловые «блики» той части некрасовского стихотворения, которая осталась «вне музыки». В начале же он усиливает само печалованье, – некрасовское «чтоб на свете сиротиночке» заменит: «Чтобы бедной сиротиночке…» Не потому ли, что близилась очередная годовщина смерти матери? В душе он уже который год носил горькое свое сиротство.
В апреле рождается «Детская песенка» на стихи Мея – милая, коротенькая и действительно очень детская: «Во саду, ах, во садочке выросла малинка…» Следом, 26 апреля, опять детская. И – самая неожиданная…
Возможно, незадолго до того была встреча с братом, церковь, панихида, зажженная свечечка, голос священника: «Упокой, Господи, душу рабы Твоея Юлии…» Мысли убегали в прошлое, вспоминались и ранние годы в Кареве. С воспоминаниями о детском безмятежном времени пришел и образ няни. Слова написались сами. И точно запечатлели далекое воспоминание: «Расскажи мне, нянюшка, расскажи мне, милая, про того про буку страшного…»
Полупроза, полупоэзия. Дивная детская речь, словно живьем услышанная. Но что она значит без музыки! Без этой прихотливой «речитативной мелодии», этого очень причудливого ритма: «Про того-о-о… про буку стра-а-а-ашного…» Без этого тревожного ускорения – «по лесам бродил… в лес детей носил…» – этого, со вскриком: «…грыз он их белые косточки», и этого, «со всхлипом»: «…кричали, плакали»… Здесь немножко всё и «понарошку», как в детской страшилке, где причудливо перемешано и «вправду», и будтовправду. Ребенок Мусоргского знает уже, о чем няня будет рассказывать. Как знал некогда Пушкин в Михайловском, в том знаменитом стихотворении «Буря мглою землю кроет…». Пушкину было двадцать пять лет, когда так мучительно захотелось услышать то, что сказывала или пела няня Арина: «Спой мне песню, как синица тихо за морем жила, спой мне песню, как девица за водой поутру шла…» Но «добрая старушка» тогда была рядом, в Михайловском. Няня Мусоргского приходила со своими сказками из прошлого. И в нем самом жил в эту минуту не Модест Петрович, двадцати восьми лет от роду, а тот Модинька, из времен «до Петербурга», до Петришуле и Школы гвардейских подпрапорщиков. И этот ребенок, затаившийся в нем, со всей детской наивностью спрашивал, уже зная нянин ответ:
Нянюшка! Ведь за то их, детей-то, бука съел,
Что обидели няню старую.
Папу с мамой не послушали…
Ведь за то он съел их, нянюшка?..
И музыка, переменчивая, как детское настроение, вдруг обретала другую, тихо-озорную окраску:
Или вот что:
Расскажи мне лучше
Про царя с царицей,
Что за морем жили
В терему богатом…
Еще царь все на ногу хромал.
Как споткнется, так гриб вырастет.
У царицы-то все насморк был.
Как чихнет – стекла вдребезги!
Тогда, наверное, маленький Модинька, как и его братец Кито, заразительно смеялись. Смеялась за ними и няня. Могло ли не взгрустнуться теперь?.. Но в музыке – нет взрослого, печального, двадцативосьмилетнего автора. Здесь только наивный маленький герой:
Знаешь, нянюшка:
Ты про буку-то уж не рассказывай!
Бог с ним, с букой!
Расскажи мне, няня,
Ту, смешную-то!
Последняя строка – с тем ребячливым, сдавленным хохотком, который звучит «внутри» произносимого слова.
Свой маленький шедевр Мусоргский называл то «Дитя», то «Ребенок». Позже придет нужное название – «С няней». И эта пьеска – чувствовал это автор или нет? – была уже не просто совершенством. Это было что-то небывалое, в каждой нотке – новое. Музыка еще не знала такого рода произведений.
Конечно, он исполнил свою сценку-песенку в родном кругу, у Даргомыжского. Александр Сергеевич не мог не услышать, что Мусоргский родил чудо. Всё было настолько точно, настолько тонко и в то же время настолько по-детски целомудренно, что Даргомыжский не удержится от восторженного восклицания:
– Ну, этот заткнул меня за пояс!
Да, Мусоргский уже не просто овладел интонацией живой речи. Это была именно «схваченная» музыкой детскаяречь, которая так не похожа на речь взрослого человека. И как после этого было отказаться от новой дерзновенной мысли?








