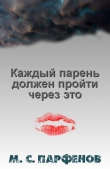Текст книги "Каменный город"
Автор книги: Р. Галимов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 26 страниц)
У Эстезии Петровны портился характер...
Утром она отругала – за плохо напечатанные документы – Симочку. Затем ее гнев обрушился на Кахно. Он уже второй раз прибегал к ней.
– Брильянтик мой, – говорил он умоляюще. – Посмотрите... Фондовое извещение на лес... Может, где-нибудь затерялось у вас среди бумаг?
– Георгий Минаевич!.. – вспылила она. – Вы за кого меня принимаете? Если я сказала – нет, значит, – нет! И уходите, пожалуйста! Не мешайте мне...
Она заложила в пишущую машинку бумагу и принялась перепечатывать документ, испорченный Симочкой.
– Что случилось, брильянтик? – Кахно мягко дотронулся до ее плеча. – Я ничем не могу помочь?
– Не нужно мне никакой помощи, понятно? – зло сверкнула она глазами. – И оставьте меня в покое!..
Бурцев, уходя на заседание партийного комитета, остановился возле ее стола. Она выжидательно поднялась и смотрела в сторону. Даже пудра не могла скрыть темных кругов вокруг ее глаз. Проклиная себя в душе, Бурцев молчал и не находил каких-то простых и необходимых слов, способных разбить ее отчужденность.
– Ну... я пошел... – только и сказал он. – Если будут звонить, переключите, пожалуйста, телефон.
Заседание партийного комитета проходило не совсем так, как ожидал Бурцев. Разговор вышел за рамки частного вопроса о новом проекте и шел скорее о стиле работы всего предприятия. Высказывались коротко, иногда зло, но чувствовалось, что многие ждали этого откровенного разговора. Внешне спокойно держался Таланов, непоколебимо уверенный в своей правоте.
– Существует государственная дисциплина, которой мы все должны подчиняться, – сказал он. – Мы не имеем права сорвать выполнение плана без достаточных к тому оснований. Мы не должны забывать, что от нас в некоторой степени зависит и выполнение плана будущей хлопкоуборочной кампании. Мы не можем допускать в своей работе никакой анархии.
– Вы нас не пугайте этим словом, так? – сорвался Ильяс, сверкнув темными, как нефть, глазами. – Не пугайте, так? Здесь – партийный комитет, коллективный разум, не анархия, так? И по течению, которое создали вы с Гармашевым, мы не пойдем!.. Двадцатый съезд нас учит думать... Думать, так? Думать о пользе государства... О пользе, так?
Муслим постучал ладонью по столу и поднялся.
– Государственная дисциплина – закон, кто спорит, э! – сказал он. – Не об этом говорим, э! Вот – газету читаем, брошюры читаем, видим – написано «на базе высшей техники»... Киваем головой «хай, хай, хоп – хорошо» – делаем по-старому... Это как называется, э?.. Вот – новый проект, вот – база высшей техники... Хороший проект? Товарищи говорят – хороший... Кому видней? Главк далеко, министерство далеко, мы – здесь... Мы должны говорить по-государственному, решать по-государственному... Выпускать продукцию тяп-ляп, пока от нас уйдет, «пока до хозяина дойдет», – по-государственному, э?..
Муслим обвел взглядом присутствующих и сел.
– Давайте о деле говорить, э... – сказал он, подвигав на голове тюбетейку. – Говори, Дмитрий Сергеевич.
– Мы немного отвлеклись... – начал Бурцев. – Мне кажется, следует конкретизировать обстановку. Конечно, если бы станок пришлось делать совершенно заново, мы сказали бы «на безрыбье и рак рыба». Но я совещался с конструкторами, и мы установили, что, опоздав всего на десять – пятнадцать дней, мы сумеем дать новый вариант станка. Переделывать придется лишь часть узлов, а производительность станка возрастет втрое. Из этого и следует исходить... Если бы не один момент – личные материальные потери рабочих и инженерно-технического персонала, не стоило бы и обсуждать этот вопрос. Но этих потерь нам не избежать, в этом Николай Николаевич прав. Такова обстановка, решайте...
Решили обсудить вопрос с рабочими – созвать во вторую смену общее профсоюзное собрание.
Часа в три дня Бурцеву позвонил Савин.
– Сушай, варяг, – сказал он. – Что у тебя стряслось? Я слышал, что ты не дашь мне станка?..
Бурцев стал объяснять.
– Ну, знаем мы эти переделки на ходу!.. – перебил Савин, как только понял, в чем дело. – Либо будет, либо нет... Мне не нужно журавля в небе, ты мне дай синичку, которую я видел. А не дашь – не обессудь, буду жаловаться. Может, у тебя и две головы, а у меня – одна!..
Бурцев задумался. Позиция заказчика осложняла дело. Отступить? Отказаться от ценной технической идеи? Никогда!.. В конце концов, это – не частное дело. Ни его, Бурцева, ни Савина, ни самих авторов. В тот момент, когда они положили чертежи на директорский стол, проект стал принадлежать обществу. Да, теоретически, отвлеченно, это было так... А практически... Что же, вечером увидим... Жаль, что придется опоздать к началу собрания: надо ехать на переговорную станцию.
В шесть часов к нему зашла Вечеслова.
– Я ухожу, Дмитрий Сергеевич, – сказала она негромко. – У меня что-то голова разболелась... Вот передайте, пожалуйста, Кахно фондовое извещение на лес. Он все беспокоился.
– Да-да, пожалуйста... – сказал рассеянно Бурцев, засовывая бумагу в карман. Вечеслова, казалось, чего-то ждала. Но что он мог сказать до разговора с Ольгой? Бурцев терялся. Чувствуя, что говорит глупость, он все же спросил: – Может... возьмете машину – и к врачу?..
– Обойдусь... До свадьбы пройдет... – усмехнулась Вечеслова и, кивнув головой, вышла.
Бурцев с досадой отодвинул кресло и, подойдя к столу, закурил. Небо, с утра затянутое хмурой дымкой, приобрело свинцовый оттенок. Давящая духота вызывала неприятную липкую испарину. Порывами налетал жаркий ветер, закручивая небольшие смерчи мелкой пыли.
«Все-таки ты порядочная размазня, Димка... – думал Бурцев. – Ты не умеешь болтать ногами... И вечно чем-то связан... К шутам!..»
Позже, расхаживая мимо кабинок переговорной станции, он опасался одного: как бы треволненья последних дней не обрушились на Ольгу, словно развернувшаяся пружина. Он совершенно не представлял себе, как и о чем будет говорить с ней. Попытался сосредоточиться, но махнул рукой...
Наконец его вызвали в кабинку. С щемящим беспокойством в сердце он взял трубку и услышал далекий тоненький голосок Ольги. В первое мгновение он отвечал механически, почти не вникая в смысл ее слов.
– Как же ты устроился, Димчик? – спросила она после небольшой паузы.
– Отлично... – ответил Бурцев. – Отлично устроился. Все идет как нельзя лучше...
– Тебе хорошо, да?.. – с какой-то затаенной надеждой в голосе допытывалась Ольга. – Знаешь... Я хочу сказать... Уж лучше сразу!.. Не приеду я, Димчик... Не могу я, не могу!.. – В голосе ее послышались знакомые, по-детски капризные нотки.
Бурцев притих. «Ольга, славная!..» – хотелось ему крикнуть. Он готов был смеяться и в то же время чувствовал себя в чем-то виноватым перед ней.
– Денег тебе не нужно? – зачем-то спросил он.
– У меня есть... – ответила она. – Ты хороший все же, Димчик... Прости... Но мне трудно с тобой... Рядом с тобой я как-то особенно чувствую свое ничтожество... Нет, нет, дорогой, это не ты виноват. Это – во мне самой!.. И вот, я понимаю, что никогда не смогла бы отделаться от этого чувства....Но нельзя же так жить, правда?.. Ты все работаешь, думаешь о чем-то, тебе все ясно впереди. А я ничего особенного и добиваться не хочу, живу – и все... Ты не сердишься на меня?
– Нет, Оля, нет!.. – взволнованно сказал Бурцев. – Сейчас ты, может быть, честнее меня... И я от всего сердца хочу, чтобы ты была счастлива!..
– Спасибо, Димчик, целую тебя... – с каким-то поспешным облегчением ответила она. Бурцев почувствовал, сколько напряжения потребовал от нее этот разговор – честный, без уверток. Он был благодарен ей, и в то же время ему было жаль ее, словно он обидел ребенка.
Когда Бурцев вышел на улицу, начинало темнеть. Резкий ветер ударил ему в лицо, запорошив пылью глаза. Бурцев взглянул на небо. Похоже было, что собиралась гроза.
– Гони, Миша, на завод, – сказал он, усаживаясь рядом с шофером.
Как и предполагал, Бурцев приехал на завод с опозданием. Собрание шло в сборочном цехе. Люди расселись где попало – на верстаках, на ящиках, на полу. Жестким светом сияли сильные электролампы. Гудели вентиляционные трубы. Но духота не развеивалась. Маслянисто блестели потные лица... Бурцев, невольно пригнувшись, прошел по пролету и сел на свободный стул за небольшим столиком, который был покрыт куском линялого кумача. Никто не обратил на него внимания.
За столом поднялся Чугай, председатель завкома, – тощий, длиннорукий, с неопрятно отросшими волосами. Бурцев с первого дня невзлюбил его. Просматривая вместе с ним коллективный договор, Бурцев убедился в его подобострастной готовности отступиться от любого пункта документа.
– Това-а-арищи!.. – говорил Чугай, разведя длинными руками. – Куда‑а это годится? Мы обсуждаем кардинальный вопрос передовой техники, а вы сводите на шкурные вопросы. Попрошу выступать по существу...
«Ах ты, сколопендра бесхребетная!.. – зло подумал Бурцев. – Поистине, когда такой субъект повторяет верную мысль, даже тогда он лжет...»
К столу вышел кряжистый старик в серой диагоналевой куртке. Разгладив желтоватые прокуренные усы, он достал из футляра очки в стальной оправе, не торопясь надел их, оглядел цех...
Бурцев с интересом приглядывался к нему. Он тронул за плечо сидевшего впереди Муслима.
– Кто это? – шепотом спросил он.
Муслим осторожно отодвинул назад свой стул и нагнулся к Бурцеву.
– Акимов... Иван Савельевич... – сказал Муслим. – Из старых мастеровых... Золотые руки, э... Мастер-инструментальцик.
– Я, товарищи, старый человек... – начал Акимов негромким глухим голосом. – Если что не так скажу, извиняйте... Тут вот много говорили: премии, не премии... Инженеры говорили, опять же – наши рабочие... А товарищ Чугай и вовсе не постеснялся, пустил «шкурника»...
– Товарищ Акимов, попрошу по существу! – приподнялся Чугай.
– Молчать!.. – неожиданно вырвалось у Бурцева. Голос его гулко отдался в просторном цехе. Рабочие зашевелились, вытягивая головы, присматриваясь. Послышались смешки, некоторые стали перебегать поближе к столу.
– Продолжайте, Иван Савельевич, – сказал Бурцев, с бешенством глядя на растерявшегося Чугая.
– Я что хочу сказать... – Акимов снова разгладил усы, пряча в них усмешку. – В старое время нас, инструментальщиков, слесарей-лекальщиков, было – по пальцам сосчитать... Но опять же, какой это был народ, – кудесники! Взять, скажем, плитки Иогансона... От века из Швеции ввозили их. Каждая плиточка – на вес золота. И ведь драли, сучьи дети, – потому – секрета ихнего никто не знал. Да‑а... покуда не взялся за дело золотой человек, мастер божьей милостью – Кушников, Николай Васильевич. «Как-так, – думает, – прежде, до революции, с нас драли шведы, теперь опять же дерут». Стал доискиваться секрета, да и нашел. Да... Собрал мастеров, – кривой Левша у них в подмастерьях бы ходил, – нас, молодых лекальщиков, набрал, поставил артель на Петроградской стороне – «Красный инструментальщик»... Да‑а... Стали работать. Сказать артистически, так у скрипача пальцы пришлись бы грубыми для той работы!.. На чугунную доску-притир насыпали абразивный порошок – и плиточкой, полегонечку, туда-сюда, туда-сюда... Подвигал, поставил под микроскоп, посмотрел – опять двигай. Снимать-то надо сотки микрона!.. Опять же, чуть задумался, нажал сильней – каюк! Либо совсем запорол – не липнут плиточки друг к дружке, либо – точность не та, в низший разряд пошла плитка. Да-а... Флигелек маленький, темный, холодный... Денег имели всего-ничего, не то и свои докладывали, а вот – работали... – Акимов снял запотевшие очки, протер их платком, степенно водрузил на место и взглянул на собравшихся в цехе. – Я что хочу сказать, – повторил он, подняв желтый от табака палец. – Какой интерес имели те мастера? Корысть?.. Нет, товарищи мои милые, имели они свою рабочую гордость! Да-а!.. Присказку имели – «держу марку!». Слышу – и нынче иной молодой сбрякнет то самое, да ядрышка слов, видать, не раскусил... Извиняйте старика, разбрехался... А о новом станке скажу: не честь нам опускаться до низшего разряда, гордость рабочую надо блюсти... держать марку!..
В цехе зааплодировали, зашумели: «Правильно, Савельич!..» Акимов, сняв очки, уложил их в футляр и степенно, по-стариковски, пошел на свое место.
– Слыхал старую гвардию? – наклонился Бурцев к Муслиму. – А мы сидели размазывали...
– Слыхал, слыхал... – заворчал тот. – Не спеши, э... Это одна ладонь, послушаем, как об нее другая ладонь хлопнет...
Шум в цехе продолжался. Стали возникать водовороты отдельных споров. Бурцев взглянул на Чугая и знаками предложил ему вести собрание. Тот с готовностью вскочил, затряс колокольчиком.
– Кстати, где Таланов? – спросил Бурцев, вновь наклоняясь к Муслиму. – Я что-то не вижу его...
– Выступил и уехал, – ответил Муслим. – Заболел, э... Печень...
– Все свое тянул? – поинтересовался Бурцев.
– У перепелки одна песня... – кивнул Муслим.
– Попрошу организованно!.. – взвыл Чугай. – Кто хочет? Вы, Коршунов? Давайте...
У стола, теребя кепку, остановился слесарь-сборщик Коршунов. Синяя майка-безрукавка рельефно обтягивала его мускулистую грудь.
– Товарищи, что же это получается? – начал он ломким металлическим голосом, склонив лобастую голову и полуобернувшись к столу. – Я конечно, полностью согласен с Иваном Савельичем... Но пусть и руководство войдет в положение!.. Чугай говорит: шкурники. А что, мы из премий капиталы копим? Знает ли Чугай – сколько людей по частным квартирам живет, по двести – триста рубликов выкладывают?.. Вот куда идут те премии. А возьмем наш новый дом, в который можно бы многих вселить... Второй год пишем в коллективном договоре: «Дом должен быть закончен». Что же на деле? Спросите сегодня у Чугая, он скажет: «Нет железа для крыши». А где оно, то железо, когда я сам сгружал его?.. – В наступившей тишине Коршунов обернулся к Чугаю: – Где оно?..
Чугай заерзал на месте и с беспокойством взглянул на Бурцева.
– Отвечайте, вас же спрашивают, – кивнул Бурцев.
– Да я что же... по согласованию... – невнятно произнес Чугай. – Пусть товарищ Кахно объяснит... Он больше в курсе...
– Товарищ Кахно!.. – Бурцев привстал и огляделся.
Соскочив с высокого верстака, Кахно подошел и, заложив руки за спину, обернулся лицом к цеху.
– Вас интересует знать – где железо? – сказал он, иронически щуря глаза. – А меня интересует знать – кто тут молился на Гармашева?.. Что? Нет таких?..
Рабочие, знакомые с пряным языком снабженца, оживленно задвигались. Кахно выжидательно взглядывал на лица тех, кто сидел поближе, и слегка покачивался с пяток на носки.
– Так падают кумиры... – сказал он наконец. – А сколько было премий, сколько улыбок... Нажимай на план – и будет красивая жизнь, Гармашев ни в чем не откажет... Божественно!.. В прошлую зиму он узнал – рабочих интересует картошка. Кахно, приказал он, обменяй в колхозе!.. Что же вы хотите – Кахно обменял. Баш на баш... Вы кушали не картошку, вы кушали железо.
Воцарилась изумленная тишина. Кахно выждал с минуту и, как актер, покидающий сцену, широким шагом вернулся на место. Наконец послышался чей-то смущенный смех, затем засмеялись еще некоторые. В возросшем шуме мешались веселые и возмущенные голоса:
– Безобразие!..
– Здорово! Выходит – крышу сами слопали!..
– Ай да Семен Михайлович! Ай да добрый человек!..
Коршунов отчаянно махнул рукой и пошел по проходу, сопровождаемый шлепками и шутливыми возгласами.
Бурцеву смутно помнилось, что в записях Вечесловой упоминалось о картофеле. Но тогда он просто не обратил внимания на подобную мелочь, и подробности возмутительной истории остались ему неизвестными. Его и покоробила и рассмешила вызывающая речь снабженца. Но, пожалуй, Кахно, сам того не подозревая, попал сейчас в точку: никто не мог бы красочней представить «стиль Гармашева».
Бурцев чувствовал, что наступил решающий момент. Следовало закрепить наступившую перемену в настроениях. Мысль, мелькнувшая во время рассказа Коршунова о новом доме, вернулась снова, и Бурцева вдруг осенило. Он вынул из кармана документ, который передала ему Вечеслова, бегло просмотрел его и сунул обратно.
Бурцев встал и поднял руки, призывая к тишине.
– Товарищи! – сказал он громко. – Железо будет в ближайшие дни. Обещаю вам!..
Последние слова его потонули в возродившемся вихре восторженных голосов.
– Слушай, Дима, что ты говоришь, э? – встревоженно шептал Муслим, придвинувшись к Бурцеву. – Где возьмешь, э?..
– Оставь! – отмахнулся Бурцев и, поймав почти испуганный взгляд Кахно, рассмеялся.
Расталкивая людей, по проходу возвращался Коршунов.
– Правду говорите? – выдохнул он, положив руки на стол и глядя в лицо Бурцеву.
– Правду... – серьезно ответил Бурцев.
– И-эх!.. – по-мальчишески вскрикнул Коршунов и хлопнул кепкой об пол. – Голосуем, товарищи! Чего там!.. Держи марку!
Решение было принято: сдать станок в новом варианте...
Поднявшись вслед за Бурцевым в кабинет, Кахно и Муслим вопросительно взглянули на него. Бурцев, посмеиваясь, закурил, прошелся по кабинету и остановился перед Кахно.
– Достанете железо? – спросил он, все еще загадочно посмеиваясь.
– Не хочу обещать рахат-лукум, – мрачно ответил Кахно. – Если я уведу железо, ей скажут – она зарыдает...
– Уводить не придется, – сказал Бурцев и вынул из кармана фондовое извещение. – Поскольку у вас опыт, произведете законный обмен. Баш на баш...
– Аллаверды!.. – застонал Кахно, выхватив из рук Бурцева бумагу и пробежав ее глазами. – Вагон поделочной древесины!.. В чем же я станки буду отправлять?
– Вот именно – поделочной!.. – ткнул ему в грудь пальцем Бурцев. – А вы хотите ее на ящики пустить... Я думаю, в каком-либо строительно-монтажном управлении вам с радостью устроят обмен. Есть у вас на примете такие?
– Есть... – сокрушенно ответил Кахно, вновь взглянув на драгоценный документ.
Бурцев подошел к окну и толкнул рукой створки. Пахнуло влажным предгрозовым воздухом.
– Сейчас не видно... – сказал он. – А сколько у вас тут навалено побитых ящиков... Употребите их в дело. Нечего пускать добро в дымоходные трубы!.. Кроме того, надо снять строительные леса с нового дома... Вот вам и древесина для ящиков!..
– У тебя голова, э‑э, Димка! – хлопнул Бурцева по плечу Муслим. – Я всегда говорил...
– А железо должно быть, Георгий Минаевич, – встряхнул снабженца Бурцев. – Сами понимаете...
– Понимаю... – без обычной цветистости ответил Кахно. – Сделаю... Вино открыто, надо его допить...
Распахнув дверь, на пороге стал Ильяс.
– Победа, Дмитрий Сергеевич, так? – сверкнул он золотым зубом и, протянув руки, пошел к Бурцеву.
– Так, так... – передразнил Бурцев, привлек его к себе и хлопнул по спине. – Что отец, что сын... А победу трубить подождем. Боюсь, что ягодки-то еще впереди...
– Разжуем и косточки выплюнем!.. – засмеялся Ильяс. – Теперь я верю, так?..
Вслед за ним рассмеялись и остальные. Напряжение двух последних дней прорвалось приподнятым оживлением. Что ни говори, первый успех ободрял...
Ударил тугой влажный ветер, взъерошил, как перья голубя, листки настольного календаря, потянул сквозняком в открытую дверь. Духота, давившая в продолжение дня, разрядилась. Стало легче дышать...
– Будет гроза... – сказал Бурцев, подойдя к окну. – Пора, товарищи, по домам.
– Сейчас не страшно, – ответил Муслим. – Вот когда персик и урюк цветут, тогда плохо, э... Сейчас не страшно. В воскресенье виноград будем пробовать.
– Уже? – обернулся Бурцев. – Зеленый, наверно?
– Э-э, пробовать можно, – лукаво прищурился Муслим. – Ты скажи Эстезии Петровне...
Бурцев кивнул и, взяв его под руку, пошел к выходу.
На столбе у проходных ворот раскачивался фонарь. В такт ему, только в противоположные стороны, качалась вытянутая тень автомашины.
Открыв дверцу, высунулся Миша. Глаза его фосфорически сверкнули в густой тени.
– Поехали? – негромко спросил он.
– Давай. Развезем всех... – сказал Бурцев и обернулся.
– Э-э, поезжай, поезжай, – отмахнулся Муслим. Я сказал Хайри, что ночую в городе, с Ильясом. Доедем на трамвае, э...
– А вы, Георгий Минаевич? – спросил Бурцев.
– Спасибо. Пройдусь, как по Дерибасовской в шторм, – отказался Кахно и захлопнул за Бурцевым дверцу.
Крутился в машине, трепал волосы пахучий озонированный воздух. Бежала навстречу, ослепительно сверкая, белая центральная полоса на темном полотне асфальта. Вспыхнув, отставал донесшийся с затененного тротуара промытый девичий смех.
– Что, Миша, сможем мы сейчас поужинать где-нибудь? – наклонился к шоферу Бурцев и с веселым изумлением прибавил: – Впрочем, я еще и не обедал сегодня. Веду ненормальный образ жизни.
– В «Регину» можно... то есть в «Зеравшан»... – кивнул Миша и искоса взглянул на директора. – Жинку надо выписать... А так – недолго и с копыт долой...
– Вполне... – беспечно согласился Бурцев. Приподнятое настроение не покидало его, и этому как нельзя более способствовала оживленная атмосфера ночного города, сверкающего огнями под черным грозовым небом.
В ресторане было светло и шумно. Небольшой оркестр в убыстренном темпе убеждал: «Шагай вперед, мой караван...» Здесь тоже чувствовалось оживление, еще более подогретое вином. Громче звучали голоса, быстрее носились меж столиков официантки, ярче блестели глаза женщин...
– Может, и мы выпьем по одной? – спросил Бурцев, утолив первый голод и оглядываясь.
– Вы пейте, а мне нельзя... за рулем... – с заметным сожалением ответил Миша. – Зарок давал после одного случая.
– Ладно, шут с ним... Не стану ломать компании, – махнул рукой Бурцев и, откинувшись, закурил.
По проходу шла девушка-цветочница с корзинкой снежно-белых шаров бульденежа. Цветы, очевидно, были последние в году. Прозелень лепестков начинала переходить в желтизну, но шары еще держались, не опадали.
Заметив пристальный взгляд Бурцева, девушка подошла к нему. Бурцев с сомненьем покосился на Мишу и взял букет.
Долго собиравшаяся гроза ударила наконец первым оглушительным раскатом грома. Зазвенели бокалы на столах, вскрикнула женщина. Некоторые поспешили к выходу. Поднялся и Бурцев. Густая тьма еще в дверях ослепила, ударила ему в лицо мокрым жгутом ливня. Пока удалось добежать до машины, шелковая рубашка прилипла к спине.
Ветер, набравший силы, раскачивал стволы кленов, разбивал в пыль капли дождя. Недавнее веселое оживление улиц сменилось неопределенной тревогой. Как испуганные птицы, в косых потоках дождя мелькали сорванные со старых дубов небольшие ветви с распластанными листьями. Прохожие, укрываясь чем могли, бежали по тротуарам.
– Попали в переделку, – встряхнул мокрыми волосами Бурцев.
– Накликал Георгий Минаевич шторм, – ответил Миша и завел мотор.
Слепя светом фар, мчались навстречу мокрые автомашины, выбрасывая из-под колес радужные крылья воды. Тонким, почти неуловимым запахом снега наполняли кабинку влажные цветы.
– Эстезия Петровна любит их, – понимающе кивнул Миша.
Бурцев поморщился и не ответил. «Разнесет теперь по всему заводу, – подумал он. – Ну, и шут с ним!..»
Казалось, чем дальше, тем большую силу набирали и дождь и ветер. Выскочив из машины, Бурцев взбежал на крыльцо и торопливо сунул ключ в щель английского замка.
Сквозь прикрытую дверь Эстезии Петровны доносились звуки проигрывателя, поставленного на полную мощность. Бурцев откинул со лба мокрые волосы. «Следует, пожалуй, переодеться», – подумал он и прошел к себе. Включив свет, он положил на столик цветы, скинул рубашку, быстро растерся полотенцем. Свежая сорочка была накинута и расправлена, волосы причесаны, но, сам не понимая почему, он медлил и смотрел в окно. Непогода, вспарываемая мигающим светом молний, продолжала бушевать. Потоки дождя, словно мокрая тряпка, хлестали в окно. К стеклу прилип сорванный ветром лепесток тюльпана. Из комнаты лепесток казался почти черным.
И, сотрясая дом, гремела музыка – такая же бурная и страстно-напористая, как расходившиеся силы природы. Только теперь до сознания Бурцева стало доходить, что это – трагический до-минорный этюд Шопена. Этюд, который он много раз слышал, но вряд ли до сих пор понимал. Нет, это не буря бушевала в музыке, это рвалась и металась, вскидывалась и опадала человеческая душа. Сильная, страдающая, протестующая...
Бурцев вздрогнул. Он шагнул к двери, вернулся, прихватил цветы и вышел в коридор.
– Войдите!.. – не сразу откликнулась на его стук Эстезия Петровна. Музыка смолкла.
Бурцев вошел – и остановился: в комнате было темно.
– Разрешите включить свет? – спросил он.
– Да... – напряженно ответила Эстезия Петровна.
Она сидела в своей обычной позе в углу тахты и, когда Бурцев зажег свет, заслонила ладонью глаза. Она едва шелохнулась, но, казалось, вся подалась вперед в каком-то порыве и смотрела на Бурцева немигающим воспаленным взглядом.
– Едет?.. – произнесла она всего лишь одно слово сдавленным грудным голосом.
Бурцев, пряча за спиной цветы, отрицательно покачал толовой. Чувствуя, как начинают дрожать руки, он молча глядел на нее. Эстезия Петровна зябко запахнула халат и опустила веки. Тело ее заметно обмякло, словно его освободили от сковывающего корсета. По лицу ее разлилась едва заметная таинственная улыбка.
Она раскрыла глаза, и они лучились так же таинственно, как и неуловимое движенье губ.
Бурцев, неловко двигая ногами, подошел к ее рабочему столику и поставил в кувшинчик цветы. Несколько лепестков осыпалось на черноту пишущей машинки.
Эстезия Петровна тихо засмеялась.
Бурцев обернулся и встретил ее странно окрепший взгляд.
– Я все ждала – как вы это сделаете?.. – с вызывающей улыбкой сказала она и, снова прикрыв глаза, незаметно вздохнула. – Господи, какая респектабельная порядочность!.. Не много ли для какой-то секретарши?
Уловив протестующее движение Бурцева, она резко выпрямилась, и вся накопившаяся горечь дернула ее губы.
– Нет? Не так?.. Вы не хотели быть прежде всего свободным от прошлого?.. Не думали лишь о комфорте собственной совести?.. – Она перевела дыхание. – А где в это время была я? Кем я осталась? Не той же секретаршей, которая может и подождать благосклонного внимания, даже если решающее слово остается за третьим лицом? Нет?.. Ах, да... я забыла, что порядочные люди так не поступают... – Тяжело дыша, она помолчала и совсем издевательски докончила: – Что ж... быть может, вы и предложение собираетесь сделать?..
Бурцев молчал, ошеломленный этим вымученным цинизмом, сквозившим не в словах, а в тоне, которым они говорились, – и наливался густой краской. В самих-то словах была доля правды... Почему он скрытничал до сих пор? Разве не видел, не чувствовал, что творилось в ее душе? И вот, пожалуйте, явился... Пришел, уверенный, что его не оттолкнут...
– Да?.. Именно законный брак?.. – Эстезия Петровна продолжала пристально смотреть на него и задрожала мелким смехом. – Ой, не могу! – вскрикнула она вдруг и неудержимо расхохоталась.
Бурцев рванулся к двери, перемахнул в два шага коридор и заперся у себя. Он задыхался от стыда и бешенства.
Вскоре зашаркали по коридору ее шлепанцы.
– Дмитрий Сергеевич!.. – постучала она с дрожью непотухшего смеха в голосе. – Дмитрий Сергеевич!..
Бурцев не отвечал.
– Ди-ма!.. – протянула она наконец ласково. – Откройте...
Бурцев рывком распахнул дверь и втянул Эстезию Петровну в комнату.
– Ну, чего вы хотите? – заговорил он жарко, бессвязно, приблизив к ней лицо. – Я люблю вас!.. Я нравлюсь вам? Да или нет?..
– Да... – улыбнулась она.
– Хотите быть моей женой?
– Нет...
– Но почему?.. – застонал Бурцев. – Вы не любите меня?
– Люблю... – вздохнула Эстезия Петровна и отвернула лицо.
– Так в чем же дело? – допытывался Бурцев, стараясь заглянуть ей в лицо.
– Когда секретарша живет с директором, об этом говорят, но находят в порядке вещей, – с прежней язвительной усмешкой ответила Эстезия Петровна. – Но попробуй она выйти замуж – о‑го-го! Как тут загогочут все гуси!.. Не поздоровится и ей, и ему...
– Опять? – с упреком сказал Бурцев. – Вы просто циник...
– Но не ханжа!.. – отрезала Эстезия Петровна, раздувая тонкие ноздри.
– Но послушайте... – взмолился Бурцев. – Это же муть и чепуха!..
Она досадливо топнула ногой.
– Я не хочу за-муж!.. – раздельно сказала она. – И все!..
Отвернувшись к окну, она потрогала пальцем стекло в том месте, где прилип лепесток тюльпана.
Бурцев убито молчал. Он видел, что все его доводы разобьются об ее непонятное упрямство. Вот оно – «я люблю болтать ногами»!.. Он начинал злиться...
– А ливень перестал... – сказала вдруг Эстезия Петровна задумчивым голосом. – И небо прояснилось... Как скоро...
Бурцев глянул в окно. Голубоватый лунный свет падал на недостроенный дом.
– Скажите... Вам никогда не бывает страшно?.. – со сдержанной злостью произнес Бурцев. – Вот так... одной... без детей, без родных...
Эстезия Петровна медленно повернулась. В уголках ее беззащитно поднятых глаз выступали, не скатываясь, слезы.
– За что?.. – сказала она. – За что вы меня мучаете? Что я вам сделала дурного?
– Простите!.. – с мгновенным раскаяньем шагнул он к ней. – Простите!..
Он взял ее безвольно повисшие руки и целовал пальцы – один за другим... Оба молчали... Наконец Эстезия Петровна мягко высвободила руки.
– Спокойной ночи... – сказала она тихо. – Я пойду...