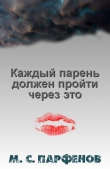Текст книги "Каменный город"
Автор книги: Р. Галимов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 26 страниц)
Проснулся Никритин сразу, как от толчка: накануне рано лег.
Взгляд уперся в незанавешенное окно с радужными от старости стеклами. Высоко-высоко в бледно-голубом утреннем небе застыли перистые облака. Легкие, белые, мечтательные.
Он нашарил на табурете измятую пачку, вытащил сигарету зубами, закинул руки под голову. Это было хорошо, что с дивана видно только небо да верхушки тополей. Хотя бы с утра не лезет в глаза густой обнаженный быт, безраздельно властвующий в скученном дворе. Но от звуков спасения не было: уже орал соседский мальчишка, понесший первую за день кару; кто-то неистово накачивал примус; лениво, словно по обязанности, потявкивала собачонка. За дверями дядиной комнаты приглушенно урчал приемник: передавали марши. Оттуда же наплывали запахи капустных пирогов.
Никритин раскурил закушенную сигарету, дунул на спичку, задумался. День предстоял волнительный – открывался съезд художников. Да и сейчас не избежать праздничного стола, а значит, и теткиной воркотни...
День печати – пятое мая – всегда отмечался особо в доме дяди, Афанасия Петровича, старого печатника и старейшего коллекционера первых советских газет. Собирал Афанасий Петрович все – и центральные, и периферийные издания. Пожалуй, ни у кого в городе не было более полного комплекта ленинской «Искры» и таких уникумов, как печатная стенгазета сочинского отделения КавРоста «Кавказская коммуна» за 1920 год. «Борись против Врангеля! – гласит наше евангелие». Этот лозунг был набран крупным шрифтом в номере от 23 августа, который Никритин подарил дяде в прошлом году. Нынче ему не удалось раздобыть ничего... Странно, какая сила заключалась в пожелтевших, осыпающихся листах бумаги. Словно пламя революции все еще не угасло в них, нет-нет, да пробежит синими огоньками по строчкам. История становилась чем-то живым – из плоти и крови – при взгляде на эти страницы. «Поучительно?» – вопрошал Афанасий Петрович, прочтя о давних кознях империализма, и вскидывал палец с твердым ногтем. Кто знает, что виделось при этом его старческим глазам?..
Никритин спустил ноги с дивана, подтянул трусы и сделал несколько приседаний – утреннюю зарядку. Качнулся перед глазами свежезагрунтованный подрамник на мольберте. Холст будто издевался над ним своей белизной. Никритин погрозил ему кулаком и пошел в угол, к жестяному рукомойнику типа «подай мне, боже», как выражался дядя.
Когда Никритин, постучавшись, вошел с подарками, Афанасий Петрович уже сидел за накрытым столом и, близоруко приблизив лицо к желтым листам, просматривал старую газету. Все-таки чем-то разжился!
Шевелились гладко выбритые морщины на сером, как у всех старых печатников, лице. Из выреза косоворотки тянулась петушиная стариковская шея.
– Что, маляр, встал? – вскинул глаза поверх очков Афанасий Петрович. – Ну-ну, не обижайся. По-немецки оно так и выходит – малер, художник. Вот, получай: Курт из Ляйпциха прислал... – он протянул книгу в целлофановой обертке.
С тех пор как Афанасий Петрович побывал в Лейпциге, в полиграфическом центре Германии, у него завязалась переписка с неким Куртом, который – шельмец! – здорово чешет по-русски. И с тех же пор Афанасий Петрович произносил название города не иначе как по-немецки: Ляйпцих.
– Видал? – вскинул он палец, кивая на книгу. – Петер Пауль Рубенс. Флемише гроссмалер. Фламандский, значит, большой маляр. Чувствуй! И... и получай, это больше тебя касается. А у меня тут вот...
Никритин взглянул на газету: «Известия», орган Центрального Комитета Коммунистической партии Туркестана и Центрального Исполнительного Комитета Советов Туркестанской республики. № 108. Пятница, 19 мая 1922 г. Цена отдельного номера 25 000 руб.».
Дальше шли заголовки:
«К борьбе с басмачеством».
О басмачах Никритин знал лишь по романам.
«К натурналоговой кампании».
Об этом – тоже читал, но помнил туманно.
«Генуэзская конференция».
Этого уж он совершенно не знал.
– Здорово! – сказал Никритин. – Особенно цена. Понятия не имел, что была такая газета.
– Цена! – вскинулся Афанасий Петрович. – Дурак!.. Ты здесь посмотри: приходилось милиции опровергать слухи, что человечиной торгуют! Вот: «В Ташкенте. Не верьте слухам!» Тут не цена, тут – дистанция!
Никритин снисходительно улыбнулся.
– Смеешься? – нарочито зловеще произнес Афанасий Петрович и кивнул на книгу: – А вон раскрой-ка да воззрись, как люди рисовали.
Афанасий Петрович сам нетерпеливо раскрыл книгу и ткнул пальцем в «Трех граций»:
– Вон какие бабы! В их телесах – идея, понятно? Они – что, они против церковников голосуют, против «греховности плоти»!
– Ну, дядя, – стал сердиться Никритин. – Нельзя же так прямолинейно понимать!
– «Прямолинейно, прямолинейно»! – передразнил Афанасий Петрович. – Прямая линия-то – она у тебя, а тут все круглое! – Он захохотал.
Вошла с блюдом пирогов тетка, Дарья Игнатьевна, тетя Дуся.
– Тьфу, бесстыжие! – воскликнула она, едва увидев рубенсовских красавиц. – Опять голых баб разглядываете?
– Ты, мать, не шуми, – хохотал Афанасий Петрович. – Тут не бабы, тут идея... И вообще – они же на тебя похожи.
– Свят, свят! – взмахнула руками Дарья Игнатьевна. – Ну, спасибо! Ну, удружил ради праздника!..
– Да постой ты! – вдруг посерьезнел Афанасий Петрович. – Вот пусть он скажет – почему его «Жизнь» голая? А? И почему такая худосочная, шкеледра форменная? А?..
У Никритина пошли пятнами скулы, вспыхнули уши. Уж эти уши!.. Еще в школе он страдал из-за них. «Лешка, можно от ушей прикурить?» Он стиснул зубы, сдержался, смолчал. Ударил дядя по неостывшему...
– Молчишь? – не унимался Афанасий Петрович. – То-то... И правильно, что не взяли. Я бы такую девку тоже не взял: ни родить, ни работать.
– Будет тебе! – махнула рукой Дарья Игнатьевна. – Расхорохорился! Небось припас сороковку-то... Ставь уж – пироги стынут.
– У тебя, мать, дальнозоркость, переходящая в бдительность.
Афанасий Петрович нагнулся, вытащил из-под стола бутылку «Столичной». Наполнил стопки. Поднял на лоб очки.
– Ну-с, с праздничком! Дело жизни, так сказать... – он не досказал, засмущался вдруг. За это и любил его Никритин. Что-то отцовское виделось ему в этой внезапно накатывающейся стеснительности.
Выпили. Крякнули. Придвинулись ближе к столу – к пирогам.
– М-м-м... Вкусно, – поднял голову Никритин.
– Знатно! – подтвердил Афанасий Петрович. – Знатно, мать.
Никритин зашуршал газетой, разворачивая подарки. Дяде – авторучка с золотым пером, тетке – ситцевый домашний халат.
Афанасий Петрович опустил очки на глаза.
– Ишь ты! Ни дать ни взять – «Паркер». Фитиль американцам!
Дарья Игнатьевна встала, накинула халат поверх платья. Крутнулась, оглядывая себя. Зарозовелась.
– Ты совсем как Толик. Любишь дарить... – напомнила она снова об отце.
Всплыло в памяти лицо – серое, осунувшееся, заросшее незнакомой рыжеватой бородкой. Колючее, с потерянными глазами: отлетавший свое пилот шел пехотинцем. Странное лицо, последнее. Потом был вокзал, заплечные мешки – как горбы, пыльные рассохшиеся вагоны. Сипло рыкнул гудок паровоза, пробежал вдоль состава перестук буферов: поезд ушел на фронт. И – все...
– Ну, еще по одной – и шабаш, – сказал Афанасий Петрович, поднимая стопку. – За твои успехи, племяш. Хотя, скажу, не радуешь. Ты мне дай такое, чтоб – как на походе марш, чтоб ноги сами ходили!
– Это уже прагматизм, дядя, – попробовал отшутиться Никритин, выпив и наклоняясь над пирогом. Спорить на эту тему сегодня не хотелось. Да и вообще – к чему споры? В них лишь разобьешь только-только выношенные хрупкие истины свои...
– Прагматизм, хе!.. – Очки вновь перекочевали на лоб. – Ты меня этим словом не стращай. Мы тоже читали философский словарь. Знаем, что это за слово!..
– Ну, поехали! – возмущенно колыхнулась Дарья Игнатьевна. – И все-то вы, Никритины, на одну колодку, у всякого свой конек!
– А без конька, тетя, нельзя: далеко не уедешь, – сказал Никритин, против воли втягиваясь в спор.
– А на твоем ковырянье – тоже! – вскинул палец с твердым прокуренным ногтем Афанасий Петрович. – Эти тонкости, подсознательности эти... Мистика души – во! – отчего они были! Оттого, что человек выхода к иному не находил. А ты чего ищешь?
Никритин отодвинул блюдо и взглянул на него:
– Себя!..
На это Афанасий Петрович не нашелся что ответить.
– Ну-ну... – сказал он и, перегнувшись через стул, достал газеты – старую и нынешнюю. – Вот прочти – и соразмерь. Говорю – дистанция! Может, поймешь... Масштаба у тебя нет, во!..
Масштабности! Слово наконец было произнесено.
«Но общими местами, так же как и благими намерениями, – подумал Никритин, – должно быть, ад вымощен».
Афанасий Петрович поднялся из-за стола:
– Ну-с, постановили считать себя сытыми.
– Не то не наелся? – всплеснула руками Дарья Игнатьевна.
– Шучу, мать, шучу...
– Ох, старик! Шутки-то у тебя больно неказистые.
Она обернулась к Никритину:
– К обеду, что ли, вернешься?
– Спасибо, тетя! – тоже поднялся с места Никритин. – Не знаю... Наверно, не вернусь. – Он выразительно глянул на тетку и вздернул плечами.
– Обиделся... Что же, так не жрамши и будешь штаны просиживать? – усмехнулся Афанасий Петрович, ничего не поняв.
Никритин не ответил. Как он мог сказать, что не внес денег за последний месяц?! Однажды, еще в самом начале пребывания у них, краснея и смущаясь, Никритин предложил тетке часть своего заработка. Та с серьезной ужимкой приняла это как должное. С тех пор и повелось... Но оба почему-то старательно скрывали все от Афанасия Петровича – как сообщники в некрасивом и стыдном деле.
– Разуй глаза! – бросил Афанасий Петрович, уже направляясь в переднюю. – Время-то какое, год-то какой! Эх!.. Все же человечество смотрит...
Сняв с вешалки одиноко висевшую кепку и рывком натянув ее на голову, он кивнул Никритину:
– Пошли?
По дороге – до троллейбусной остановки – и в вагонной толчее они молчали. Уже прощаясь – Никритину надо было ехать дальше: съезд открывался в Доме литераторов, – Афанасий Петрович подтолкнул его локтем и, округлив за очками глаза, сказал почему-то сдавленным шепотом:
– Не чуди! Держи хвост пистолетом!..
«Не чуди!..» Сам ты чудной старик!» – думал Никритин, поднимаясь по щербатым ступеням на второй этаж. Удивляло, что старик сохранил еще наивную и беспощадную прямолинейность двадцатых годов, словно временами падали на него отблески старых газет, с которыми он возился, – щемящих, хватающих за сердце соседством высочайшей мечты и неимоверных тягостей.
Да, чудной старик... И это хорошо, что чудной...
В узком длинном фойе было не протолкнуться. Медленно двигались, перемещались – спины, головы, плечи. И от этого движения празднично вспархивал свет, падающий сквозь цветные витражи поверх широких окон. Поскрипывал неплотно уложенный паркет.
Скользящим шагом подлетел, протиснулся Игорь Шаронов, друг не друг – приятель.
– Слушай, Леш... – глянув по сторонам белесыми глазами, он оттеснил Никритина к стене. – Слушай, есть заказ. Возьмем на пару?
– Какой? – рассеянно спросил Никритин, озираясь и кивая знакомым.
– Оформительский, – как-то суетливо зашептал Шаронов. – Так, портретики передовиков в одну краску, лозунги на кумаче, диаграммы... Ну как, идет? Огреть их можно – м-м-м!..
Никритин опустил взгляд, всмотрелся в старообразное лицо приятеля – возбужденное, выжидающее.
– Иди ты, знаешь... – тряхнул он плечом, скидывая его цепкую, обезьянью руку.
– Ну, так и знал! – по-мартышечьи сморщился, загримасничал Шаронов. – Пижон! Невинности его хотят лишить, первородства живописного. Как был, так и остался пижоном. Копировщик несчастный!..
В раскрывшиеся двери зала, как в воронки, хлынули люди – и Шаронов затерялся в общем потоке.
Все еще нервно кривя губы, Никритин уселся сзади, поближе к двери. Перешагнув через его ноги, рядом уселся Афзал – однокашник-суриковец.
– Где пропадал? – негромко спросил он. – Мамашка даже спрашивала... Пишешь что-нибудь?
– Так, ерунда... – покосился Никритин на его серьезное лицо, непривычно белое для узбека, с черными писаными бровями.
– Приходи, покажу кое-что, – поерзал Афзал, устраиваясь удобней. – Плов сделаем, попишем вместе... Сам знаешь, моя мастерская – айван, настоящий пленер.
Зазвенел в президиуме колокольчик, зал понемногу стих. Съезд вступал пока что на привычный путь.
Вступительное слово председательствующего. Оглашение приветственных телеграмм. Доклад...
Все – солидно, скучновато, дремотно.
Никритин вычерчивал, слушая вполуха докладчика, замысловатый орнамент в блокноте, специально изданном к съезду. Наконец он поднял голову, оглянулся. Впереди наискосок возвышалась на прямой массивной шее откинутая голова Скурлатова – шефа, наставника. Густая коричневая шевелюра с редкими взблесками седины.
«Подойти в перерыве? А стоит ли...» Вспоминался последний разговор с ним...
Это случилось на другой день после обсуждения «Жизни». Скурлатова почему-то не было в комиссии, и Никритин понес картину к нему домой.
Знакомая дверь, обитая черной запыленной клеенкой. Медная табличка с именем хозяина, от которой веяло чем-то старомодным. Кнопка звонка.
Открыла дверь Инна Сергеевна – в пестром застиранном платье, покрытая платком, собранным в узел на лбу. Видимо, затеяла уборку...
– О-о-о, Алеша!.. – пропела она. – Здравствуйте, милый! Заходите. – Она прикрыла дверь и обернулась: – Принесли что-то новое?
– Покойницу... – усмехнулся Никритин.
– Ну-ну, не так мрачно! – тронула его за локоть Инна Сергеевна. – Идите, он в кабинете. Я приду к вам посмотреть.
Иван Матвеевич полулежал на диване, запахнувшись махровым халатом, и, попыхивая трубкой, читал.
Подняв глаза на Никритина, он отложил книгу. «Дидро, «Салоны», – прочел на обложке Никритин.
– Видишь, приболел немножко, – ткнул мундштуком трубки в перевязанное горло Скурлатов. – Ну, показывай, что скрывал от меня... Обсудили вчера?
– Осудили... – поиронизировал Никритин, развернув картину и устанавливая ее на стуле.
Скурлатов поднялся с дивана, пыхнул трубкой, сощурился сквозь дым. Долго молчал, склонив голову и разглядывая холст.
...Очень юная обнаженная девушка вполоборота к зрителю. Вступила в воду – и запрокинула голову, вскинула в восторженном порыве руки к оранжевому диску солнца, просвечивающему через тонкое облачко. Краски напряженно-насыщенные, локальные: ультрамариновая вода, пронзительная зелень листвы, берлинская лазурь неба. На переднем плане – полоска ярко-палевого песка с четкими фиолетовыми тенями... Все нарядно, мажорно, несколько условно.
Скурлатов снова пыхнул трубкой и, не глядя на Никритина, спросил:
– Как ты это назвал?
– «Жизнь», – вяло ответил Никритин: он уже заметил, как неодобрительно шевелятся мохнатые брови шефа.
– Мда... умствуешь... – по-прежнему не глядя на Никритина, проворчал Скурлатов. – Только что прочел вот в этой книжице о некоторых... которые, чрезмерно соображая, ничего не понимают...
Яростно насасывая потухшую всхлипывающую трубку, он принялся ходить по ковру – вдоль полочек с коллекцией терракотовых статуэток.
Остановился, взял вакханку с закинутым над головой тирсом, посмотрел на нее. Поставил на место.
– Ты меня прости... – взглянул он наконец на Никритина. – Но ведь это нисколько не лучше того, что ты якобы презираешь. Ни работ наших парадных мастеров, ни даже старых академистов. Да, да! Несмотря на все ухищрения колорита и примитив в рисунке!.. Старики писали с манекенов. А у тебя что – живая плоть?..
Никритин молчал, уперев взгляд в книжные стеллажи, занимающие всю стену кабинета.
– Как ты считаешь, она живая? – обратился Скурлатов к жене, прислонившейся к двери. Никритин не заметил, когда она вошла.
Инна Сергеевна не ответила: она смотрела на картину.
– Возьмем наших парадных... – вновь зашагал по ковру Скурлатов. – Скажем, Тоидзе... У него ведь стилизация под старую грузинскую миниатюру. У него – свое!
– Ну, напишу десяток холстов – тоже будет мое! – перебил Никритин, исподлобья взглянув на шефа.
– Нет, нет и нет! – выкинул руку с зажатой трубкой Скурлатов. – Версификаторство не может стать своим! У тебя по-своему подана не живая действительность, а по-своему подан Гоген. Экзотика жарких поясов, манера подачи – все от него! Но ведь то – француз видит. И по-своему видит. А ты же русский человек, ты не можешь смотреть глазами француза. Кроме того, ты ведь не наезжий турист. Сколько воды из Анхора попил, сколько риса да узбекского маша съел – на этом вырос! Откуда же сие?..
Никритин молчал, чувствуя, как начинают гореть эти проклятые уши. Особенно смущало то, что Инна Сергеевна слышала, как его отчитывают. И молчала, переводя взгляд с одного на другого. Никритина начинал раздражать апломб шефа. «Завелся! – думал он зло. – Любишь поговорить!»
Скурлатов остановился перед картиной, пососал давно потухшую трубку.
– Стыдно! – метнул он взгляд на Никритина. – Девчонке, по-моему, шестнадцати нет, а ты ее обнажил. На нее же жалко смотреть!
– Ну, знаете!.. – всплыл наконец и Никритин. – С этого бы и начинали!.. Хотя и на том спасибо. Ведь в комиссии все крутились вокруг да около.
– Ваня, Ваня! – протянула руку Инна Сергеевна. – В этом ты, по-моему, не прав. Не уподобляйся ханжам...
Скурлатов резко обернулся к ней, пригнул голову.
– Инна, я тебя прошу... оставь нас, – сказал он, сдерживая гнев.
Инна Сергеевна виновато улыбнулась Никритину и вышла, тихо прикрыв дверь.
Скурлатов, подойдя к письменному столу, набил свою трубку, вновь задымил. Когда он обернулся, лицо его как-то посерело, стало скучным, разительно непохожим на автопортрет – единственное полотно в кабинете.
– Ну скажи... – он зябко запахнул халат, взглянул из-под бровей. – Что ты ходишь ко мне, чего ты от меня хочешь? Чтоб я тебе дал какое-то откровение, взял и показал тебе твой путь? Ведь ты же вышел из возраста, когда надо водить твоей рукой. Если хочешь совета, скажу вот что: выслушивай всех, прислушивайся к некоторым, а слушайся только себя... Да, себя... Родить можно только свое дитя.
...Никритин поднял глаза на трибуну, – содокладчик замешкался, переворачивая страницу. В тишине слышался шелест бумаги. Никритин пригнулся и, ступая на носках, вышел в фойе.
Он подошел к сатирической стенгазете съезда. И здесь не обошли «Жизнь»... Карикатуру назвали «Житуха»... С каким-то тянущим чувством неловкости за автора Никритин смотрел на рисунок, воспроизводивший композицию его картины.
Нелепая тощая фигура с головой Никритина протягивала руки к блину, на котором было написано «Гоген».
Это-то более всего и злило. Гоген!.. Если уж на то пошло, он и знал-то Гогена недостаточно. Что ж, выходит, пытался открыть открытое? Да кроме того, сама по себе подобная ссылка так далеко отбрасывала от современности, что всякого бы передернуло.
Никритин помедлил и направился к выходу.
Он бродил по улицам, еще сохраняющим следы первомайского убранства: лозунги, портреты, транспаранты. Всюду рдел на солнце кумач, солнечно-яркий на фоне молодой, незапыленной листвы.
Наконец он выбрался к скверу Революции, прошел по аллее, посыпанной красной кирпичной крошкой, остановился, глядя на бронзовый монумент Сталина. Смотрел долго, неотрывно.
«Да, отпечаталась твоя тяжелая десница в сердцах людей!.. – как-то печально-торжественно подумал он. – Что же делать мне, коль не приспособлен я к официальности, к парадности?..»
Тяжело, нехорошо стало на душе. Слишком многое сплелось с этим именем.
...В первый раз в Москве. С отцом-летчиком. И в какой день! Москва встречает героев перелета через Северный полюс в Америку – Чкалова, Байдукова, Белякова. Славят героев, славят – Его. Самым крупным шрифтом – Его имя. Листовки, листовки – откуда-то с неба! Листовки, падающие как снег... Когда тебе девять лет – сердце готово выпрыгнуть из груди!
...Война. Отец ушел на фронт. С поразившей рыжеватой бородой. Воспитанники ремесленного училища пишут письмо в Москву. Пишут в огороженном фанерой красном уголке, при свете голой лампочки, свисающей на шнуре – черном, засиженном мухами. «...Заверяем Вас, что заменим отцов на трудовом фронте». И – детская вера в Него...
...Последнее прощанье. Траурный митинг в Суриковском. Зареванные девчонки; парни, какие-то повзрослевшие, с ушедшими в себя глазами.
...И вот слова – беспощадно-правдивые и потому режущие по живому: культ личности!.. Как милы, успокоительны для сердца иных старые каноны, парадно-безличные полотна. Благолепие...
Никритин поднял голову к солнцу, сощурился. Пошел по аллее сквозь прохладную пятнистую тень, вдавливая каблуки в кирпичную крошку. Шел, прислушиваясь к плотному крупитчатому скрипу...
На вечернее заседание он опоздал – прения уже начались. И вновь рядом сопел и волновался Афзал.
Похоже было, что страсти накалились. Это как-то сразу почувствовалось.
– Молчи, ишак, за лошадь сойдешь! – почти в голос бросил Афзал, глядя на трибуну.
Там кто-то незнакомый суматошливо жаловался, что «не может расти», поскольку старики ему не помогают, и называл известные имена, едва не срываясь на ругательства.
Зал шумел. Слышались возмущенные реплики, смешки.
– Обрадовался! – кипятился Афзал. – Поскандалить можно...
– А кто это? – безразлично спросил Никритин.
– А! Бестолочь! – покосоротился Афзал. – Сам ничего не может... Кто ему слово дал?
К трибуне вышел Барсов-младший, сын «старого Барса», только что вернувшийся с ленинградской дискуссии о состоянии современного изобразительного искусства. Говорил он, как всегда, горячо, темпераментно, наэлектризованный атмосферой больших споров. И его слушали: интересно!
Вначале он обрушился на докладчика. «После XX съезда мы не имеем права мямлить!» Далее рассказал о художниках, получивших наконец заслуженное признание, – о Чуйкове, Пластове, Сарьяне.
– Отмечалось, что эти художники не могут писать того, что не идейно... Они мыслят художественными образами, эти образы, собственно, и создают содержание, создают идею... Они пишут то, чего не могут не писать, а не то, что ходовое, выигрышное по теме.
Много и как-то влюбленно он цитировал известного режиссера и художника Акимова, также принимавшего участие в дискуссии. Привел его слова:
«... есть люди, которые думают, что пакости надо делать громко, а исправлять их тихо...»
Это Никритин записал в свой блокнот. Мотнув головой, отбросил свисшие на лоб волосы, облокотился о передний стул.
Где-то впереди мелькнула, выскочила физиономия Шаронова. Никритин взглянул на шефа. Тот сидел неподвижно, по-прежнему откинув голову.
А Волик Барсов продолжал:
– Много говорили о трудоустройстве художников. Возьмем, товарищи, вопрос о мастерских, о создании копий и портретов. Вот портреты такого рода здесь висят. Художники в массовом количестве производят эти портреты, ухитряясь в сутки их два-три делать, и в массовом количестве потребляет их советский зритель. Но кто от этого выигрывает? Художники деквалифицируются, зритель портит вкус, а государство тратит колоссальные средства...
Ведь, по-моему, даже нехорошо, когда с фотографии копируют. Это ведь тоже пережитки культа личности, когда старались гладенько сделать, чтобы было приятное лицо. Зачем это? Мы хотим видеть наших руководителей такими, как они есть, – настоящими, мудрыми и сильными.
В зале захлопали. Дружно и сильно.
– Правильно о мастерских, как считаешь? – Афзал покосил темными, без блеска глазами.
Никритин дернул плечом:
– Что же, закрыть – и землю над тем местом распахать?
– Зачем? Можно же... – начал было Афзал, но махнул рукой и вновь уставился на трибуну. – Ладно, потом...
Барсов перешел уже к понятию о национальном своеобразии в живописи. Говорил о злоключениях некоторых художников, посвятивших себя развитию национальных традиций в искусстве.
– Как правило, их били по голове и отталкивали этим молодых художников, и молодежь не пошла на то, чтобы изучать народное творчество. А без этого – какие же традиции? Пройдитесь по нашей небольшой выставке, которую наскребли к съезду. Глядя на многие работы, трудно сказать, где они написаны. Если изображен Ташкент или какой-то совхоз – еще можно. А большинство работ написано так, как можно написать в любой республике Союза. И прав был содокладчик, когда говорил о том, какой вред нанесли многие критики, запутав вопрос о национальном своеобразии нашего искусства, когда говорил, что чуть не выплеснули ребенка вместе с водой. Выплеснули, – и не одного ребенка выплеснули!..
Зал отозвался смехом, скрипом передвигаемых стульев.
А Никритину почему-то представился старый Барсов, каким его видел в последний раз.
Старик сидел в саду, укутанный клетчатым пледом, – желтое с черным. Длинные костяшки рук – на подлокотнике плетеного кресла. Лицо – зеленое от просвеченной солнцем листвы. Помаргивал за толстыми стеклами очков, покашливал.
– Что, пришли навестить старую сову?
Угасающий автор «Сбора помидоров» – красно-оранжевой оргии красок. Битый-перебитый певец азиатского солнца...
Никритин с застывшим лицом глядел, как Барсов-младший, закончив выступление, собирает свои бумаги. Ему долго аплодировали. Хлопал и Никритин, хотя недолюбливал этого говоруна, – пусть и способного, но еще не определившегося живописца. Кто-то едко заметил о нем, что он не свободен от культа личности «семьи Барсовых». Никритину казалось, что в этом была доля истины.
Сменялись ораторы, высказывая много верного и спорного, выступая то гладко, то разбросанно. Скользили по сознанию отдельные меткие мысли. Иное слово взблескивало, как монетка сухой рыбьей чешуи в гонимом ветром крутящемся вихре. Кое-что Никритин записал в блокнот.
Нескладица многих речей компенсировалась порой запальчивостью. Говорили искренне, о наболевшем. Но... все больше – о частностях, о деталях быта и труда художников.
Атмосфера горячности лишь увеличивала внутреннее беспокойство Никритина. Он чувствовал себя вне этого потока.
Сменялись обтянутые, невозмутимые стенографистки на немыслимо высоких каблуках. Сменялись ораторы.
Угнетало что-то похожее на разочарование. Никритин сам не мог понять – чего же все-таки ждал от съезда? Каких-то откровений, разрешения своих творческих проблем?
Со стыдом он вспоминал чепуху, которую нагородил Кадминой. Ссылался на какие-то внешние причины. «Надо зарабатывать!» Это же скулеж, пакость! Вон скулит один с трибуны... Нечего кивать в сторону, когда все беды сидят в себе самом!..
Нарушились какие-то контакты, какие-то связи с окружающим – вот в чем дело! Он переставал понимать самого себя, понимать других. Впору руки опустить!..
Однажды Скурлатов издевательски назвал подобное состояние «мухи творчества». Что ж, для него это, может быть, и мухи. Но попробуй отмахнись!..
Хотелось уйти – и было страшно остаться одному. Досидел до конца вечернего заседания.
Выйдя в фойе вместе с Афзалом, Никритин отошел к кадке, из которой змеилось чахлое непонятное растеньице, кинул в рот дешевую плоскую сигарету и закурил, пригнув голову к спичке. С заранее закипающим раздражением он готовился отбить наскоки Афзала. Он знал упорство своего друга, его «настырность».
– Хорошо! Я – дурак, ты – умный... – свел и без того сросшиеся брови Афзал. – Почему не выступишь? Почему не скажешь, что могли бы бросить копии, перейти на оригинальные работы?
– Нет, ты в самом деле дурак! – засмеялся вдруг Никритин. – Да и я не умный, что собираюсь спорить с тобой. Скажи мне, кто же будет выполнять финансовый план мастерских? Что, Худфонд даром будет тебя содержать, пока ты возишься со своей оригинальной вещью? Нашел меценатов!.. Да и не только это... Скажи, много ты продал своих вещей в Салоне? Насколько помню, один натюрморт с персиками. А почему? Потому что там покупают частные лица, за наличные денежки. У нас же, в мастерских, – безналичный расчет: для предприятий, клубов и те де и те пе... Понятно, реформатор?
– Хорошо... – Афзал потрогал землю в кадке, размял комочек. – По-твоему, ничего нельзя сделать?
– Я этого не говорил, – ответил Никритин, глядя на расплывающееся колечко дыма. – Что-то, конечно, можно сделать... Надо, чтоб у хозяйственников развился вкус. Тогда не будут брать халтуру. Это, сам понимаешь, тяжелый путь. Но можно и самим не идти у них на поводу. Отбирать для копий что получше и еще более расширить производство. Чтоб цены стали доступны рядовому покупателю, чтоб не тащили домой этих базарных лебедей на клеенке!.. Можно, все, конечно, можно... Но вот тебе пример: у писателя юбилей. Сроку осталось – неделя. Бегут с фотографией: быстро, быстро, нужен портрет!.. Вон он, полюбуйся... – Никритин кивнул в конец фойе, где на стене висел громадный, наспех намалеванный портрет писателя.
Афзал отряхнул руки, поднял голову.
К ним подходил Скурлатов, ведя под руку добрейшего Юлдаша Азизхановича, который начал преподавать на художественном факультете, недавно открытом при Институте театрального искусства. Рядом со Скурлатовым он казался особенно низеньким и круглым. Ласково кивая бритой до лоска розовой головой, Юлдаш Азизханович подал руку – мягкую, обволакивающую.
Никритин невольно улыбнулся.
– Все еще спорим? – Скурлатов повел глазами с Никритина на Афзала. – Прошу, друзья, ко мне. На чашку чая, так сказать... Инна Сергеевна ждет.
Снова откуда-то вывернулся, гримасничая как мартышка, Шаронов, стрельнул глазами и присоединился к ним.