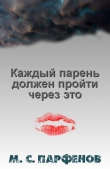Текст книги "Каменный город"
Автор книги: Р. Галимов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 26 страниц)
– По-твоему, я бездельник? – обернулся к нему Никритин.
– Я этого не говорил, – спокойно возразил Фархад, покручивая в губах сигарету. – Но тебя, по-моему, как-то еще не захватила работа, не всосала целиком, без остатка...
Никритин поднял голову, взглянул на небо. Из-за крыши, словно серая заслонка, выдвинулись тучи. Высокие, снеговые... Закат сузился. Истончался, замерзая, зеленой полоской.
– Мне кажется... – сказал он. – Мне кажется, ты говоришь все это просто для успокоения моей и своей совести.
– Помолимся богу нашему Фрейду и пророку его «комплексу неполноценности»! – иронически воздел руки Фархад. – Ты бы хоть прочел какой-либо талмуд своего бога!
– Пошел ты к черту! – возразил Никритин. – Вместе со своим Фрейдом!
– О! – невозмутимо вскинул палец Фархад. – Вот это уже настоящая человеческая речь! Могу засвидетельствовать как врач. Категорический императив, без психоанализа...
Никритин вскочил с места, яростно глянул на смеющегося Фархада и ушел в комнату.
Тьма шла кругами в глазах, лишь окно еще льдисто удерживало свет угасающего неба. Никритин щелкнул выключателем, бросился на свой диван. Подоткнув за спину подушку, он свесил на пол ноги.
Позвал, поскребся в дверь Афзал.
Слушали арабскую музыку, молчали.
Уже совсе стемнело, когда пришла Кадмина.
По комнате распространился запах свежести и снега.
Афзал легко поднялся с места и, улыбнувшись ей, вышел.
Радио снова передавало последние известия: шли повсюду митинги, выступали желающие поехать добровольцами в Египет – туда, где дымился передний край судеб человеческих. Голос диктора звучал широко и патетически.
Никритин все еще полулежал на диване и смотрел в лицо Кадминой – замкнутое, сглаженное отчуждением. Место ушедшего Афзала зияло пустотой неловкости. Чем ее заполнить? Что спросить?
Никритин терялся...
– Вот подхватили твою идею... – повел он наконец глазами на приемник.
Тата подошла к железной печурке – накаленной, с розово рдеющим боком. Потрогала круглую трубу, пропущенную в окно. Обернулась.
– А я вышла из дома – небо желтое-желтое. Твое, стронциевое, небо. Но чтобы это было страшно... Нет... только грустно...
– А мне не страшно, – приподнялся на локте Никритин. – Просто зло берет, что не могу ничего сделать. Лично. Своими кулаками. Тоже крушить, бить по глупым и преступным башкам.
– Ну зачем, зачем ты хочешь расхристаться больше других? – притопнула ногой Тата и вдруг всхлипнула, опустилась рядом с ним на диван. – Боже мой, боже мой... О чем мы говорим!..
Никритин подхватил ее за плечи, повернул лицом к себе.
– Тата, Тата, что с тобой? – Он целовал ее мокрые ресницы, заглядывал в дышащие зрачки. – Что случилось, говори же!
– Уж лучше сразу... – отстранилась, знакомо вздернула она подбородок. – Я ведь прощаться пришла, Алеша...
Мелькнула сумасшедшая мысль: «Неужто в Египет?.. Да нет, никто же еще не едет! Что же тогда выдумала, куда ее несет? Но... назвала непривычно... и дергает подбородком – значит, серьезно». Никритин выжидающе молчал.
Она привалилась к нему, расстегнула рубашку, положила руку ему на грудь. От волос ее горьковато пахло орехами.
– На работу я решила ехать, Лекса, – сказала она, не поднимая головы. – В Кызылкумы...
Никритин не шелохнулся, лишь медленно перебирал пальцами ее волосы.
– А обо мне ты подумала? – спросил он наконец. – Не время бы нам разлучаться.
– О чем я не думала... – вздохнула она и разогнулась. – Знаю, что скажешь... Жить лишь для себя и только собой – самая проигрышная политика. Но разве это только для меня? Ведь тебе со мной не лучше. Во всяком случае сейчас... Я же вижу – тону и тебя тащу за собой...
– Ну, знаешь... – протестующе сказал Никритин и резко приподнялся.
– Не спорь! – Она опрокинула его обратно и заговорила – теперь легко и убежденно: – Тебе твоя мужская щепетильность – есть это у вас, у мужчин, – не позволяет сказать, что ты тяготишься мной. Ладно, пусть не совсем так... – снова она удержала его. – Но надо нам побыть врозь, поработать. Понимаешь, по‑ра‑бо‑тать!..
Никритин отвернул голову, смотрел на подмигивающий зеленый глазок приемника.
Тата повела глазами. Окно... Шершавые стены с остьями самана на густой извести побелки... Потолочные балки – тяжелые, прокопченные, – и между ними поперечные планки – словно ряды клавиш... Старый узбекский дом... Летом, когда заходила с Афзалом, в этой комнате пахло нежилым. Отсыревшей глиной и копотью...
– Здесь мы собирались жить... – сказала она, будто продолжала свои мысли.
Никритин щурился от дыма. И казалось – она отдаляется, теряет очертания, уходит.
– Когда вернешься? – спросил он, помедлив.
– Не знаю... – Тата повела плечом. – Не говорю – жди. Зачем обманывать и самой обманываться? Потом, может, напишу... Ведь как-то я люблю тебя, Лексу несуразную...
Она стряхнула на пол канадку, потянула через голову свитер. В комнате было жарко. Давно растаял снег, принесенный ею на башмаках. Въедливо и скользко пахло ореховым маслом.
– Открыть окно? – спросил Никритин.
– Не надо... – Она дернула застежку «молнию» на боку своих брюк. – Где у тебя выключатель?
В комнату вкатилась темнота – легкая, ватная, серебряная. За окном сыпался снег...
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ГЛАВА ВОСЬМАЯДва мольберта стояли рядом на айване.
Не по-зимнему расщедрилось солнце. Все пространство айвана, казалось, заполнял не воздух, а тысячи толкущихся мыльных пузырей – радужных, переливчатых.
Солнце давило на глаза, насыпало в них свою охру. Выжигало слезы.
Никритин сидел на приступке, откинувшись к стене, и щурился, смотрел на Афзала. Тот дописывал свою картину – портрет отца.
Портрет был хорош. Коричневое лицо старика в крупных морщинах, с подстриженной голубовато-седой бородкой. Маслины глаз, по-стариковски дальнозорких и удивительно молодых. Узловатые пальцы рук – покоящихся, расслабленных. Много поработавшие руки, говорящие руки!..
Портрет был хорош. Это Султанходжа Бинафша в нынешнем своем обличье. Народный певец, хафиз. Но сквозь нынешнее неуловимо проступало прошлое: отполированная до костяной гладкости и желтизны рукоять кетменя; взрыхленная пахучая земля, продавливающаяся под ногами; колеблющиеся в глазах отблески арыка цвета дамасской стали; круглая, как бубен, луна; синий свет, стекающий по грифу дутара; ночная песня – долгая, как полет до Луны...
Портрет был хорош. Но не ладилось с фоном. Афзал нерасчетливо взялся писать отца на фоне узбекского ковра. И этот промах сказывался все больше. Ярко-красные тона, преобладавшие в ковре, вошли в противоречие с палитрой Афзала. Они кричали – и съедали свет. Полотно выглядело плоскостным, в нем не хватало глубины, воздуха.
Поколебавшись, Афзал решительно отказался от парадного фона и теперь вновь колдовал над своей палитрой, перебирая различные гаммы голубого и синего, с примесью фиолетового.
Портрет начал обретать тот вид, каким и должно быть полотно Афзала. Его ни с кем не спутаешь. Общий колорит – голубоватый. Излюбленный цвет узбеков. Краски – спокойные. Воздух – сдержанно насыщен солнцем...
И солнце-то он видит по-своему! Для него – это обычное солнце, а не то южное, интенсивное, которое поражает северян колючей яркостью. Относительность восприятия наглядно проступала в его полотнах. Никритину порой представлялось, что Афзал уже подступает к тому, чтобы передать дух своего народа, национальное своеобразие взгляда на мир. Это было бы крупно, это было бы значительно – стать настоящим художником народа, не имевшего до революции живописи. Рисунок – грех! – твердили века. Не рисуй, коль не можешь вдохнуть душу в свои творенья!.. Правда, Афзал начинал уже не на пустом месте и, может быть, поэтому избежал умозрительного стилизаторства тридцатых годов. С какой-то уверенной настойчивостью он шел своим путем. Была в нем эта основательность, не мешавшая оставаться мечтателем...
Со времени переезда Никритин чувствовал себя странно. Иной ритм жизни, иной мир – спокойный, ясный, уверенный. Мир, занятый своим делом и верящий в необходимость и правоту этого дела. Суета сует? В голову бы никому не пришла здесь эта удобная формула для оправдания внутренней лени и душевной растерянности. Времени не нашлось бы для подобного!..
Ежедневные пикировки с Фархадом, обволакивающая мягкость Афзала... Даже отъезд Таты воспринимался в этой атмосфере затушеванно. Не вынести бы в одиночку!..
Никритин раздумчиво повел жесткой щетиной кисти, смазал краски, выдавленные на палитру в порядке хроматической гаммы. Нет, сегодня не работалось...
Он вздохнул и откинул голову. Что за день однако! Не смотрел бы на двор!.. Он не любил таких ярких зимних дней, когда с крыши пунктиром сыплется капель. В такие дни слишком назойливо лезет в глаза вся неприбранность окружающего. Мусор, куча полусгнившей листвы, грязное ведро. На стволах яблонь – бурая размокшая солома. Все бесстыдно прет на передний край.
Он смотрел на небо поверх крыш – белесое и твердое. Лишь оно оставалось зимним, не подтаяло. Падали в мокрую лунку под желобом крупные капли...
Никритин встал и направился в комнату.
– Принести чаю? – спросил он.
– Нет, – ответил Афзал не оборачиваясь. Он размешивал краски. – Нет, не надо...
В комнате тоже клубилось солнце. Клубилось, будто в тесной клетке. Как тут жили втроем – с отцом и матерью? Не поймешь... Тесноты не было. Жили. При свете пятилинейной керосиновой лампы. Помнится, однажды принес с базара дюжину дефицитных стеклянных пузырей, нанизанных на плетеную соломенную петлю. Лет восемь, наверно, было... Жили. Пока отец не получил ведомственную квартиру. Года два прожили, а кажется – целую вечность. Целое детство. Общее с Афзалом...
Никритин окинул взглядом комнату, пригладил обеими руками волосы. Медлил, словно хотел отдалить какое-то мгновение. Не выдержал, шагнул к стене.
Он стоял перед портретом Таты. Смотрел, мял губы. «Ты – в ветре, веткой пробующем: не время ль птицам петь...»
Как давно он не брался за кисть!.. Мастерская не в счет... Перерыв в работе – и появляется боязнь холста и красок. Как закон. Как рок, требующий жертв ежедневных, труда постоянного... Как мог он забыть об этом? «Не замедляй, художник, вдвое заплатишь ты за миг один... чувствительного промедленья...»
Никритин опустил голову. Сердце набрякло, словно в нем лежал булыжник.
Он пощелкал зажигалкой. Подкинул ее на ладони. Сунул в карман.
Зажигалка. Подарок Таты. Ладно... ноумид – шайтон...
В комнате тонко звенела пустота. Долго тут не высидишь. Особенно в такой день – тридцать первого декабря. Что-то отмирает, уходит в невозвратное. Что-то нарождается – неизвестное, обещающее. И это – для всех одинаково. И хочется быть со всеми. На людях...
Никритин оделся, пригладил плотнее берет и вышел.
– Ты куда? – удивился Афзал.
«Характерец! Работает...»
– Так... Пройдусь... – неопределенно махнул рукой Никритин.
Переулок был завален снегом, скинутым с крыш. Кто-то невидимый все еще сбрасывал его – лопату за лопатой. Распадаясь в воздухе на отдельные комки, снег весомо хлюпался в сугроб. Ширкала по крыше деревянная лопата.
Белое веселье и синие тени. Дистиллированный воздух. Крупитчатый скрип шагов. Кто скажет, что это юг?
Никритин закурил. Спичка зашипела в снегу, вспорхнул над нею дымок сиреневый – шнурочком. Никритин морщил лоб и смотрел на истаивающий дымок. Сунул руку в карман. Сама скользнула в ладонь маслянисто-гладкая зажигалка. Гм, забыл!.. Он постоял и выбросил в снег коробок спичек. Высоко поднимая ноги, он двинулся через сугроб.
Кончается год... Кончается...
Прошел ли он стороной? Или коснулся тебя, что-то оставил в тебе? Вроде бы и жилось растрепанно, и работалось впустую. Сплошные срывы и неудачи. И однако... невозможно начисто выпасть из потока жизни. Обкатывает поток, влечет, день за днем, неприметно, наслаивает в сознании осадок опыта. Желающего – судьбы ведут, нежелающего – тащат, – еще римляне знали это.
Нельзя, невозможно выпасть из потока времени!..
А время в последние месяцы года сжалось, как под створками пресса, накалилось до предела. Казалось, жар его опалил и осуровил лица сограждан, заставил их плотнее льнуть друг к другу – в очередях ли у газетных киосков, под уличным ли репродуктором. Люди стали общительней, люди стали зорче и строже.
Кончается год...
Кажется, никогда не нависала так зримо, так близко грибообразная опасность. Опасность всеобщего истребления.
Но шагнули и через это. Пережили и Венгрию, и Египет.
Жизнь продолжалась.
Огромная.
Логически-неизбежная.
Жизнь...
Никритин наподдал ногой крупную сосульку, лежавшую на тротуаре.
«И все-таки «Жизнь», – он имел в виду свою картину, – это не плохо! Говорите, что хотите...»
Ему вдруг стало весело. На углу переминался, переступал с ноги на ногу продавец детских шаров. Зеленые, малиновые, они терлись, колыхались в связке – легкие, прозрачные шары.
Никритин остановился. Выбрал самый большой – малиновый. Расплатился. Намотал на палец бечевку.
В центре было людно, празднично, суетливо. Город оставался тем же и чуточку был иным. Ни флагов, ни лозунгов, ни транспарантов – а всюду праздник, праздник! Радость. Веселье. Нервная приподнятость. Торопились короткими шажками женщины с коробками тортов. Шествовали мужчины с авоськами, из которых многоствольными минометами выглядывали бутылки. Возвышалась, как не совсем прибранная невеста, елка на Театральной площади.
На тротуарах теневой стороны еще лежал снег и пахло зимой. А асфальт!.. Он уже превратился в бурое месиво под колесами машин. Пересекали его бегом, спасаясь от грязных ошметков.
Никритин вдохнул подсолнечный воздух, повернул назад. Хотелось есть. Он пошел по Дзержинской. Сухо терся о щеку шар. Здесь, на узкой улице, солнца почти не было. Оно отчеркивало желтым лишь карнизы. Копошилась на тротуарах ребятня. Протерли ледяную дорожку-скользянку и катались с разбегу. На своих двоих, на подошвах.
Шла навстречу девушка. Быстро, пружиняще, сунув руки в карманы пальто. Вдруг разбежалась, поводя плечами, и заскользила по узкому зеркалу, покачнулась. Никритин поймал ее, падающую, на руки. Расхохотался вместе с нею, поставил ее на ноги – и осекся: «Рославлева!..» Ну да, рядом же редакция...
Она отхохоталась и распрямилась, подобрала под меховую шапочку выбившиеся волосы.
– А шарище цел? Такой большой!.. – Она внезапно расширила глаза: – Вы? Вот здорово!.. Сколько собиралась к вам зайти, посмотреть ваши полотна... Все некогда... А ваш дядя, оказывается, работает у нас.
– Это я свинья: не пришел поблагодарить... – сказал Никритин и, смотав с пальца бечевку, зачем-то протянул ей шар.
Она подержала шар, облила его взглядом и повернула к Никритину лицо. Прищурилась. Заговорщицки, по-мальчишечьи.
– Давайте отпустим его?
– Давайте...
Шар взлетел и понесся – малиновый – в небо.
– Вы куда сейчас? – спросила она, все еще глядя на улетающий шар. Лишь голубятники смотрят так. Словно сами готовы взлететь.
– Никуда...
Не признаваться же, что направлялся в обжорку!..
– Нет, правда? – она обернулась к нему. – И Новый год – ни с кем?
– Ну... – Он замялся. Ни с кем... Что она имела в виду? Девушку? Компанию? – Особенно... ни с кем... – докончил он.
– Хотите с нами? – порывисто, как, наверное, делала все, спросила она. – С нами, журналистами? Мы едем в горы! Снега и звезды!.. Хотите?
– Да... но... надо же, видимо, внести какой-то пай? – нерешительно сказал он. – И вообще... удобно ли?
– Ну чепуха какая!
– Нет уж, незваным гостем я быть не хочу.
– Так я же вас приглашаю!
– Все равно...
– Ну, хорошо... – нетерпеливо дернула она его за рукав, потянула за собой. – Забежим ко мне, я предупрежу дома, а потом разберемся. Купите что-нибудь на обратном пути.
– Мне тоже надо бы предупредить... – вспомнил вдруг Никритин об Афзале.
– Позвонить вы можете?
– Позвонить?
Верно. Можно ведь Фархаду звякнуть в клинику. И телефонная будка здесь же, на углу.
Никритин втиснулся в узкую будку и припал на плечо. Медлил. Слишком многое всколыхнула эта встреча. Бегство от Инны Сергеевны... ее предсказание, странно сбывшееся... Странно, перекошенно, как в разрезанных и сдвинутых полотнах Пикассо... Тата! Звездные ночи Таты... и хмурое утро ее... А до этого – та фантастическая ночь: жирное пламя, отсветы на стремительном лице Рославлевой...
Мелькнули в окошечке будки ее удивленно-выжидающие глаза. Никритин вынул монету и опустил в аппарат.
– Да! Слушаю... – зажужжала трубка, словно в ней билась осенняя муха.
– Фархад? Слушай... Извинись перед своими и перед Афзалом... Я сегодня не буду дома. Ты меня слышишь, понимаешь?
– Слышу. Но не понимаю. Ты что – с женщиной?
– Да. Но какое это имеет значение? Я – с человеком! И не могу иначе...
– Понятно... – ехидно жужжала трубка. – Потерял одну, так пять найду?
– Ты, медик! – обозлился Никритин. – Кроме физиологии, ты что-нибудь признаешь?
– Ну ладно... – примирительно сказал Фархад. – Передам. И Афзалу тоже. Желаю удачи!..
Никритин ругнулся, но в трубке уже набегали, подстегивая друг друга, торопливые сигналы отбоя.
Громыхал, как зонтик, крытый верх грузовика. Громыхал брезент. А под ним – смеялись, шумели, пели.
Умный в горы не пойдет, не пойдет,
Встретит гору – обойдет, обойдет...
Ехали в горы. Умные. Острые на язык.
Никритин покачивался, втиснутый между Рославлевой и главарем «альпинистов» Юлием.
Покачивался. Помалкивал. Улыбался удачным шуткам. Многого не понимал. Как во всякой спевшейся компании, были здесь и свои словечки, свои остроты, свои песни.
Турист дойдет до облаков,
Туристу море по колено.
Турист всегда пожрать готов,
Пусть будет сварено полено!..
Чем-то студенческим пахнуло на Никритина...
Приняли его хорошо, непринужденно.
– Не пожалеешь, старик! – прогудел баритоном высокий парень в очках, с непокрытой курчавой головой. – Год ныне – геофизический. Вперед, на лоно! – Протянув руку, он представился: – Юлий, но не Цезарь.
– А что – цензор? – сохраняя серьезность, спросил Никритин.
– Юлий Цензор!.. Браво! – Вокруг засмеялись: его приняли.
И вот громыхал тент, покачивалась машина, вразброд металась песня.
– Нравится? – придвинулась, спросила вполголоса Рославлева.
Никритин кивнул.
– Мы часто так ездим. С субботы на воскресенье.
– Уик энд?
– Пожалуй...
Никритин посмотрел в открытый сзади проем кузова. Уносилась, отставала дорога, мгновенно сужаясь в перспективе. Выскакивали и пристраивались к бесконечной шеренге, как солдаты по команде, стволы тутовника. Заснеженные. С обрезанными, скормленными шелковичным червям кронами. Было похоже, что деревья растут корнями вверх.
Натужно гудел мотор. Скрежетали шестерни передач. Сказывался крутой подъем.
Наконец машина совсем забуксовала и остановилась.
Стали прыгать на землю. Смеялись, хватались друг за друга, покачиваясь на занемевших ногах.
Двинулись вверх по снежной тропе.
Покалывал лицо горный воздух.
Темнота, словно набежавший сзади вал, настигла, обогнала, двинулась ввысь. Казалось, что не было звезд, и вдруг – высыпали, брызнули в глаза, будто включили их рубильником.
– Нина! Сеня! Не отставать!.. – покрикивал идущий впереди Юлий.
Стало еще темней. Только внятно светился снег, не отдавая ночи своей подкрахмаленной, подсиненной белизны. Горы, горы!.. Чимган...
Скользили ноги, заходилось дыхание. Никритин обернулся, протянул руку Рославлевой. Тащил ее, хохочущую, за собой. Изредка вспыхивал конвульсивный огонек спички: кто-то закуривал, передыхал.
Вершина...
Как-то и не заметили, что дошли.
Внизу – снеговая чаша. Снежная, в черно-синих залысинах теней, долина Большого Чимгана.
Ветер посвистывает в ушах, колышет разлапые ветви арчи – азиатской елки, древовидного можжевельника. Пахнет хвоей. У арчи она мягкая, плоская, не колючая... Прутье дикой вишни впечатано в неестественно глубокое, насыщенно-синее небо...
– Шекспир, «Зимняя сказка»... – жестом фокусника выкинул руку Юлий. – Возможно, даже Бакуриани – рай лыжников. А вы хотели преть на своих жилплощадях!..
Никто не откликнулся. Мерцал автогенными точечками снег. Долго длилось молчание...
Наконец кто-то зашевелился. Кто-то в кого-то кинул снежком. Горное эхо подхватило голоса.
Загорелись костры, горько пахнущие вишневой корой. Желтая игра огня врезалась подвижными пятнами в черно-синее. Кусочек гребня обратился в лагерь. Сполохи света словно бы говорили: сюда пришел человек!..
Пришел человек и завел патефон: шипящий, гнусавый. Да и пластинка оказалась старой – «Брызги шамнанского»...
– Неумная же шутка! – возмутилась Рославлева и кинулась на звук. – Уберите это мещанство!
Патефон поперхнулся, замолк.
– Правильно! – поддержал ее Юлий. – Не оскорбляйте космос суррогатами! Подходите сюда...
В руках у него была бутылка «Советского шампанского».
– Проводим беспокойный, но все-таки не возгоревшийся год. Выпьем за пожарников!..
Хлопнула, выстрелила пробка. Пролилась на снег и зашипела легкая жидкость.
«Шампанское требует благоговения!» – вспомнилась Никритину фраза знакомого официанта, когда голоса вокруг смолкли.
Тишина. Только звезды и снег. И шуршащее шипение.
Никритин и Рославлева сидели, прислонясь к шершавому стволу старой арчи. Дышалось тяжело после суматошного подъема на невысокий, но крутой откос, нависший над лагерем.
Внизу догорали костры.
Люди разбрелись, поутихли. Трое отправились к машине – за спальными мешками.
Никритин щелкнул зажигалкой, закурил. Осветилась простертая над головой заснеженная хвоя.
Побаливали скулы от смеха. И было пустовато на сердце. Как после гостей...
Праздник миновал. Самый короткий праздник: миг – и граница пройдена, ты уже в новом году. Весело и жутковато...
Надежды, надежды!.. Лишь сердце стучит и гулко бьет в ребра...
Никритин еще раз щелкнул зажигалкой. Осветились щека и краешек глаза Рославлевой. Она покосилась на вспышку.
Огонек потух.
– Вот и все... – вздохнула она. – Уже – пятьдесят седьмой...
Никритин смотрел на звезды. На узкую полоску неба, видную из-под арчи.
Звезды. Крупные. Зеленоватые – словно стеклянная дробь. Здесь, в горах, они почти не мигали. Томили пристальностью...
Мир. Земля. Огромный шар с морями, с горами, с заревами городов. Кружится шар. А звезды неподвижны.
Почудилось, что горы стронулись, поползли. Закружилась голова.
Огонек – трепетный лоскуток живого... Щека Рославлевой – пятно телесно-теплого во тьме... Тата, Тата! Где ты?.. Почему я сижу здесь? Неужто же надо потерять, чтобы оценить?..
Звезды... Бесконечность времени... И цепкость жизни – длящейся, ликующей, несмотря ни на что...
Никритин знобко передернулся, будто выбрался из сугроба. Звенело в ушах. Он подул на кончик сигареты, и пепел зарозовел изнутри, налился огнем.
– Кстати, – Никритин повел глазами на Рославлеву, – как закончилось то дело? Я, видно, прозевал в газете.
– А-а-а, нефть... – медленным голосом отозвалась она. – Мы ничего и не печатали. Материалы по нашей станции я собрала. Теперь правдисты этим занимаются. Оказалось, и на других дорогах жгут.
– Ну и что же? Почему вам было не выступить?
– Как – что? – воскликнула она. – Вы думаете, стоит сообщить факт, и безобразие само уймется? Надо же разобраться в причинах! Иной раз все закручено сложнее, чем кажется с первого взгляда. Например, в этом деле не разобраться без союзного Министерства путей сообщения. Не мне же скакать в Москву? И эффективность не та, и здесь работы невпроворот. Мы же – газета. Ежедневная!..
«Наверно, и брови вздернула», – подумал Никритин, заметив, как порывисто шевельнулась она.
– Нет... – вновь опадая, сказала она. – Нет... Вы просто неверно представляете себе нашу работу.
– Ну так познакомьте меня с ней, с вашей работой! – непроизвольно резко ответил Никритин: снисходительности он не терпел.
– Это идея... – помолчав, сказала она. – Знаете... у нас есть свой художник. Но... вы не обижайтесь... он – бездарный и самонадеянный дурак. Как говорит один наш товарищ, не будь языкаст – давно бы ворона утащила... – Подражая чужому голосу, видимо передразнивая все того же художника, она докончила: – Вы поняли мою мысль?
Никритин усмехнулся:
– Чего же тут обижаться? Глупость – болезнь не профессиональная. Но в чем идея-то?
– Идея? – Она протянула руку и отломила веточку арчи, понюхала. – Что вы скажете, если я предложу поработать вместе? Мне для репортажа нужны зарисовки. Хотя бы две-три. Пойдете со мной на завод? Может, и для себя что присмотрите...
– А какой завод? – помедлив, спросил Никритин.
– Завод? – Рославлева шелохнулась, уминая под собой снег. – Спокойный был завод, положительный. Есть такие заводы. Солидные. План дают, всегда – в передовых. И фонды им, и финансы... Я даже писала о нем. И вдруг... Приезжает новый директор, и все летит вверх тормашками! Снова бегу, снова пишу... И вот опять посыпались письма. Надо поехать, посмотреть, что там творится...
Никритин наклонился и выковыривал снег, набившийся в башмаки.
– А когда идти? – разогнулся он и обтер чистым снегом руки.
– Я позвоню... Вы ведь в мастерских Худфонда работаете?
– Да.
Внизу кто-то запел, заорал. Модную песенку из кинофильма. Импровизируя новые слова.
В пять минут, в пять минут
Ты нагонишь строчек много,
В пять минут, в пять минут
Сам же в них сломаешь ногу.
Другой голос подхватил:
В пять минут решит редактор иногда —
Не печатать ни за что и никогда.
Но бывает, что минута
Все меняет очень круто,
И тогда
Он произносит: «Да!»
Никритин засмеялся:
– Ладно. Я произношу: «Да!»
– Эге-ге-гей! Ни-ка!.. Гражданка Рославлева!.. – донеслось снизу. – Зря прячетесь, все равно вас видно!
С силой пущенный снежок ударился в ветви арчи. Посыпался снег.
– Спускайтесь! – хохотали внизу. – Пора с москвичами встречать! Пополнение горючего прибыло!..
Кто-то включил портативный радиоприемник, который по общему согласию щадили, чтобы не истощать до времени батареи. До времени, до того мгновения, когда в снежной долине ударят московские куранты. Чудилось, он будет необъятным и возносящим, бронзовый перезвон, помноженный на горное эхо...
Лагерь снова ожил. Снежно, прохладно лился из приемника унисон скрипок. Вновь заполоскались огни костров. Рассыпался чей-то высокий, посвежевший смех.
Был воскресный день. И солнце светило по-воскресному – тысячи рыжих зрачков в синих зеркалах воды. Снег растекся плоскими лужами. Будто снегурочка растаяла.
Снова стояли на айване мольберты. Снова Афзал работал. И снова Никритин смотрел на него и не мог заставить себя подойти к полотну, но что-то зрело в нем: набухало сердце, как вишневая почка...
Словно откуда-то сбоку вдвинулся в глаза диапозитив, Никритин увидел «У моря» Дейнеки.
...Море, небо, полоска земли. Рыбачки развешивают рыбу на жердях – для вяления. И все!
Но сколько же там света, соленого воздуха, простора! И сколько женственности – сильной, земной, плотской! Жить хочется, петь, бежать, раскинув руки по-мальчишески, – прямо туда, в картину!
Вот они – люди! Работают, живут, любят, даже рожают детей. Может, не сознавая того, они – в борьбе!
Потому, наверно, и набухает сердце, подобно вишневой почке, фиолетовой, с крохотным пятнышком зеленого на макушке. Набухает, словно вот-вот лопнет, проклюнется, раскроется навстречу слепящему свету и головокружительной свежести, навстречу сверкающему потоку, имя которому – жизнь!
Жизнь!.. В сотый, в тысячный раз – я прав! Жизнь – она такая, как на моем полотне, – рвущаяся, вопреки всему, к солнцу! Лишь угрюмые против нее!
Сдался, усомнился... Казнись теперь... Одна прибыль – стал постигать императив Скурлатова: выслушивай всех, прислушивайся к некоторым, но слушайся только себя.
...Афзал хмурился. Ушел в работу. Все внешнее перестало существовать... Осталось лишь полотно, остались краски... Резкими движениями он размешивал цвета на палитре. Кидался к мольберту. Отскакивал – смотрел.
Мечтатель. Сказочник. Друг единственный.
Память провалилась в прошлое, в детство...
...Ночь. Пахнет райханом – азиатской мятой. Все ушли в театр. До него – два квартала. Во дворе слышно, когда выходит оттуда публика. Дают «Принцессу Турандот». Алеша уже смотрел дневное представление – с Султанходжой-ака и Афзалом.
Да, тогда знал только Афзала. Он ровесник и остался другом навсегда. А Фархад и Джура жили тогда у родственников, в кишлаке. Тяжелые были времена. Появились продуктовые «заборные» книжки, возродилось слово «самарский», которым снова нарекали тех, кто норовил вырвать из рук хлеб и удрать. Слово двадцатых годов, когда бежали сюда – в Ташкент, город хлебный, – голодающие с Волги, из Самары...
Ушли родители в театр. Что они могут там понять? Выходит актер и объясняет по-узбекски, что спектакль создан в Москве, в Театре Вахтангова, что это первая профессиональная работа узбекской труппы. Актеры начинают одеваться на сцене. Пристегивают подушечные брюхи, приклеивают синие и зеленые бороды... Что там поймут папа и мама? Не смыслят же ничего по-узбекски, не то что он!.. Невдомек ему было, что знали они другое – пьесу Карло Гоцци. Сам он прочел пьесу много позже, когда родителей уже не было в живых.
...Ущербный месяц, едва надкушенный, смотрит торжественно из-за крыши. От стеганых курпачей, разостланных на глиняном возвышении среди двора – на суфе, – еще пахнет солнцем. Мягко валяться на ватных курпачах – толстых, с малиновыми разводами ситца.
Журчит арык, струя льется с отмытого до гладкой желтизны кирпича. Сверлит ночь сверчок. Афзал рассказывает сказку. Самодельную, только что выдуманную. Фантазии у него пропасть!
«...Убили змея, а Апанди никак не найдут. Но не такой же он человек, чтобы дать себя сожрать змею! Вошли в пещеру. Золота‑а‑а!.. Мешки! А в углу, в пыли, лежит отдельно яйцо. Большое, змеиное. Разбили яйцо, а там – Апанди! Вот куда спрятался!..»
Алеша научился читать раньше Афзала. И пересказывал, переиначивал прочитанные книжки. Но сам понимал, хоть и пищало уязвленное детское самолюбие, выходит не то! Завирался, запутывался, и Афзал начинал спасать сказку, доканчивал ее по-своему.
Лунный свет и тени... Черно-синий ребус двора... Дыханье райхана...
...Шли по утрам за водой, перекинув абкаши через плачо. Прямая палка. На концах – веревки с крючками, чтобы ведра подвешивать. Шли через улицу, в овраг. Внизу мрел и катился коричневый Анхор. Воду брали не из него. Под старым талом бил родничок. Вода в ямке, пока не зачерпнешь ведром, была на диво светлой. Шевелились на дне какие-то лохмотья трав, бугорок воды посередине переливался, мерцал, как стеклянный шарик. Окунались в Анхор листья тала, плыли – и не могли уплыть...
...Убегали днем купаться на Чорсу – в деревянном желобе водяной мельницы. Бурлил и шумел стиснутый желобом Анхор, стучала крупорушка. Визжали девчонки с мокрыми косичками. Фыркали плюшевыми губами лошади. Водяная пыль радужилась над мельницей. Возле желоба подскакивал на одной ноге, выбивая воду из ушей, Фархад. Кричал: