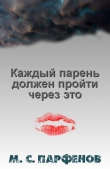Текст книги "Каменный город"
Автор книги: Р. Галимов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 26 страниц)
ОБЛАКА БАГРОВЕЮТ
...Не замедляй, художник: вдвое
Заплатишь ты за миг один
Чувствительного промедленья,
И если в этот миг тебя
Грозит покинуть вдохновенье, —
Пеняй на самого себя!
Тебе единым на потребу
Да будет – пристальность твоя.
Александр Блок

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Рискованно растет горный шиповник: чаще всего на самом краю крутого обрыва, свешивая в пропасть суховатые зазубренные листья.
Никритин стоял внизу и, задрав голову, до ломоты в глазах вглядывался в облюбованный куст, словно бы плывущий по синей влаге неба, задевая бледные, как снятое молоко, изреженные облака. Ему чудилось, что он различает не только прожилки на листьях, но и пятнышки паутины, под которые забились крохотные твари.
Листья казались впечатанными, как бывает в ископаемых пластах, в ярко-оранжевые потеки на ноздреватой поверхности откоса. Над ними слабо покачивалась целая корзина цветов – белых, едва тронутых розовым.
Никритин перевел взгляд на подрамник с холстом, укрепленный на легкой треноге, отступил на шаг и, будто совершая выпад шпагой, сделал кистью несколько быстрых мазков-уколов. Уперев руки в бока, в одной – кисть, в другой – палитра, он смотрел на завершенный этюд. Затем, бросив кисть и палитру в этюдник, он с хрустом потянулся.
Усталость зудела в плечах, обтянутых выгоревшей ковбойкой в крупную черно-красную клетку. Но облегчения эта усталость не принесла. Того облегчения, что приходит вслед за удачей...
Обеими руками он откинул со лба русоватые волосы, припеченные солнцем, ставшие еще более сухими и мягкими. Ломило глаза, покалывало в затылке... Только теперь начали доноситься до него шорохи предвечерней тишины, сгустившейся, как это всегда бывает в безлюдных местах. Казалось, неприметно потрескивает электрическими разрядами сам поголубевший воздух.
Слегка расплющенное солнце слепило глаза, плавясь на гладком накатанном гудроне дороги, огибающей подножье откоса. Внезапно кривой саблей она вымахивала из-за поворота.
Никритин неторопливо раскурил плоскую сигарету, неторопливо притушил спичку и, проследив глазами за первой струйкой дыма, оглянулся назад.
Беззвучно, почти не нарушая тишины, шевелилась поверхность Чирчика, опавшего после весеннего паводка. Шевелились коричневые, насыщенные лёссом бугры жидких мускулов.
Тишина... Лишь где-то вдалеке невнятно перестукивали колеса поезда.
Предзакатное рыжее солнце удлинило тени пологих холмов за рекой, округлые бока которых приняли глубокий фиолетовый оттенок, кое-где пробитый клином угасающего желтого света.
Никритин снова обернулся к своему этюду и глубоко засунул руки в карманы брюк. Перекатывая во рту сигарету, он напряженно щурился – не то от дыма, не то критически оценивая все, что успел сделать за день.
Где-то справа, со стороны города, послышалось нарастающее урчание автомобильного мотора. Наконец из-за поворота вынеслась серая «Победа». Почти не сбавляя скорости, машина съехала на небольшую лужайку, где расположился Никритин, и остановилась возле самого берега. Откинулась дверца, и, вывалившись из-за руля, на траве растянулась девушка.
– Хэлло! Не помешала? – сказала она, придыхая. – Устала как собака.
Никритин повел на нее глазами: спортивные суженные брюки, клетчатая голубая рубашка навыпуск; сквозь прорези очень открытых сандалий – два-три ремешка – проглядывают все пальцы ног – запыленные, хорошей лепки. Смоляные волосы собраны в «конский хвост», только что вошедший в моду.
– Здравствуйте! – неприветливо буркнул Никритин.
Она молчала, лежа в прежней устало-небрежной позе и разглядывая холст, лоснящийся непросохшей краской.
Когда Никритин обернулся к ней, голова ее была закинута к откосу и прямые черные волосы лежали на траве.
– Ну как?.. – спросил он выжидательно.
– Высоты нет, понимаете? – ответила она, помедлив, и взглянула на него в упор пронзительно-серыми глазами. Вызывающе выпятилась полная нижняя губа.
Никритин вскинул бровь и еще раз взглянул на этюд. Вот оно то, чего он не мог уловить и что не давало ему покоя! Да, высоты нет... Скос обрыва со ржавыми пятнами, куст, небо... И все же чего-то не хватало, чтобы создать впечатление высоты. А этого-то он и добивался!..
Никритин внимательней взглянул на девушку и выплюнул сигарету. Опустившись на траву, он обхватил руками колени и недоуменно задрал голову, разглядывая потемневший, упорно не дающийся ему куст.
– И откуда вы взялись?.. – усмехнулся он, вытряхивая из пачки новую сигарету.
– Из города, вестимо... Но было бы законно спросить: откуда взялись вы? Это моя лужайка... для зализывания ушибов... – Она помолчала и спросила с холодной ленцой: – Я вас огорчила?
– Да нет, почему же... Вы правы... – Он порылся в этюднике и вытащил широкий костяной шпатель.
– Собираетесь соскоблить? Напрасно... – по-прежнему лениво растягивая слова, сказала девушка. – Значит, боитесь...
Никритин взглянул на нее, ожидая продолжения, но она молчала.
– А чего вы, собственно, хотели добиться? – спросила она, досадливо мотнув пучком волос.
Глядя куда-то в сторону невидящим взглядом, Никритин начал читать вполголоса стихи:
Тихо колышется стебель шиповника
На высоте, в колыбели ветров.
Стоя над горным обрывом рискованно,
К солнцу вздымая корзину цветов,
Тихо колышется стебель шиповника.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Иней у ног его плавится утренний,
В легких качаньях сгибает он рост.
Ветром обрызган росой перламутровой,
С целой корзиной раскрывшихся звезд,
Встал он в горах, как само целомудрие.
– Как само целомудрие... – повторила девушка потухшим голосом и, закинув за голову руки, опрокинулась на спину. Загорелое лицо ее, будто отполированное солнцем, стало непроницаемо, как у человека, целиком ушедшего в себя.
С реки подул ветер – первый, несмелый, предвечерний. Подул и опал... Низкое солнце все еще согревало землю.
– Так чего же я боюсь? Вы не досказали... – спросил Никритин, подкидывая в руках шпатель.
– Что это, – она скосила глаза на этюд, – будет вечно напоминать о вашем поражении... Впрочем, не мне судить других: я сама трусиха...
Она рывком приподнялась на локти, исподлобья взглянула на Никритина и рассмеялась:
– Развели дискуссию, а кто выступает – неизвестно. Вашего оппонента зовут Татьяна Кадмина. В просторечии – Тата.
– Кадмина... Какая у вас теплая фамилия. Кадмий, золото... – произнес Никритин и впервые улыбнулся, словно имя девушки и впрямь растопило в нем какой-то ледок. – Будем знакомы: Никритин, Алексей...
Он поднялся на ноги и, постояв мгновение в нерешительности, бросил шпатель в раскрытый ящик этюдника, в котором тускло поблескивали тюбики с краской.
– Будь по-вашему, – махнул он рукой. – Хоть вы и не принимаете меня всерьез...
– А я мало что принимаю всерьез. Себе дороже... – внезапно нахмурилась Кадмина, тоже поднявшись. – Купаться будете?
Никритин взглянул на стеклянно-коричневую поверхность воды, передернулся.
– Холодно же... – пожал он плечами.
– А я буду! – словно споря с кем-то, мотнула она пучком волос и направилась к своей «Победе».
Когда с кошачьей мягкостью она выскользнула из машины, Никритин профессионально залюбовался ею; ему вспомнились женские фигуры раннего Коненкова, вырезанные из дерева золотисто-теплых тонов. Такая же легкая, сильная, успевшая загореть на весеннем солнце, она осторожно переступала босыми ногами по траве. И всего-то одежды – широкая черная лента через грудь да черные трусы.
«Да, такое тело и показать не стыдно», – подумалось Никритину.
Странно, как преобразилось ее лицо от того, что она убрала волосы под резиновую купальную шапочку; приподнялись наивно брови, удлинилась шея. И что-то столь традиционно-женственное проглянуло в ней, что уж никак не вязалось с ее речами, с ее манерой вести себя.
Почти без колебаний, задержавшись у берега на едва уловимое мгновенье, она вступила в воду, бросилась плашмя, поплыла мужскими саженками.
Никритин снова опустился на траву, подперся локтем и закурил. Все оборачивалось как-то так, что просто встать и уйти было нельзя. Неловко и трусовато. Что ни говори – познакомились!..
Та душевная собранность, которую наконец-то за многие дни он ощутил в себе этим утром, заколебалась, расплылась кругами, как от камня, брошенного в воду. Сузившимися глазами он следил за серой шапочкой на середине реки, непроизвольно отмечая про себя влажные взблески на матовой поверхности резины, и курил мелкими злыми затяжками. И какого черта ему нужно было вступать в разговор с человеком совершенно посторонним, которому нет ровно никакого дела ни до него самого, ни до его работ? Глупо!.. И какова смелость: зачеркнуть всю работу – прямо будто на жюри выставки! – и еще обвинить в трусости!.. Глупо, глупо!..
– Бр-р... холодно! – сказала девушка, вылезая из воды, и улыбнулась виновато.
И снова Никритин почувствовал, как бесследно тает в нем ледок злости. «Что я, собственно, злюсь? – подумал он, пристыженный чужой искренностью. – От неправоты своей?»
Девушка повозилась возле машины и обернулась к нему, протягивая простыню:
– Подержите, пожалуйста, я переоденусь.
Никритин в первое мгновенье не понял ее, затем кровь бросилась ему в уши. Он сидел не двигаясь.
– Что же вы?.. – изумленно вскинула она брови и вдруг расхохоталась. – Вот не думала, что художник может застыдиться!.. Ну же!..
Никритин неловко подошел к ней, неловко развернул простыню.
«Хорош я, должно быть, со стороны!» – усмехнулся он про себя, слыша, как за тонкой преградой торопливо шуршит одежда. Но злость уже не возвращалась.
– Ну вот... Спасибо... – сказала наконец Кадмина, беря у него из рук простыню, и близко, без улыбки заглянула ему в глаза, будто хотела убедиться, что никакой двусмысленности между ними не возникло.
Никритин слегка кивнул понимающе. Он затоптал каблуком окурок и неторопливо направился к своему мольберту.
День угасал. Лишь кромка снегов на хребте Большого Чимгана еще светилась бледно-желтым сиянием, обозначая границу между небом и горами. С волнами по-весеннему быстро холодеющего воздуха наплывала необъяснимая печаль сумерек. Все теплые тона подернулись пеплом, утратили определенность цвета, а синеватые холодные тона стали гуще, словно налились темнотой.
Никритин, задумавшись, протирал скипидаром кисти и вздрогнул, когда его окликнула Кадмина.
– Ну как, вы готовы? Едемте! – Голос ее в повлажневшем воздухе прозвучал резко и звонко.
И снова он подчинился, словно это разумелось само собой. Разместив свои вещи на заднем сиденье, он уселся рядом с Кадминой, краем глаза следя за ее легкими, сноровистыми движениями. Она уверенно развернула машину и красиво выехала на дорогу. Лицо ее приняло сосредоточенно-небрежное выражение, характерное для опытных водителей.
Пустынная в этот час дорога все еще поблескивала каким-то отраженным светом, и Кадмина не зажигала фар. Ехали почти в темноте. Молчали.
Никритин, порывшись в кармане, вытянул помятую, искривленную сигарету, сложил ладони лодочкой и зажег спичку. Трепещущий огонек осветил его твердый подбородок с продольной вмятиной и хорошо очерченные полноватые губы. Щурясь от дыма, который ветром наносило в глаза, он силился разобраться – по выработанной самим системе, – что же лишило его покоя, что лишило творческого равновесия, приходящего как результат перенесенных волнений. Не воспринятый рядовым зрителем этюд? Нет. К тому времени, когда появилась Кадмина, он уже чувствовал – хоть, может быть, и не сознавался себе в том, – что не смог добиться желаемого. И в конце концов это всего лишь этюд, неудачный, но полезный, и он один мог знать, какую пользу принесет ему сегодняшнее утро... Вторжение самой Кадминой? Нет, и не это. Мало ли с кем приходится встречаться, и мало ли приходится выслушивать дельного и пустопорожнего...
Никритин вытянул руку в окно, чтобы скинуть пепел, и пучок искр прочертил мглу.
Стало совсем темно. Впереди замерцали разбросанные пятна огней, и Кадмина включила подфарники, осветила номер машины.
– Чирчик! – коротко сказала она и снова замолчала.
Мелькнули освещенные окна – голубые, розовые, зеленые... Мысли Никритина стали расплываться: мерное гуденье мотора, шин, всей машины действовало усыпляюще.
Уже на выезде из города, под ярким фонарным столбом, раздался близкий взрыв. Никритин раскрыл смежившиеся было глаза.
– Ну вот, начинается... – сказала раздраженно Кадмина. – Тут поишачим: запаски у меня нет.
Она отъехала к обочине дороги, остановила машину и вылезла из-за руля. Откинув дверцу, Никритин тоже ступил во тьму, освещенную качающимся фонарем. Кадмина сидела на корточках возле заднего колеса машины. Наконец она разогнулась.
– Лопнул баллон, – сказала она, отряхивая руки. – Придется подкладывать манжету и вулканизировать камеру. – Помолчав, она добавила: – Если хотите, можете уехать автобусом – остановка недалеко.
– А вы? – неуверенно спросил Никритин. По совести говоря, он был готов принять ее совет: его уже начинало подташнивать – и проголодался, и обкурился.
– Что – я? – ответила Кадмина. – Не бросать же машину! Сказано: любишь кататься – люби и баллоны бортовать. Придется нажить мозоли.
– Что ж, буду вам помогать, – усовестился Никритин.
– А чем вы можете помочь?
– Ну все-таки...
Она не ответила, пошла открывать багажник.
Загремела железом, вытаскивая инструменты; кинула старую камеру, глухо шлепнувшуюся о землю; приподняв домкратом машину, сняла тяжелое колесо.
Чувствуя себя до нелепости беспомощным, совершенным профаном в технике, Никритин ходил за Кадминой, смотрел, как она вырезает манжету, как закрепляет пластины вулканизатора на камере. Смысл ее действий оставался для него темным. Он видел лишь, что работает она умело, не суетливо, как-то по-женски красиво.
Отчаявшись принести какую-либо пользу, он отошел в сторону, сунул руки в карманы и начал негромко насвистывать.
Кадмина оглянулась на него.
– Встаньте-ка на колесо и топчите покрышку, – сказала она. – Будет легче камеру вытащить.
Приподняв капот машины, она подключила конец провода к аккумулятору. Постояла немного, склонив голову.
– Хватит или еще? – спросил Никритин, топчась на колесе.
Она отряхнула руки и шагнула через инструменты.
– Хватит... – Вздернув на коленях брюки, Кадмина опустилась на край тротуара.
– Что делать еще? – подошел Никритин. – Не торчать же как балбесу!..
Она устало вскинула голову к нему:
– Ладно. Будете качать баллон.
В неверном свете фонаря глаза ее – серые, большие – сверкнули влажной желтизной. Никритин полез в карман за сигаретами.
– Дайте и мне, – сказала Кадмина. – Изредка я курю.
Он опустился рядом, протянул ей пачку, зажег спичку. Ее лицо вдруг показалось ему тронутым затаенной скорбью, словно проступило в нем, освободившись от скорлупы, что-то настоящее. «Прямо просится на полотно!» – подумал он. Но спичка погасла, и, отбросив ее, Никритин закинул голову назад, обхватил руками колени.
Оба молчали.
Свет звезд терялся в дымчатом сиянии вокруг фонаря, и только Сириус – самая яркая звезда северного полушария – пронзал темноту, подрагивая, как капля на зеленом листе.
– Переживаете? – внезапно спросила Кадмина, по-мужски держа сигарету огоньком в ладонь.
Никритин дернул плечом и отмолчался.
– Где можно увидеть ваши работы? – продолжала она.
– Нигде... У меня дома... – ответил он неохотно. – Я не выставляюсь.
– Почему? – уже с каким-то интересом спросила она.
– Это длинно объяснять...
– А все же?
Он искоса взглянул на нее. Странно все, нереально: вулканизируется автомобильная камера, сидят два человека рядом на тротуаре, разговаривают вполголоса и стараются проникнуть друг в друга. Бред... К чему это?
– Ну... – неожиданно для себя начал он. – Во-первых, выставок бывает не так уж много – через год по большим праздникам. Во-вторых, если ты не составил еще себе имя, трудно пробиться через жюри. Но главное, конечно, не в этом. А вот когда сам начнешь думать, что цена тебе – пятак, да и то в базарный день...
Никритин отбросил щелчком сигарету и умолк.
– А что вы в последний раз хотели выставить? – помедлив, но настойчиво спросила Кадмина.
– Так, была одна работка... – сказал раздумчиво Никритин. – Называлась «Обреченные». Детские впечатления... Двадцать девятый год, конец нэпа... Говорят, в трехлетнем возрасте все запоминаешь особенно четко.
– Значит, вам сейчас тридцать...
– Считать вы умеете.
– Простите, перебила.
– Ну... полотно было довольно большое... Казань, Волга. Синь реки, изрытая желтыми оспинками солнца. «Бенц-мерседес» на пристани – такой, знаете, родственник «Антилопы-гну». Фатоватая публика, и чистые белые лодки с красной полосой по планширу... На все это смотрит огромный крючник, заросший волосами, с крюком на плече и буханкой ржаного хлеба под мышкой.
– И... не приняли? – наивно приподняла брови Кадмина.
– Нет... – остывая после минутного оживления, сказал Никритин. – Не современно. Да и тематика не местная. Правда, живопись хвалили. В том и беда, что я – живописец.
Взгляд его скользнул вдоль дороги: там все еще уносились в темноту рубиновые стеклышки проехавшей машины.
– Почему же беда? – не поняла Кадмина.
– Да уж так... – усмехнулся Никритин и незаметно вздохнул. – Краски и холсты – они денег стоят. И поесть ведь требуется. Надо зарабатывать... Вам это не знакомо?
Кадмина исподлобья взглянула на него, бросила сигарету к ногам, не ответив на колкость.
– Чем же вы... зарабатываете? – спросила она, медленно растаптывая носком сандалии тлеющий окурок.
– Работаю в мастерских Худфонда, – удивляясь ее настойчивости, ответил Никритин. – Малюю портреты с фотокарточек да копирую всем известных «Мишек». Иные, правда, идут в графику: тут и журналы, и иллюстрации для книг. А я не хочу. Так можно и совсем отойти от живописи. Случалось.
Никритин поежился и застегнул ворот рубашки: ночной воздух начинал растекаться по коже липким ознобом.
– Да что мы – все обо мне да обо мне, – натянуто хохотнул он. – А что мне известно о вас?
– Фью... – присвистнула Кадмина. – Это совсем неинтересно. Так, девица с дипломом, аспирантка. Словом, накипь... Зарабатывать мне, вы догадались, не приходится.
– Сказано сильно – и ничего не сказано, – протянул Никритин, подумав про себя: «Задело все-таки!»
Помолчали. Сзади, из темного провала между двумя домами, слышались отрывистые звуки рояля, перебиваемые взрыкиванием контрабаса и шелестом гитар. Звуки, словно из резонатора, кругло и упруго разрастаясь, выкатывались на тротуар.
– Ну... что вас интересует? – сказала она наконец тусклым голосом. – По образованию я – гидротехник. Из тех, что с рыбой разговаривают по телефону.
– С кем?! – резко обернулся Никритин.
Она едва заметно улыбнулась.
– Это шутка студенческая. Есть у нас такой прибор – для определения объема протекающей воды. Со звоночком. Ну и отвечаешь любопытным, сидя где-нибудь на берегу, что с рыбой говоришь. Прибор – в воде, а наверху – звонок для отсчета... Вот, пожалуй, все, что могу сообщить о себе самого яркого.
– Самое яркое? Вот это? – не поверил Никритин.
– Да! А что же еще? Пыль, да жара, да комары кусают. И макароны на завтрак, макароны на обед... – Она как-то пружинисто поднялась с места и шагнула к машине. – Камера готова. Будет вам скоро работа.
Никритин все еще недоверчиво смотрел на нее, размышляя о сказанном. Довольно гнусно... Или все – наигранное?..
Он пригладил – по привычке – обеими руками волосы и встал.
Но не скоро еще довелось ему взяться за насос – тяжелую, однако самую немудрящую работу. Прежде надо было, орудуя железной полосой – монтировкой, – затискать камеру под неподатливую резину покрышки. А с этим Кадмина справлялась одна. Монтировка со скрежетом срывалась, гулко чвакала пустая покрышка.
И снова Никритин стоял и томился, глядя, как у Кадминой под спортивной рубашкой ходят лопатки.
По тротуару прошли двое. Девушка шла пританцовывающей походкой, обеими руками придерживаясь за локоть парня. Пройдя, оглянулись, засмеялись. И не нужно было гадать – смеялись над ним.
Подъехал легковой фургон – «Москвич». Отворилась дверца. Шофер – молодой, нагловатый – окинул острыми глазами разбросанные инструменты.
– Загораете? Помощь не требуется? – лихо крикнул он. – Сговоримся на полкило!..
– Езжай, езжай! Полкилошник... – грубо, но беззлобно, как шофер шоферу, бросила Кадмина и, разогнувшись, протянула Никритину насос: – Действуйте!..
Плюхнувшись наконец на мягкое сиденье, Никритин ощутил в руках непривычную бессильную дрожь. Рубашка прилипла к взмокшей спине, и врывающийся в окна ветер заметно холодил плечи. Он дышал раскрытым ртом, стараясь унять расходившуюся грудь.
Кадмина молчала, словно и не замечала его слабости. Он благодарно покосился на нее. Она сидела, свободно откинувитись, и, казалось, безо всякого напряжения, небрежно перекидывая рычаг передач, вела машину. Стрелка спидометра застыла возле цифры «сто». Два конуса света, как стволы орудий, покачивались впереди, далеко прорубая тьму.
– Как вы думаете... – прервала она молчание, сосредоточенно глядя на дорогу. – Есть у нас «проклятые» вопросы?
– Есть, наверное, – откликнулся Никритин, не слишком вдумываясь в смысл ее слов.
– Да нет, я не о том!.. – дернула она подбородком. – Знаю, у вас, художников, есть. А вот вообще... Скажем, женский вопрос.
Никритин обернулся – не разыгрывают ли его? Нет, не похоже.
Брови ее слегка хмурились, и она по-прежнему смотрела сквозь ветровое стекло.
– Женский? – Никритин изумленно взглянул на нее. – Не вижу никакого вопроса.
Кадмина помолчала.
– А вы бы посмотрели на дипломанток, когда их начинают распределять на работу. Не на всех, конечно... Но... – она нервно покривила губы. – По-моему, мало провозгласить равноправие женщины... От этого складывавшаяся веками женская психология не изменится сама собой. Слишком многое еще отбрасывает их назад – дом, семья, физиология.
– Ну, Фрейда-то уж не будем трогать!
– А при чем тут Фрейд! – неожиданно запальчиво спросила Кадмина. – Не будьте ханжой: рожаем-то мы!.. Но я не о том... Когда вы, мальчишки, еще ходите в мечтателях, ни черта не смыслящих в психологии, мы, девчонки, имеем уже свою, пусть обуженную, психологию: не показывая другим, наблюдать, похихикивать, интриговать. «Он за мной ухаживает!» – какая в этом власть!.. А как надо строить глазки – знаете, нет? Нужно глазами изобразить 123, – снизу вверх, зигзаг, еще зигзаг...
Никритин, не сдержавшись, расхохотался.
– Смешно... – Кадмина поморщилась. – А к чему это сводится? К возможности не работать, не искать свое место в жизни, а «выскочить замуж» – и тем решить все жизненные проблемы.
Никритин перестал смеяться: что-то свое, наболевшее, билось в ее словах.
– А сама женщина... может же что-то предпринять, если понимает?.. – осторожно начал он.
– А какая женщина откажется, например, хорошо одеваться, жить в комфорте? – перебила Кадмина, резко перехватывая баранку руля, чтобы обогнать автобус, освещенный, как новогодняя елка.
– Вы на кого-то обижены? Хотите чем-то оправдать себя? – помедлив, с безжалостной мягкостью спросил Никритин. – Я не знаю всего. Но если вы сами пошли на это...
– Нет... – качнула она головой. – Я не «выскочила»: предок определил в аспирантуру.
«Так в чем же дело?» – хотел спросить Никритин, но смолчал: почувствовал – разговор иссяк. Она выразила в словах то, чем мучилась, и, может быть, пришла к каким-то, неведомым для него, умозаключениям. А он, собственно, был тут ни при чем... Вроде боксерской груши для тренировок.
– Зачем вы приезжали? – спросил он, некоторое время спустя. – Только искупаться?
– Ну... теперь мне самой смешно. С предком поцапалась. Спутался с одной вот такой... Она слегка наклонила голову, не отрывая взгляда от дороги. – Сумасшедший у меня характер, прав предок...
– Кстати, о предке... Кто он у вас? – спросил Никритин, глядя на вырастающее впереди зарево освещенного города.
– Профессор... – с какой-то снисходительной язвительностью процедила она и на мгновенье скосила на него глаза. – Удивляетесь моему негодяйству?
Никритин не ответил.
У обочины дороги мелькнула табличка «Ташкент» – въехали в город. Зарево, светлое издали, вблизи померкло.
Машину поглотила ночная улица с нависшими ветвями деревьев.
Большие лопушистые листья... Темно-зеленый тоннель... Грохотали моторы множества автомашин, идущих с войсками. Город готовился к первомайскому параду. И грохот сотрясал листву деревьев, застывших в темноте...
– Куда вас подвезти? – спросила Кадмина. Синие холодные всполохи ламп дневного света наплывали на ее лицо – строгое, гладкое, как на бронзовой медали.
Никритин назвал адрес: недалеко от центра, в районе старинных домов, скученных коммунальных квартир. Рассеянно глядя на проносящиеся мимо дома и столбы, на полосы живой изгороди и цветники вдоль улиц, он думал о своем.
Вот он о чем-то говорил, спрашивал, улыбался, но подспудно, где-то в глубине сознания, зрело все более острое чувство беспокойства, как бывает, когда смотришь на предмет, теряющий равновесие и готовый вот-вот упасть.
Лишь в самом конце пути его озарило: эти странные разговоры, эта совместная поездка не похожи ли на измену Инне Сергеевне?
...Ах, Инна Сергеевна, Иньа Сергеевна! Не первая вообще и не первая безответная любовь... Как ему хотелось бы очутиться у нее, смотреть в ее милое, умиротворенно-доброе лицо, принимать чай из ее теплых неторопливых рук!.. Но что поделаешь, что поделаешь...
Он не сразу очнулся, когда машина остановилась. Кадмина перегнулась через него, взглянула на тускло освещенный номер ворот и заглушила мотор. Стало тихо...
– Можно как-нибудь заехать к вам... взглянуть на ваши работы? – прервала она неловкое молчание.
– Да, конечно! – с удивившей его самого непоследовательностью быстро ответил Никритин. Уже выйдя из машины, собирая свои вещи, он вдруг добавил: – Может... и попозируете?
Кадмина пристально смотрела на него из темноты кабины.
– Не знаю... Может быть... – сказала она наконец, тряхнула головой, потянула к себе дверцу. – Спокойной ночи!
Никритин приветственно поднял руку, и машина, слегка присев, тронулась с места; поплыли размытые полосы бликов на серых бортах.