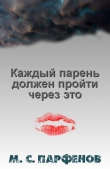Текст книги "Каменный город"
Автор книги: Р. Галимов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 26 страниц)
Ольга шевельнулась.
– Ты это для того и сделал... чтобы увезти меня? – сила она неуверенно.
– А!.. – Бурцев досадливо отмахнулся. – Так никогда ничего и не поймешь...
Он отошел от стола и заглянул под кровать – чемодана на месте не было.
– Ты не знаешь, где мой чемодан? – спросил он.
– Там... – Ольга вяло махнула рукой. – Прости, я брала его...
– Ну, шут с ним! – сказал Бурцев и, сдернув со спинки кровати полотенце, засунул в портфель. Туда же полетела коробочка с бритвой...
Он защелкнул замки портфеля, взял в руки шляпу и обернулся к Ольге, непонимающе наблюдавшей за ним.
– Хозяйке за квартиру уплачено за месяц вперед... Прощай! – сказал он и направился к двери.
И тут только Ольга поняла, что это он уезжает, что вот сейчас, сию минуту, он уйдет. Она вдруг рванулась с места и повисла у него на шее.
– Дима!.. А как же я?.. – без голоса произнесла она. Теперь из ее страдальчески расширенных глаз текли какие-то медленные, безнадежные слезы.
От этого беззвучного голоса, от этих слез у Бурцева перехватило горло. Внезапная жалость к ней стиснула его сердце. Он подхватил ее и повел к дивану.
– Ну, не плачь... Ну, успокойся... – уговаривал он ее, досадуя на свою жалость. Вот всегда так – женщина может сделать что угодно, но стоит ей заплакать – ты же должен ее утешать.
Бурцев вздрагивающей рукой достал платок и стал вытирать ей слезы.
– Ну, послушай... – пытался они внушить ей, как ребенку. – Не на Луну же я улетаю!.. Успокойся, хорошо?.. Ну, поживешь здесь... Обдумаешь... Ну, шут с ней, посоветуешься с мамой... Хорошо?
Ольга лишь слабо кивала головой.
– Ну, а потом, если захочешь, приедешь... Хорошо? – сказал Бурцев и погладил ее по голове. Ольга снова кивнула, но вдруг упала ничком на диван и уже в голос зарыдала. Бурцев смотрел на ее трясущиеся узкие плечи и растерянно топтался на месте, не зная, что предпринять.
– Ну что ты будешь делать. Ну, Оля!.. – приговаривал он умоляюще.
Она приподнялась на руках и, обернув к нему заплаканное, мокрое лицо, проговорила сквозь рыданья:
– Прости... я... я... сейчас успокоюсь... я... пойду провожать...
Бурцев опустился рядом с ней и привлек ее к себе.
– Ну, будет... Будет... – говорил он, поглаживая ее худенькое плечо. Ольга, прижавшись к нему, постепенно затихала. Наконец она подняла лицо и, силясь улыбнуться накрашенным ртом, сказала:
– Хороша я, наверное, сейчас... Как только по улицам пойду?..
– А ты не ходи, – мягко сказал Бурцев, сжав ладонями ее щеки. – Пойду один... Так будет лучше.
Ольга, не мигая, смотрела на него.
– Поцелуй меня, – сказала она и закрыла глаза.
Бурцев помедлил и поцеловал ее в мягкие, соленые от слез губы. Поцеловал в последний раз...
По тому, как скоро высыхали ее слезы, Бурцев предчувствовал, что она так и не решится, видимо, приехать к нему. Нет, по-настоящему лукавить и притворяться она не умела. Может быть, поэтому ей и суждено всю жизнь просидеть на маленьких, незаметных ролях, которые могли бы исполнять даже статисты!..
Над чем же она плакала?.. Над собой? Над их недолгой и сумбурной совместной жизнью?
...Бурцев с грустью смотрел на проплывающие за окном вагона дачные предместья Москвы. Проносились деревянные платформы и голубые игрушечные здания пригородных станций. Как медные трубы, вздымались к небу сосны, освещенные косыми лучами солнца. Взлетали и опадали нотные строки телеграфных проводов.
Надолго врезалась в память солнечная мирная картина: белеет меж красных стволов сосен опрятная дача, и к ней по песчаной дорожке бежит девочка в белом платьице, катя перед собой детский обруч.
Потянулись дни дорожной скуки, кажущиеся нескончаемо длинными. Бурцев большей частью лежал на своей полке и читал купленный на вокзале номер «Знамени». Но читал скорее механически, одними глазами, лишь бы только скоротать время. Накатывалась дрема, и он засыпал, бессознательно ощущая, как в нем все более и более притупляется душевная боль. Да, дорога лечит печали...
Затем он вставал и шел обедать в вагон-ресторан. В проходах между вагонами как-то бодряще метался гул колес и вихрился воздух, проникающий сквозь предохранительные гармошки.
Соседями Бурцева по купе оказались два студента-спортсмена, возвращавшиеся с каких-то соревнований, и экономист из Ташкента. У спортсменов нашлись подруги в другом вагоне, и они целыми днями пропадали там. Экономист же – немолодой, толстенький, с наметившимся брюшком – оказался на редкость усидчивым и общительным человеком.
Узнав, что Бурцев впервые едет в Ташкент, он проникся просветительными идеями. Однако его озадачивала сдержанность Бурцева. Его даже несколько обижало то, что Бурцев, как ему казалось, проявляет недостаточно интереса к новым для себя местам.
– Да-а... – говорил он. – Сейчас люди едут в неведомые края, и как-то мало в них этого, знаете, любопытства...
– Да что же уж совершенно небывалого могу я увидеть? – обернулся к нему Бурцев. – По вашим же словам – большой промышленный город!.. Новые дома, театры, троллейбус?.. Но я их видел в десятках других промышленных городов. Люди?.. Мне кажется, они везде одинаковы – руками работают, ртом едят. И если они не мазурики, не бюрократы и не лентяи, то работают хорошо и болеют за свое дело... Остаются разве что климат да национальные обычаи. Ну, а это, – приедем – увидим.
Экономист растерянно взглянул на него и задумался.
– Да, пожалуй, вы и правы... – произнес он. – Как-то незаметно расстояния в стране сократились, и всюду яснее стало проступать общее, определяющее для нашего единого государства.
Он доверительно наклонился к Бурцеву.
– А вот когда я ехал, – сказал он, – это была – Азия... с верблюдами и скорпионами. И заметьте, в нашем купе и для новичков, и для аборигенов скорпион был главным предметом разговоров. Каждый спешил рассказать – как и при каких обстоятельствах увидел или убил его. Говорилось обычно в таком роде: «Сижу, значит, за столом, вижу – ползет по стене. Я его линейкой – в стакан с чаем: не ползи, подлец!» Создавалось впечатление, что эти смертельные, по словам рассказчиков, насекомые так же обычны у них, как мухи.
– Ну, а все же... есть они? – из вежливости спросил Бурцев, подумав про себя: «Вот еще наказание! Послал же бог философствующего соседа!»
– За тридцать лет видел двух...
Экономист смущенно улыбнулся и занялся свертком с провизией.
Бурцев вышел в коридор покурить. За окном бежали Оренбургские степи, где и поныне гуляет с посвистом резкий ветер пугачевской вольницы. Но, покрытая весенней травой, степь не производила того безотрадного впечатления, какое остается у более позднего путника при взгляде на выжженный солнцем простор.
Поезд остановился на каком-то разъезде. «Ждем встречного», – сказала проводница, и пассажиры посыпались на откос.
Ветер, дующий не порывами, а сплошным непрерывным потоком, свистел в ушах на одной тоненькой ноте. Стрекотал сверчок – извечный дух степной тишины, в бескрайности которой тонули людские голоса. Какие-то смельчаки отбежали в сторону и торопливо рвали полевые цветы. Легкие подолы женщин и полосатые пижамы мужчин трепетали на ветру и липли к ногам.
И опять стучали на стыках колеса, и низко над горизонтом плыло, не отставая от поезда, солнце.
Затем потянулись поросшие камышом тугаи Аральского моря. Вода, подступающая к самым рельсам, сверкала такой неистовой синью, зелень отсвечивала таким клейким лаком, что начинало темнеть в усталых глазах. И Бурцеву в стуке колес чудились знакомые ритмы.
А там, над травой,
Над речными узлами,
Весна развернула
Зеленое знамя, —
И вот из коряг,
Из камней, из расселин
Пошла в наступленье
Свирепая зелень.
Под Ташкентом поезд вступил в полосу культурных садов. Теперь он бежал между сплошными шпалерами доцветающих яблонь и отцветшего миндаля, высыпавших к самой насыпи, как толпа болельщиков на финише. Пространство окна прочерчивали длинные глинобитные стены; уносились назад серебристые тополя; пролетал, сверкнув дамасским клинком, арык...
Балансируя на широко расставленных ногах, Бурцев кончал бриться, заражаясь общей безотчетно-веселой тревогой, которая наступает за несколько часов до конца пути.
Был солнечный южный полдень. Подрагивая, медленно поскрипывая, вагон остановился, немного не дотянув до конца перрона. Наступила минутная тишина. Затем в этой тишине всплыли приглушенные голоса встречавших, махавших руками, бестолково метавшихся мимо вагона людей.
Отпустив нагретый солнцем поручень, Бурцев одним из первых соскочил на черную, пропитанную мазутом и угольной пылью землю. Его никто не встречал.
Бурцев с любопытством оглядывал просторную, залитую асфальтом и насыщенную солнцем привокзальную площадь, по противоположной стороне которой проходил серебряный с голубым трамвай. Сцеп и три вагона, как в самых больших многолюдных городах. Он оглянулся на высокое, в три крыла, здание вокзала... Откровенно говоря, он немного лукавил с экономистом, как часто случается в спорах, – а на самом деле любил приезжать в новые, незнакомые дотоле города. Какое-то бодрящее, романтическое волнение, известное путешественникам, охватывало его при этом.
Однако следовало поторопиться захватить такси. Бурцев направился к небольшой стайке машин с шахматным бордюром на кузове.
– Свободны? – спросил он, открывая дверцу.
– А далеко ехать?
Бурцев назвал адрес завода.
– Садитесь... – сказал шофер, ленивым движением повернув ручку счетчика.
Естественно, рассмотреть город Бурцев не успел. У него осталось лишь смутное впечатление большой протяженности его... Невысокие каменные дома... Длинные улицы... Зеленые тополя и акации вдоль нескончаемых тротуаров... И цветники... Целые полосы цветников по обеим сторонам асфальтированной дороги...
Гармашева он разыскал в бухгалтерии завода занятым какими-то денежными делами.
– Дмитрий, черт! Приехал! – шумно обрадовался Гармашев. – Опоздай на день – не застал бы меня. Вызвали, понимаешь. Еду сегодня. Придется тебе принимать дела у главного инженера... Николай Николаевич! – позвал он. – Таланов!
Подошел худощавый, тщательно одетый человек с серыми, гладко зачесанными назад волосами. Близко посаженные зеленоватые глаза внимательно взглянули на Бурцева.
– Знакомься, Таланов, с начальством! – сказал Гармашев и обернулся к Бурцеву: – Вот у сего мужа и примешь дела. И, кстати, не забудь – в понедельник отправляйся с ним в горком, на актив. Так сказать – с корабля на бал...
Бурцев пожал маленькую, с сухой кожей, ладонь Таланова. А Гармашев уже звал его с другого конца комнаты.
– Сей лукавый главбух прозывается Зиновий Аристархович, – сказал он, тыча пальцем в огромную утробу благостного с виду блондина. – Но ты особенно не доверяй этой постной физиономии: святости в нем ни на грош, а вот жила знатная.
– Да бог с вами, Семен Михайлович, – по-бабьи отмахнулся ладонью блондин. – Ни за что ославите человека...
Он поздоровался с Бурцевым, будто тестом обволакивая его руку, и подал какие-то бумаги Гармашеву для подписи.
Бурцев взглянул на Семена – все такой же румяный, плотный, шумный. «Жизнь – вроде зеркала, – любил он повторять. – Улыбайся ей – она тебе улыбнется».
– Ну, все, что ли? – взглянул он на главбуха, лихо выводя последнюю подпись.
– Все, все, Семен Михайлович, все... – затоптался тот, беря бумаги.
– Так давай почеломкаемся!..
Гармашев расцеловался с ним и шумно, с прибаутками стал прощаться с остальными, особенно сочно целуя в щеки молодых сотрудниц.
– С тобой не прощаюсь – приедешь на вокзал, – обернулся он к Таланову. – Машина-то твоя бегает? Ну, лады. Поехали, Дмитрий! По дороге обговорим...
И Бурцеву, оглушенному почти забытым за протекшие годы темпераментом Гармашева, пришлось вновь поехать по тем же улицам, что и час назад, но в обратном направлении.
– Вот – будет твоя машина, – сказал Гармашев, удобно усаживаясь на заднем сиденье коричневой «Победы», и хлопнул рядом с собой: – Садись...
Бурцев сел и, вынув сигареты, предложил Гармашеву.
– Поехали, Миша! – Гармашев откинулся назад и закурил.
Некоторое время ехали молча.
– Вера уже там? – спросил наконец Бурцев.
– Вера? – Гармашев искоса взглянул на него. – Веру с Витькой я еще позавчера отослал. Пусть поживет у родителей, пока не устроюсь...
Опять помолчали. Начать разговор, – как после всякой длительной разлуки, когда жизнь каждого развивается своим путем, когда исчезают связующие звенья пережитых вместе событий, – было трудно.
– Ну, лады... – встрепенулся Гармашев. – Слушай, ситцевое... Заводик я тебе оставляю неплохой. Говорю не хвастая... Программу даем. Знамен – целая куча. Третий год не было случая, чтоб сидели без премий. Смекаешь?
Бурцев молча кивнул головой.
– Но сейчас... – Гармашев глубоко затянулся и взглянул на Бурцева, – сейчас имеется деликатное дельце. Навязали мне, понимаешь, один станочек... Ну, немного нажали, немного на самолюбии сыграли, – дурацкая, между прочим, вещь, – и вписали в план второго квартала. А квартал-то кончается? Понимаешь? Но ты не бойся, – подтолкнул он под локоть встревоженно взглянувшего Бурцева. – Не бойся... Положившись на планиду, мы спроектировали его и – прямо с листов – спустили в производство. Уж на что я везучий, а такого не помню: все узлы сходятся тютелька в тютельку. Так что, если аллах повелит, дашь в срок – и пожнешь мои лавры. Цени!
Гармашев довольно рассмеялся и, не дав Бурцеву заговорить, взял его за локоть.
– Но вся собака – в этом станочке, – протянул он, на мгновенье задумавшись. – Твой конек, между прочим. Полуавтомат. Должен давать шпиндели для хлопкоуборочных машин. А шпинделей этих требуется чертова уйма. Вот представители завода-заказчика и жмут на нас. Главк – жмет, министерство – тоже, а уж о местных партийных органах и говорить нечего...
Гармашев придвинулся ближе и, значительно округлив глаза, понизил голос.
– Здесь это политика, понимаешь? – сказал он. – Не дашь станка – завод-заказчик не даст хлопкоуборочных машин. Значит – что? Срыв хлопкоуборочной!.. А пришьют такое – не зарадуешься... Так что, если хочешь жить в мире с горкомом, обрати особое внимание на сей факт.
Бурцева несколько покоробил этот явно конъюнктурный совет, однако он решил не перебивать Гармашева. Нужно молчать и слушать. Успеть хоть кое-что намотать на ус за оставшееся короткое время. Тем более что он совершенно не представлял себе так называемых «местных условий».
– Ну, люди... – Гармашев откинулся назад. – Людей сам увидишь. В основном – ничего народ. Главное – сумей поставить себя. И – поощряй, поощряй... Я, брат, действую по павловской системе – вырабатываю у них условный рефлекс на премию. Наука, брат!..
Гармашев захохотал. Бурцев невольно улыбнулся, узнавая прежнего Семена, любившего щегольнуть цинизмом.
– Этот Таланов, он дока, – оживился Гармашев. – Правда, суховат... Я люблю людей открытых... Но дело знает и, если не будешь наступать ему на мозоли, – против не попрет. И не забудь, отправляйся с ним в горком. Не вздумай еще с утра пораньше, да в понедельник, дела принимать... Успеешь... А там – директора соберутся, поглядишь – с кем соседствовать...
– От нас Таланов выступит? – спросил Бурцев, с беспокойством думая о предстоящих встречах.
– Да ты не волнуйся, спросят – выскажется, шпаргалка у него есть, – улыбнулся Гармашев и вдруг лукаво подмигнул. – А какую секретаршу я тебе оставляю – клад! Такая, брат, женщина! Не секретарь – а референт министра. Она тебе всю нашу ситуацию, как на картах, разложит. Если б не Верка... – он не закончил и нерешительно помолчал. – Увез бы с собой! А может... и не поехала бы... Бес ее знает!..
Он достал портсигар и снова закурил.
– Такая, брат, женщина!.. – выдохнул он густую струю дыма, и Бурцеву почудилось в этом вздохе сожаление не об одних деловых качествах неведомой женщины.
– Может, сейчас подъедет с Талановым, познакомишься...
Но Таланов приехал на вокзал один. И Гармашев на мгновенье помрачнел.
...Бурцев откинул нагревшуюся простыню и, протянув руку к столику, на ощупь достал из пачки сигарету. Приятная истома пробегала мурашками по усталому телу. Он отбросил спичку и, заложив руки под голову, прикрыл глаза.
И уже в какой-то полудреме снова увидел со странной отчетливостью: темный проем двери, и в нем – женщина в красном халатике, пылающем от солнца.
ГЛАВА ВТОРАЯ
С некоторых пор Бурцев не любил воскресных дней: вынужденное безделье вызывало тревожные, мутящие душу мысли, которые в будни он бессознательно стремился заглушить работой. И он откровенно радовался тем немудреным хозяйственным хлопотам, которые предстояли сегодня. Следовало, коль скоро он решил остаться на новой квартире, приобрести кое-что из постельного и носильного белья. Нельзя же оставаться на положении гостя!..
Бурцев смотрел в открытое окно трамвайного вагона и жмурился от ветра, казалось, настоянного на утреннем солнце и клейкой зелени тополей, тень от которых частоколом струилась мимо:
«А не пройтись ли до обеда по городу? – мелькнула мысль. – День, шут его возьми, велик... Не таскаться же потом со свертками...»
Он справился у соседки, как попасть в центр.
– Можете у Дворца пионеров слезть, можете – возле «Семашко», – ответила та.
Бурцев выбрал второе.
Хлынувшая из вагона толпа вынесла его через короткую улочку на Театральную площадь. Он сразу узнал виденное на фотографиях внушительное, несколько тяжеловатое здание оперного театра – последнюю работу Щусева, проектировавшего Мавзолей Ленина. Тяжелые колонны и слегка заостренные арки высокого портика не назойливо, но довольно категорически придавали зданию свое несхожее выражение, определенное поисками местного стиля. Бурцев постоял в сквере перед театром, обошел вокруг большого фонтана, вода в котором била из огромной бронзовой коробочки хлопка. Скользнул взглядом по клумбам желто-красных тюльпанов и – еще раз оглянулся на театр. Серую облицовку, тронутую непогодой, все же следовало бы подновить...
Бурцев неторопливо двинулся дальше. На срезанном углу здания поблескивала – золотом по черному – волнистая надпись «Ташкент». «Гостиница, – догадался Бурцев. – Совсем как в Москве – гостиница «Москва». Еще дальше – возвышался круглый купол концертного зала имени Свердлова. По стилю построек было видно, что это одна из старых улиц города. Бурцев еще не мог сказать определенно, но что-то общее в этом стиле чувствовалось. «Свой колониальный стиль, что ли, начинал здесь складываться?» – подумал он. Пока ему бросилась в глаза одна особенность – сравнительно маленькие окна, призванные, очевидно, пропускать как можно меньше солнечных лучей...
Бурцев свернул налево и, увертываясь от автомашин и троллейбусов, прошел мимо высокой квадратной башни, которую ташкентцы именуют «курантами», – и шел, не разбирая дороги. То сворачивал в узкие старые улочки с приземистыми каменными домами; то выходил на простор новых асфальтовых улиц, по обочинам которых тянулись сплошной стеной, далеко сливаясь в перспективе, высокие деревья; то проходил мимо железных решеток парка...
Через час он снова очутился у знакомой башни – на сквере Революции. Время близилось к полудню, и солнце, почти зримо, как желтый детский шарик, летело в зенит.
Бурцев, сняв пиджак, перекинул его через руку и, ощущая, как влажная от пота рубашка холодит спину, пошел по теневой стороне главной магистрали города – улице Карла Маркса. «Кажется, становится жарковато, – иронически сказал он себе. – Привыкай, северянин!»
Хотелось освежиться. Но тумбообразные голубые тележки с газированной водой брались приступом...
Миновав магазин «Динамо» – своеобразное старинное здание, облицованное серым песчаником, – Бурцев вышел на перекресток, один из углов которого занимал павильон мороженого.
Бурцев занял место под большим полотняным зонтом, который осенял круглый мраморный стол, вынесенный почти к тротуару, и, заказав пломбир, засмотрелся на текущий мимо поток людей.
Каждый немолодой город имеет не только свое лицо, определяемое архитектурой, планировкой, зеленым богатством, но и свой ритм уличной жизни. Здесь этот ритм, как отметил про себя Бурцев, был значительно более замедлен, нежели в Москве. И особенно интересно было в этом отношении понаблюдать за женщинами. Здесь не было того мелкого, сосредоточенно-торопливого шага, может быть первоначально выработанного слишком узкими юбками. Движения были более свободны, непринужденны. Бурцев видел девушек, которые, взяв друг друга под руку, шли широким, вольным шагом. Одеты они были лучше, чем на севере, – не богаче, а как-то более к лицу, ярче, с бо́льшим вкусом; преобладали открытые, легкие платья, обнажавшие руки и ноги, которые уже окрасились в мягкий янтарь загара.
Бурцев доел мороженое и, неторопливо обмахиваясь шляпой, глядел на улицу.
Есть что-то волнующее в этом наблюдении со стороны за потоком самых разнообразных людей. Волнующее и чуть грустное... Сотни жизней, сотни судеб... Складных и нескладных... Всяких... Каждый из них мелькнет – и уйдет из твоей жизни, быть может навсегда... И никто из них не узнает, что вот сейчас сидит худощавый человек тридцати девяти лет, смотрит с задумчивой грустинкой в больших серых глазах – и думает о них...
Выходить под солнце из этого прохладного места Бурцеву еще не хотелось, и он заказал себе вторую порцию пломбира. Обернувшись, он задержался взглядом на девушке за соседним столом. Смешно морща нос, она кормила со своей ложечки приятеля... И вдруг – как это случается, когда какая-либо деталь – жест, запах, знакомая мелодия – напомнит о давно минувшем, – вдруг мысли, которые Бурцев старался отогнать с самого отъезда из Москвы, нахлынули на него.
Ольга!.. Ольга!.. Вот так же она кормила его однажды. И так же морщила нос... Когда это было? Во вторую или в третью встречу?..
Они познакомились случайно, немногим более полугода назад.
Бурцев, получив очередной отпуск, остался в Москве. У него были благие намерения отдохнуть дней десять, а уж потом продолжать работу по автоматике. Но в первую же неделю, заново обойдя картинные галереи, он почувствовал, что абсолютное безделье лишь утомляет. Быть бездельником, очевидно, тоже надо уметь!.. Лишь из упрямства, выполняя намеченную программу, он продолжал бродить по городу.
Был канун Октябрьских торжеств.
Бурцев стоял на улице Воровского, перед Театром киноактера, и разглядывал пестро размалеванный афишный щит.
– Хэлло, Дима!.. – окликнули его. – Бурцев!
Бурцев оглянулся. Выйдя из подъезда Дома литераторов, дорогу перебегал Шутов. Еще на третьем курсе, напечатав несколько стихотворений, он оставил учебу. Впрочем, тогда пронеслось что-то вроде эпидемии: весь курс писал стихи. «Стихийное бедствие», – острили сами же студенты. Не избежал поветрия и Бурцев. Даже напечатал одно стихотворение. Затем увлечение прошло. Но любовь к поэзии осталась...
– Привет, старик! Здорово, что тебя встретил! – суматошно поздоровался Шутов. – Скажи, ты куда-нибудь приглашен?
– Пока что – нет... – несколько удивленно ответил Бурцев.
– Порядок! Понимаешь, я заказал столик на четверых, а Витька, подлец, уехал в командировку. Давай с нами!..
Бурцев никогда особенно не дружил с Шутовьм, не знал, кто этот Витька, но, с другой стороны, – не каждый же день попадешь в Дом литераторов. Он согласился.
– Гони десятку, – заторопился Шутов. – Побегу – внесу за место.
– А кто еще будет? – поинтересовался Бурцев.
– Девчата из этого заведения, – уже убегая, махнул рукой Шутов в сторону театра.
...Бурцеву уже доводилось бывать в этом высоком зале – с хрустальной люстрой, с деревянными коричневыми панелями вдоль стен, с резными антресолями и беломраморным камином. Можно было назвать благоговейным то чувство, которое каждый раз охватывало Бурцева, когда он вступал сюда. И его бессознательно начало раздражать слишком шумное поведение Шутова. Тот вскакивал, отбегал, с кем-то здоровался, затем принимался с плоскими шутками разливать вино.
– Китов здесь не ищи, – говорил он Бурцеву, перехватив его любопытствующий взгляд. – Сидят по своим мышиным норкам.
Девушки рассмеялись.
– Ого, он уже способен кита превратить в мышь.
Они оказались довольно милыми, эти девушки. Одну звали Герта, другую – Ольга. Герта – в зеленом, Ольга – в темно-красном.
Поначалу Бурцеву понравилась более живая Герта. И танцевала она лучше. Когда оркестр наверху заиграл танго, она с утрированной негой, очевидно кого-то копируя, положила руку на плечо Шутова и пошла, покачиваясь, изогнувшись в гибкой талии.
Бурцев танцевать отказался, и Ольга вступила в круг с другим партнером. Танцевала она как-то механически. «У нее плоская спина», – подумал Бурцев, наблюдая за ней. Вскоре она оставила партнера и вернулась к столу.
– О чем вы задумались? – по-детски надув губки, спросила она.
– Пытаюсь вспомнить – в каких фильмах видел вас, – слукавил Бурцев.
– Ой, да что вы! – всплеснула она руками. – У меня малюсенькие роли! Не стоило и ВГИК кончать...
– А все же?
– Не скажу! – опять по-детски тряхнула она головой. – Вот почистите мне лучше...
Она взяла из вазы апельсин и протянула Бурцеву.
Ему выпало провожать ее домой. И по дороге – то ли от выпитого вина, то ли от того, что долго ни с кем не беседовал, – он вдруг разговорился. Рассказал о себе, добрался и до вопросов брака. Как у многих мужчин, не женившихся в молодые годы, у Бурцева сложился свой идеал жены – жены-друга. А любви в этой теории наивно уделялась второстепенная роль...
Прощаясь у подъезда, – жила она далеко, в районе Серебряного Бора, – Ольга тихо сказала:
– Спасибо!.. Было очень интересно с вами... – Она опустила глаза. – Со мной обычно не говорят так серьезно и... содержательно, что ли... – Она на мгновенье подняла глаза и снова потупилась. – Я бы... хотела иногда поговорить с вами. Бывает же так – надо поговорить...
– Да, да... – обрадовался Бурцев, уловив знакомое чувство. И Ольга уже начинала ему казаться умницей и вообще замечательной. Свидание было назначено на другой же день. Так начались их встречи...
Они бродили по облетевшим осенним бульварам, заходили на дневные сеансы в кино, затем обедали где-либо в ресторане... Ольга обычно слушала, изредка рассказывая пикантные истории об известных актерах. О себе она говорила мало. Дочь товароведа – чего там!.. Все время училась, училась и вот – работает. Заметных ролей пока не дают... Бурцев возмущался. Ему казалось, что Ольгу несправедливо зажимают.
Однажды в хмурый, моросливый день, посмеиваясь над собой, они зашли в кафе «Прохлада» на улице Горького. Ольга была сластена, и ей вдруг захотелось мороженого. В почти пустом зале, хохоча и морща нос, она заставляла упиравшегося Бурцева есть со своей ложечки.
К вечеру дождь усилился, и Бурцев провожал ее в машине. Возле дома она погладила его руку и сказала с обычной детской ужимкой:
– Вы хороший...
Бурцев привлек ее к себе и поцеловал. Когда она выскользнула на тротуар, свет проезжавшей мимо автомашины ударил ей в лицо, и Бурцев увидел сверкнувшие влажным синим блеском глаза...
Наутро дождь продолжал идти, и она приехала к нему. Порозовевшая на холоде, с каплями дождя в золотистых крашеных волосах, она казалась еще моложе своих двадцати пяти лет. Но здесь, у себя дома, Бурцев не решился ее поцеловать...
Было решено пить чай. Хозяйствовать вызвалась Ольга. Впрочем, делать она ничего не умела. Хлеб нарезала толстыми, неуклюжими ломтями; снимая шкуру с колбасы, слегка порезала палец; выпачкалась в сливочном масле... Но все это казалось только забавным, и Бурцев смеялся вместе с ней над тем, что она «неумеха». Мыть посуду на кухню они пошли вместе. Ольга, отстранив Бурцева от раковины, пустила сильную струю воды и сунула под нее стакан, который тотчас выскользнул и разбился. Держа мокрые руки на весу, она обернулась к Бурцеву. В глазах ее мелькнул уже неподдельный испуг, как у напроказившего ребенка. И, может быть, именно этот наивно-напуганный, жалкий взгляд толкнул Бурцева к ней. Он взял ее за плечи и неожиданно для себя сказал:
– Оля!.. Что, если мы поженимся?..
Она с минуту непонимающе смотрела, как-то всхлипнула – и молча обвила его шею мокрыми руками. Из крана все еще с шумом текла вода, обдавая их брызгами...
А затем Бурцев был у нее дома...
Открыла им домработница, тихая незаметная женщина.
– Феня, прими, – сказала Ольга и, прежде чем Бурцев успел помочь, скинула свое пальто на руки домработнице.
Затем, стащив с него макинтош, тоже сунула ей.
– Пойдем!
Она взяла его за руку, потащила в комнату.
– Мама, знакомься! – сказала она вставшей с кресла женщине и отошла в сторону.
Бурцев, натянуто поздоровавшись, оглянулся.
Комната была большая, светлая. На полу стлался голубой китайский ковер с длинным ворсом. Низкая мягкая мебель тоже была с голубой обивкой. У одной стены сверкал лаком и стеклом буфет, у другой – поблескивал корешками подписных изданий книжный шкаф. В углу, на тумбочке, стоял телевизор «Темп». Сквозь тяжелые портьеры Бурцев разглядел двери еще в две комнаты.
– Хорошая у вас квартира, просторная, – сказал он первое, что пришло на ум.
– И все же, знаете, тесно, – ответила мать Ольги, Анастасия Ивановна. Она чуть изломила тонкие брови. – Мы даже не смогли выкроить кабинет мужу. Видите, приходится держать книги здесь.
По ее притворно-небрежному жесту Бурцев понял, что книгами следовало восхититься, но промолчал.
– Здесь у нас спальня, – продолжала Анастасия Ивановна, указав на одну из дверей. – А здесь – комната Олюшки, ей ведь надо работать над собой...
Улыбаясь одними губами, она взглянула на дочь.
– Талант – вещь редкая, – продолжала она. – Надо его поддерживать... Кажется, так? Я не наврала?
Очевидно, и тут следовало восхититься ее эрудицией, но Бурцев лишь молча наклонил голову. Он чувствовал себя неловко перед этой высокой худой женщиной в черном глухом платье. У нее были такие же голубые, как и у Ольги, глаза. Неестественно белое лицо ее казалось бы поблекшим, если бы не тяжелый подбородок, к которому от тонких бескровных губ опускались строгие складки. Бурцев еще не видел отца Ольги, но понял, что хозяйка здесь – эта властная женщина.
– Да что же это я держу вас на ногах! – снова как-то притворно ахнула она. – Старею, глупая... Садитесь, пожалуйста.
Бурцев сел в глубокое низкое кресло. Ольга тут же пристроилась на подлокотнике. Постепенно разговорились. Анастасия Ивановна поинтересовалась местом его работы, сетовала, что быть главным инженером, наверно, очень хлопотливо и ответственно; словно невзначай, спросила об окладе.
«Форменные смотрины жениха!..» – снисходительно посмеивался про себя Бурцев, отвечая на ее вопросы.
– А квартира у вас что – поменьше? – спросила Анастасия Ивановна, мельком окидывая взглядом свою комнату.