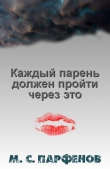Текст книги "Каменный город"
Автор книги: Р. Галимов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 26 страниц)
– Эй, вылезайте! В колеса попадете!..
...Первая ссора. Шли через улицу и в глубокой – по щиколотки – пыли увидели серебряные монеты. Кусочки голубого неба в серой обжигающей пыли! Рассыпал кто-то, растерял. Шарили руками в податливом прахе, выдирали друг у друга монетки. Задыхались, чихали. И Афзал ударил его по лбу. Не разговаривали весь день. А вечером ссыпали все монеты в Алешкину копилку, помирились... Бренчали монеты в стальном бочонке, на котором был вырезан штамп «Гострудсберкасса». Прочный бочонок, не откроешь без ключа. А ключ в сберкассе. Правда, несколько позже дядька научил отпирать копилку. Ножницами... Открыли, купили кричащих чертиков – «уйди-уйди»...
...Весной играли в ашички. Потряхивали костяшками бабок в карманах, мерялись силами со старшими мальчишками и проигрывали. Потом неслись на крышу – пускать змейки. Пружинила в руках натянутая нитка, гундосила жужжалка-змейка. Пахло прелью, весенним ветром и красными маками, которые неведомо почему прорастали на земляной крыше. Сорвешь зеленый бутон, стукнешь о лоб – взрывается, как хлопушка. Весело было...
...А потом взяли отца Афзала. Султанходжа-ака уходил, сжатый какими-то двумя в сером. Отводил глаза, ни на кого не смотрел.
Фарида-ханум, его жена, бодрилась, рассказывала соседкам всякие небылицы, а ночами плакала. Жилось ей трудно: трое детей. Благо, квартиранты помогали. Пошла работать в артель – вышивала заготовки для тюбетеек.
Афзал и Алеша тоже занялись производством: притащили два булыжника-голыша, раскалывали абрикосовые косточки. Так уж позывало кинуть несколько ядрышек в рот! Но крепились. Вечерами продавали «соленый миндаль», сновали меж пивных столиков в парке с бумажными фунтиками в руках. Серебрилась в свете лампочек пыль. Пахло шашлыком. Сальный луковый дым сплющивал, стягивал в оборку желудки. Но терпели, несли выручку домой. Лишь иногда покупали лист переводных картинок. Сидели потом и старательно оттирали бумагу, слюнявя пальцы.
...Случился непоправимый скандал в семье Афзала.
Фархада принимали в комсомол, и он заявил, что его отец враг народа, что он отрекается от отца. Что же это? Значит, он заодно с теми, в сером? Запало в душу сомненье. Фархад ведь старше, понимает больше. Может, он и прав?.. Афзал и Алеша терлись возле него, но он уходил в свои книги, отгонял их. Фарида-ханум плакала и вытирала глаза концами голубого марлевого платка.
...А вскоре вернулся Султанходжа-ака – слегка сгорбленный, притихший. Обошлось легко. Оправдался – от несуществующей вины. Но петь уже он не мог: не разрешалось. Копался целыми днями в цветнике посреди двора. Афзал и Алеша помогали ему, сажали «петушиный гребень» и райхан, розы и георгины. А Фархад не выходил из своей комнаты, когда отец возился во дворе. Фарида-ханум не могла простить его, а он, ставший уже совсем взрослым, как-то совсем откололся от младших. Только Джура, средненький, захаживал к нему, носил еду.
Наконец Султанходжа-ака подыскал работу в аптеке.
Афзал и Алеша бегали к нему, носили обед.
Сверкали полчища стеклянных пузырьков и бутылочек, пахло лекарствами. Шурша, вываливалась из ящиков древесная стружка. Таинственно взблескивали в картонках ампулы. Интересно было в аптеке, в задних ее комнатах!..
А потом случился пожар. Загорелся ночью соседский дом. Султанходжа-ака носился с ведром по крыше и сзывал людей на помощь:
– Эй, мусульмане, отзовитесь!
На пожаре и помирились Султанходжа-ака и Фархад. За делом, без объяснений. Бегали вместе, спасали чужое добро. Мокрые в потеках копоти, отец и сын...
...Что-то изменилось в самом времени. Сказки отошли в прошлое. Вечера с Афзалом проводили в соседском дворе – под старым, закрывающим двор платаном. Соседи купили детекторный радиоприемник. В черных наушниках гудел и царапался небольшой жучок. Потом пробивался тоненький голос, словно жук заговорил. Слушали по двое, разъяв наушники: «...работает РВ‑11...»
...Сколько же с тех пор прошло времени! Целая жизнь... Вот теперь орет какой приемник – глухой услышит!
...Вышел Фархад – «у‑ах!» – потянулся, помахал руками.
– Черти! И в воскресенье не дадут поработать над собой – поспать! – ругался он и начал приседать на месте, разминаться. – И ведь никто же не слушает...
Растирая ладонями волосатую грудь, бугром выпершую в глубокий разрез рубашки, он встал за спиной Афзала, смотрел на его холст.
– Эх вы... картонажники! – кинул он привычно-пренебрежительное художникам. – Чему вас только учат? Совсем же не знаете анатомии! Здесь какая мышца? Дельтовидная, три пучка. А ты что изображаешь?
Никритин встал и подошел. Посмотрел на «Виноградаря» – жанровую вещь, которую Афзал начал еще прошлой осенью. Коричневатый юноша в узбекской бязевой рубашке с клиновидным вырезом нес на голове плоскую корзину с виноградом. Чувствовалось, как пружинят его ноги, как пружинит тело. И все же... что-то было не так. Шел он через ишкам – через зеленый тоннель виноградника. В арке тоннеля светилось небо – приглушенное, осеннее. И на всем лежали рефлексы этого неба – голубовато-синие тона палитры Афзала.
Никритин посмотрел на палец Фархада, почти упершийся в непросохшее масло.
Да, прав медик. Напряженная дельтовидная мышца плечевого пояса выглядит не так.
– И акромиально-ключевой свод не продавлен. Тяжести нет. Как хочешь, но корзина твоя парит в воздухе. – Фархад отступил на шаг назад и склонил голову. – Ты вот поставь-ка что-нибудь на голову Алешке и посмотри... Все равно он филонит и даром перетирает зубами народное добро.
– Моралите, – усмехнулся Никритин. – Быть моралистом – не то же самое, что быть морально здоровым. Ты не чувствуешь этой разницы?
– Чувствую... – ответил Фархад и, вынув сигарету, закурил. – Чувствую, что работа и пустое философствование – не одно и то же...
Он посмотрел на мольберт Никритина, где стоял чистый загрунтованный холст, и отбросил скривившуюся догоревшую спичку.
Что было ему ответить?
Никритин тоже вынул из кармана помятую пачку и вытряхнул сигарету.
– Хорошо! Почему же тогда застряла твоя докторская? – вскинул глаза Афзал. – Почему не пишешь каждый день? Думаешь, ведь так? Хорошо... почему нам нельзя думать? Осуждать других легко...
«Ах, Афзал, Афзал!.. – Никритин щелкнул зажигалкой и закурил, исподлобья взглянув на него. – Друг детства, негромкий мечтатель... Как кинулся на защиту! И об «измене» забыл... А вот Фархад... И откуда у него эта нетерпимость моралиста? Принципиальность или собственные неудачи? Тот самый «комплекс», который он подсовывал ему, Никритину? А может, и вовсе корни глубже? Во всяком случае, в одном помог разобраться Фархад – в нескладице портрета Таты. «Морализировать – значит навязывать оригиналу что-то не свойственное ему...»
Никритин подкинул на ладони зажигалку, посмотрел на нее и сунул в карман.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
Шли через подъездные пути завода. Скользя, спотыкаясь.
Черные шпалы, бурый закопченный снег, синие полоски рельс, похожие на линейки ученических тетрадей.
Пахло волнующим, влекущим, как путешествие, дымком паровоза. Будто на вокзале.
Территория завода представлялась Никритину пейзажем незнакомой планеты.
Космической величины зубчатые колеса, привалившиеся к стене; сконусовавшаяся горками металлическая стружка, рыжая, завитая в длинные спирали; вулканические зарева в окнах литейки; какие-то грохоты и верещанье, какие-то вздохи, словно планета вздыхала...
Все это воспринималось безотчетно, помимо сознания. Впитывалось глазами, слухом, обонянием. Всем существом воспринималось – и напрягало, пружинило все существо.
Но думалось – нелепым образом – о другом. Он не знал, как обращаться к Рославлевой. Величать? Было бы странно в их возрасте... Вероника? Тяжеловато... Просто Ника, как друзья? Фамильярно...
Ни на чем не остановившись, он избегал всяких обращений. При помощи нейтрального «вы». Но это очень затрудняло, и он не мог избавиться от скованности, разговаривая с ней.
Она сама с ходу разбила это препятствие.
– Алеша... Вас ведь Алексеем звать?.. – перешагнула она через рельсу, держась за его руку и пошатываясь на тонком каблуке. – Алеша! Об одном прошу – пусть люди не видят, что вы их зарисовываете. Иначе все пропало: будут позировать. Понимаете?
Никритин скосил глаза на свой заметный альбом.
– Разве что слишком заняты будут... – ответил он и прибавил облегченно, называя ее кратким именем: – Постараюсь, Ника...
Заводоуправление.
– Бильдинг... – сказала Рославлева. – Это на инженерном жаргоне.
Цементированные ступени. Нежилой запах. Гулкие коридоры.
Табличка на двери:
«ЗАВОДСКОЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА»
Из-за желтого конторского стола поднялся чахоточного вида человек, замотанный шарфом. Обогнул стол, пошел навстречу, протягивая длинные руки.
– Ну, обрадовали, Вероника Ксаверьевна! – обеими руками он потряс руку Рославлевой. Мотнулись отросшие неопрятные космы на его склоненной голове. – Спасибо, что пришли, спасибо!..
– Ну что вы, товарищ Чугай!.. – брезгливо, как показалось Никритину, отдернула она руку. – Я получила ваши письма. Но я все равно пришла бы к вам: у нас запланирован репортаж о вашем заводе.
– Да-да-да!.. – засуетился, завозил руками Чугай. Всплыли и отхлынули красные пятна с его лица. – Очень стоит написать. Есть о чем, есть. Скажем, Бердяев... Токарь. Последователь лауреатов. Того же Генриха Борткевича. Работает в счет шестидесятого года. Стоит, очень стоит написать... Но я вам сигнализировал не об этом... – Он покосился на Никритина.
– Это наш человек, – сказала Рославлева, перехватив его взгляд.
«Бердяев», – повторил про себя Никритин, запоминая.
– А-а-а! Понимаю, понимаю!.. – Чугай вернулся за стол, многозначительно помолчал, опустив взгляд. Затем встряхнул головой и развел длинными руками, словно выступая на собрании: – Ведь, това‑а‑рищи! Завод погряз в интригах! Да-да-да! Пренебрежение профсоюзной работой, зажим инициативы – все это налицо! Я намечаю собрание, директор – отменяет. Я приглашаю лектора, директор его – в шею... Что же это, я спрашиваю? Сегодня реформы, завтра реформы... Так нельзя работать. Центросовет не погладит меня по головке за срыв профсоюзной работы! Прошу вмешаться... Да, вмешаться! Факты я вам предоставлю... – Он рывком дернул ящик стола и вынул пачку исписанных от руки листов, скрепленных канцелярской клипсой.
Рославлева, не читая, свернула их в рулончик и сунула в карман пальто.
– Ладно. Походим по заводу, посмотрим... – неопределенно сказала она.
Когда вышли из кабинета, она покосилась на Никритина.
– Ну как?
– Неприятный тип. Я бы его прогнал...
Рославлева засмеялась:
– А знаете... это ленинское выражение: прогоните дурака.
– Не знаю, не читал. Но не понравился он мне. Какой-то... мешком ударенный из-за угла.
– Вот именно. Пойдем-ка теперь в дирекцию, а уж потом – по цехам.
Сунув руки в карманы, она пошла впереди. Никритин прижимал к боку альбом и с тягостным чувством, словно в амбулатории, следовал за ней по широким коридорам.
Мелькали двери, двери... И похожие на артиллерийские снаряды красные бидоны огнетушителей...
В просторной приемной за столом карельской березы сидела девушка с явно искусственными кудряшками и наивным личиком. Нестерпимо молодая, почти девчонка.
– Симочка! – воскликнула удивленно Рославлева. – А где же Эстезия Петровна?
– В декрете... – ответила девушка, приглядываясь, и внезапно зарделась. – Ой, я видела вас, а не помню, откуда вы...
– Боже мой, неужели я так давно не была у вас? – Рославлева пожала плечами и прямо из кармана пальто вынула корреспондентское удостоверение.
Никритин взглянул на коричневую книжицу в ее ладони и понял наконец, чем она не походит на многих женщин: не носит сумочки! Оттого и походка иная – свободней, размашистей.
– У себя Дмитрий Сергеевич? – спросила она.
– Нет, в Москве... Поехал за автоматикой... – улыбнулась Симочка, возвращая удостоверение. – Сагатов его замещает.
– Какой? Старший?
– Нет, Ильяс Муслимович.
– Боже, что у вас делается! – снова засмеялась Рославлева. – А можно к нему? К Ильясу... – она чуть замялась, – к Ильясу Муслимовичу?
– Сейчас спрошу, – ответила девушка и скрылась за дверью, на которой поблескивала стеклянная табличка «Директор Д. С. Бурцев».
– Проходите... – сказала девушка, вернувшись и придерживая дверь.
Из-за огромного черного стола поднялся человек, летами не старше Никритина. Смуглый, черноволосый, с глазами нефтяного отлива. Из нагрудного кармана его спортивной куртки высовывался кончик логарифмической линейки.
– О-о-о! – пропел он. – Товарищ Рославлева! Весна наступает, посевная близится, корреспонденты прилетели, так? Прошу? Здравствуйте.
– Здравствуйте... – кивнула она. – Вы не рады?
– Да ведь... спроста вы не появитесь, так? – рассек он ладонью воздух.
Рославлева усмехнулась и села на указанное кресло возле стола. Никритин, повинуясь жесту, опустился рядом.
Помолчали. Сагатов, видимо по привычке, вытянул из кармана линейку, подвигал рамочку с риской и взглянул выжидающе на Рославлеву.
– Есть кое-что... – сказала она, сдвинув со лба вязаную шапочку с помпоном. – А вообще у нас... вот, с товарищем Никритиным, художником... – Сагатов и Никритин кивнули друг другу. – У нас задание – сделать репортаж о буднях завода, о ваших перспективах в новом году.
– Неудачное время выбрали... – нехотя сказал Сагатов и отвел глаза, в нефтяной темноте которых исчезали зрачки. – Неудачное. Первый квартал. Главк раскачивается, нас лихорадит, так? Неясно с фондами, неясно с кооперированием. Директор в Москве, а меня тут Промбанк жмет. Что хорошего можно написать? Начальник снабжения Кахно просит путевку в сумасшедший дом. Если хотите нам помочь – так? – пишите не о заводе, пишите о третьем механическом. Там мы частично модернизировали станочный парк, там и Бердяев работает... передовик, так? – он повернул голову к Рославлевой и пристукнул ребром ладони по столу.
– А вы стали... осторожным, – глядя ему в глаза, сказала Рославлева.
– На этом кресле чувствуешь себя, как канатоходец без балансира, так? – снова пристукнул рукой Сагатов. – Осторожный... Боюсь, Дмитрий Сергеевич приедет, голову снимет.
– Вот видите!.. – засмеялась Рославлева. – И при всей осторожности на вас жалуются. Интригуете, говорят...
– Кто говорит? – Сагатов вскочил с места и оперся кулаками о стол, весь подавшись к ней.
– Товарищ Чугай...
– Лиса ему товарищ, так?! Очковтиратель! Хитрый ход придумал: газета заступится, спасет. А он сказал, что есть решение парткома не рекомендовать его при выборах в завком? Не говорил, так?
– Ну я понимаю, он человек не легкий. Но что он наделал такого крамольного?
– Ничего не наделал. Ничего, так? Он не умеет делать. Гремящий болтун! Сзывает собрания в рабочее время. Государству – урон, рабочим – убыток... Говорит, после работы никого не удержишь. Правильно, так? Вам хочется после работы, усталой, слушать, как гремит пустая тыква?.. Как держался при Гармашеве, старом директоре, хочет сейчас держаться. Дом не достроили для рабочих? Черт с ним!.. Коллективный договор нарушается? Черт с ним!.. Жми план, давай премии! Вот его стиль... Если у треножника подгнила одна нога, будет держаться треножник? Администрация, партком, завком – это что? Треножник, на котором стоит завод. Гнилую ногу – вон! Так? – Он внезапно улыбнулся, сверкнув металлическим зубом.
Таким и запомнился – темное нахмуренное лицо и белозубая улыбка.
Цех оглушил Никритина. Это в первое мгновенье. Затем разнообразие звуков и вибраций вошло в него, пронизало насквозь. Взгляд задерживала неторопливая, еще непонятная, но, должно быть, осмысленная суета. Он вздрогнул от окрика и посторонился. Проехал мимо электрокар. Девчонка с припухлыми, словно нацелованными, губами насмешливо глянула на него. Она была в берете и тужурке ремесленницы.
Цех...
Железобетонные пилоны. Столбы света, падающие сквозь стеклянные соты крыши. Ряды станков – токарных и фрезерных. Вопль металла. Люди, словно бы задумавшиеся, склонясь над стонущей деталью. Сосредоточенность, углубленность...
Выстреливались кометные хвосты искр. Зеркально взблескивала сталь. Солнце мешалось с электричеством. И однако обилие света утопало в серости стен и станков, рассеивалось в объеме пролетов. Общий колорит для глаза художника представлялся мрачным. Отсюда, может быть, шла и таинственность, и непонятность творимого здесь...
Рославлева придвинулась к нему и прокричала в ухо, повторила задание: цех, Бердяев, какая-нибудь женщина, поскольку близился март. Женщина... Никритин подумал о той девице с припухлыми губами, что проехала на электрокаре. «Ладно! – кивнул он, раскрывая альбом. – Сделаю!»
Рославлева пошла по накатанной полосе цехового пролета и скоро затерялась в общем мельтешенье.
Синело утро. Ветер забирался за поднятый воротник плаща. Стекла окон на верхних этажах лоснились солнцем. Вновь запахло снегом – поздним, мартовским. Если верить синоптикам, вторгся какой-то циклон.
Стучали каблуки на заледеневших тротуарах: люди шли работать. Бежали школьники, размахивая портфелями и шлепая ими друг друга по спине. Прозрачный парок вырывался изо рта...
На крыльце старого одноэтажного дома возилась женщина. Подоткнув подол, она скребла кирпичи, доводя их до бледной желтизны. Белели ее полные икры – напряженные, сильные. Она разогнулась, отвела свисшие на лоб волосы и выплеснула из ведра воду. Перехватив взгляд Никритина, смущенно улыбнулась. Он помахал ей рукой: дескать, валяй! – и прибавил шагу, закурил на ходу. «Шагу, шагу! Не слышу ножки!» – вспомнилась присказка старшины на лагерных сборах». Да, шагу, чтобы не опоздать. В цех, на завод. Бодрость пружинила икры ног.
Странный организм – завод. Там не было места засасывающей бездумности, там люди не знали покоя души, – ни в большом, ни в малом, – и это волновало, наэлектризовывало, заставляло сопереживать. Никритин еще многого не понимал, но чувствовал, что уже отравился лихорадочкой производства. Люди, производящие материальные ценности, может сами не сознавая этого, жили в ином, мажорном, темпе. «Шагу, шагу!..» На трамвайной остановке было людно. Никритин завернул к киоску «Союзпечать» и купил газету. Еще сыроватая, свежая, она пахла типографской краской. Страницы, словно склеенные, разошлись с трудом. А взгляд быстро обежал их, прикидывая, как легли бы среди колонок его рисунки. «И этим заразился!..» – подумал Никритин, вспоминая номер газеты со своими зарисовками. Вот шумный день был на заводе! Особенно в третьем механическом цехе...
Газета... Шелест бумаги в обеденный перерыв... Неожиданность восприятия...
– Опять Бердяев!
– А как же – король! Умеет давить фасон...
– Бросьте придираться, Надюша-то тоже попала!
– Объективность, факт!
А он, Никритин, словно бы и ни при чем! Никто к нему не обратился с вопросами. На самом ли деле не замечали его, или была в том своеобразная деликатность? Так и не понял тогда... Не понял и иронии, с которой говорили о Бердяеве. Подумалось: «Наверное, обычная реакция на популярность, на обособленность того, кто выделился из массы».
Что бы там ни было, к Бердяеву он приглядывался уже серьезно. И он сам, и его рабочее место действительно выделялись в цехе. Конечно, не тем безвкусным вымпелом, который красовался на его станке.
Серый токарно-винторезный станок стоял в крайнем ряду, возле окна. Падали на него два скрещивающихся снопа света: солнечный, из окна, и электрический, от сильного рефлектора, установленного чуть сзади и сбоку. Витала над станком радужная дымка охлаждающей эмульсий и бросала рефлексы на лицо токаря.
Это лицо – костистое, обтянутое орехового цвета кожей... Эта голова – склоненная мыслью, с глубокими залысинами над высоким лбом... Лицо работника и мыслителя. Не хотелось думать штампами, но все-таки крутилась в мыслях примелькавшаяся фраза: «Единение труда умственного и физического».
Какой же художник прошел бы мимо?!
В тот день или позже – Никритин и не старался вспомнить – родился замысел: написать портрет рабочего. Современника. Рабочего с большой буквы.
Постепенно прояснялась композиция картины: характерный наклон токаря; смотрит за кадр, за рамку; там, за кадром, – станок с обрабатываемой деталью... Именно так: станок не надо писать – не в нем дело. Никакого железа! Только человек! Башковитый, мыслящий, с умными, настороженными руками.
Однажды Никритин пришел в цех с этюдником. Вынул загрунтованный картон и начал делать набросок. Бердяев будто и не замечал его.
Подошла наладчица станков Надя Долгушина. Ее-то и зарисовал для газеты Никритин. Ее, а не ту, на автокаре. Уж так вышло. Кто-то выпихнул Надюшу вперед, кто-то сказал о ней какие-то хорошие слова. Теперь она стояла за его плечом и заглядывала в картон. Смотрела. Молчала.
Никритин, слегка повернув голову, покосился на нее: взгляд – всасывающий, завороженный, перемычка носа подтягивает верхнюю губу... Так называемый гордый профиль. Но он знал – она не горда. Смотрит, не шелохнувшись, как он заляпывает красками картон. Смотрит, дышит неслышно.
Ах ты, Надя-Надюша! Интересное лицо. Бледное, с тонкой кожей, несколько нездорового сероватого оттенка. Нервное лицо...
На другой день Никритин уговорил ее попозировать. Этюд маслом написался как-то неожиданно легко, на одном дыханье. Надя застыла перед картоном и сложила руки на груди:
– Отдайте мне, а?
– Берите...
С тех пор она не отставала от Никритина. Улучив свободную минуту, подходила, смотрела, как он работает. Стояла за спиной, спрашивала о Врубеле:
– Почему одно и то же лицо у «Мечты» и у «Демона»? Почему становится жутковато, когда смотришь на его картину «К ночи»?
Она бывала в Третьяковке. Часами простаивала у полотен Врубеля. И пела про себя «Бандьеро роса», когда смотрела на жесткие и страстные лица его «Испании»...
Что-то в ней было ненавязчивое, мягкое, и Никритин чувствовал, что ему приятно ее внимание.
Никритина толкнули, и он, очнувшись, сложил газету, обернулся.
– Купи, счастливый будешь! – сказал старик с коротко подстриженной седой бородкой. В руках у старика была плоская корзина, полная фиалок. Фиолетовое пятно в сером мазке улицы.
Никритин купил букетик, перевязанный белой ниткой, и понюхал. По какой-то ассоциации вспомнилась Тата. Терраса... Зеленый лиственный свет... Зубы, перегрызающие нитку: она пришивала ему пуговицу и выговаривала:
– Не болтай, язык пришьется!
– Что, есть примета?
– Да, когда зашиваешь на теле...
Тата!.. Писем от нее все не было. И все-таки верилось, особенно в это бодрое утро, – будет! Будет, да!
Грохоча и выдувая из-под себя сухую примороженную пыль, подошел трамвай. Никритин втиснулся в вагон.
...Цех пронизывала – мельтешащим пунктиром – обычная суета, которая начинается перед новой сменой. Одни бежали на инструментальный склад. Другие возвращались оттуда с резцами и оправками в руках. Лишь Бердяев открывал ключом свою персональную тумбочку и раскладывал инструменты так, чтобы во время работы брать их не глядя, автоматически. Ему разрешалось не сдавать уникальные резцы на склад.
Гудит сирена, отмечая первое деление четырехсот двадцати минут полного рабочего времени, и ритм цеховой суеты становится иным. Упорядоченным, сосредоточенным.
Никритин разместился за пилоном, где никому не мешал, поставил на инструментальную тумбочку этюдник и вынул начатый картон. Композиционно картина сложилась, оставалось найти наиболее выгодное движение, самый характерный жест, и внешний ритм портрета готов. О психологической разработке лица можно – так он полагал – подумать позднее, ближе познакомившись с Бердяевым. А пока... уловить бы пока движение! «Остановись, мгновенье: ты – прекрасно!..» В этом ведь суть живописи...
Неслышно посвистывая, Никритин кинул плащ и берет на табуретку. Пригладил волосы. Какой-то радостный озноб пробежал по напряженным мускулам рук. Он выдавил краски на палитру и взялся за кисть, потрогав большим пальцем упругую, промытую скипидаром щетину.
Краски на палитре смешивались как бы сами собой. Мазки ложились плотно и мясисто.
Утренняя прохладноватая бодрость не покидала Никритина, держала в себе, обжимала, как плотная речная вода.
Продолжая насвистывать, он работал уверенно, без той внутренней заторможенности, которая так часто ему мешала.
Подошел Шаронов. Посмотрел, дрыгнул ногой:
– В зале тщетно тщится мать сок граната выжимать?
– А-а-а... ты... – разогнулся Никритин. – Что рано? Условились же в перерыв...
– Деньги обещали. Но кассир, как все духи, неуловим. – Щурясь, Шаронов смотрел на картон. – И охота тебе здесь возиться? Света же – ни шиша. Смотри, краски и то тошнит.
– Шел бы ты... к своему духу, – беззлобно огрызнулся Никритин. – Болтаешь тут под руку. – Он отступил на шаг и взглянул на свой картон. Внутренне он был согласен с Шароновым: колорита тут не достичь. Смешанный – солнечный и искусственный свет, к тому же недостаточный, кого угодно с толку собьют. Но говорить о том, что собирается картину и модель «протащить» через мастерскую, не хотелось. Он обернулся к Шаронову и подтолкнул его: – Иди, иди!.. В столовой встретимся...
– Ладно, займи мне место... – бросил Шаронов, отходя.
«Меток, собака, на язык! – Никритин посмотрел ему вслед. – Гм... краски тошнит!» Их в самом деле тошнило. Но это сейчас мало смущало Никритина. Знал – в мастерской все будет иначе.
Встретились с Шароновым неделю назад. Оказалось, взял на заводе халтуру: написать плакаты, лозунги, портреты для аллеи передовиков.
– Слушай, старик!.. – загримасничал он с ходу, хлопнув Никритина по плечу. – Я, кажется, не по глотке ухватил кусман. Бери часть портретов! Чепуха же – гуашью в одну краску, по негрунтованному полотну. Школьная работка! Лозунгов, учитывая твою щепетильность, не предлагаю.
– Да что я, свободный художник? – усмехнулся Никритин. – А мастерская?
– Старик! – торжественно, без обычных гримас возразил Шаронов. – Не теряй шанса расплеваться с ними! Я гарантирую – без заработков не останешься.
Никритин и сам понимал, что серьезная работа над портретом потребует его всего, потребует времени и всех духовных сил. Или – или... За время пребывания на заводе он как-то окреп. Кругом люди были заняты делом. Нужным, насущным. И вроде бы никто не чувствовал зыбкости бытия. Здесь не было места для депрессии. Наоборот, в разговорах преобладала, может быть и солоноватая, но – шутка. Никритин почти не колебался: тем более что он еще не сдал пропуск на завод, а в Союзе художников попросил творческую командировку.
В тот же день отправились вместе в мастерские Худфонда за расчетом.
В бухгалтерии Шаронов расставил ноги, встал в позу и продекламировал, перефразируя Маяковского:
У народа, у бумаготворца,
Умер звонкий мастер – без монеты...
На него взглянули и ничего не ответили.
– Не дошло! – сказал он, глянув на тощую пачку денег, полученных Никритиным.
Никритин подсчитал: с тем, что было дома, – три тысячи. Хватит... Он сунул деньги в карман и кивнул Шаронову: «Пошли!»
С мастерскими было покончено. Отвалился, будто отрезанный, еще один кусок жизни.
– «Печаль моя светла...» – сказал Шаронов, взглянув на его замкнувшееся лицо, когда вышли на улицу.
По тротуару прошла нарядная девушка, и Шаронов тут же стрельнул глазами за ней, вдохнул запах духов, сморщился по-мартышечьи.
Никритин засмеялся и махнул рукой.
Первые два дня он все еще вставал по звонку будильника. Но, отправляясь на завод, чувствовал себя неловко, словно затесавшийся в чужую демонстрацию. Ведь теперь он и впрямь сделался свободным художником. Хочешь – иди и работай, хочешь – нет. Казалось, лишь внутренняя самодисциплина гонит его из дома. Затем это прошло. И он удивлялся легкости, с какой привыкал к новому укладу жизни. Шагая через проходную, он уже уверенно протягивал вахтеру пропуск и толкал коленом пружинящую дверь.
...Никритин набрал на кисть берлинской лазури и сделал еще несколько мазков, прописывая тени. Кажется, все. На сегодня – хватит. Подтянув рукав, взглянул на свои часы. Время близилось к перерыву. Он сложил кисти.
В столовой было людно и шумно. Устойчивый запах разваренной квашеной капусты, казалось, сделался тут составной частью воздуха, как кислород и азот.
– Ну и борщ! – говорил Шаронов, взглядывая исподлобья, когда подносил ложку ко рту. – Нет, в смысле еды я – феодал. Пусть будет домашней. Меньше, да лучше. Нельзя готовить жратву в автоклавах.
– Давай, давай! Пофрондируй! – отозвался Никритин, глотая борщ. Он органически не хотел соглашаться с Шароновым. Даже жалел, что сгоряча согласился работать вместе с ним. С одной стороны – это помешает его собственной работе; с другой – все-таки уступка ему, словно бы согласился с его мировоззрением. Однако слово есть слово. И он злился и на себя, и на него.
– Слушай!.. – Шаронов отложил ложку, в свойственной для него манере перескакивая на другое. – Слушай, а ты успеешь с портретом к фестивалю? На юбилейную выставку уже поздно, но к фестивалю надо бы поспеть. Все-таки выставка!
Да, московский фестиваль! Никритин об этом как-то не думал. Он вообще не думал о выставках – просто работал. Теперь задумался. Ведь не для себя же работал! Портрет должен нести идеи автора массам, иначе полотно теряет смысл!
Он оторопело смотрел на Шаронова и молчал. Ему было стыдно, что этот Герка думает за него, подсказывает какие-то пути к популяризации его работ.
Да! Пожалуй, к фестивалю можно успеть...
– Если успеешь, голову наотрез – возьмут! – сказал Шаронов, снова берясь за ложку. – Тема-то какая – рабочий!
В этом снова был он, готовый «реализовать», спекульнуть на конъюнктуре.
– Не знаю... – сказал Никритин. – Посмотрим... Ты лучше давай мне задания, кого рисовать. И материалы давай...
– Ладно. Завтра принесу гуашь и полотно. Но с портретом торопись: времени в обрез. В крайнем – к Маю надо закончить.
Шаронов вынул из кармана и протянул початую четвертинку водки:
– Хлопнем по сто кормовых единиц?
– Не хочу! – отмахнулся Никритин.
– Как знаешь... – Шаронов отпил из горлышка, сморщился и, спрятав бутылку в карман, понюхал корочку хлеба. – Меня мутит от здешней серости.
Серость. Неизвестно, что имел в виду Герка, но серости действительно хватало – и в цехах, и в столовой.
– А почему серо? – спросил Никритин, отодвинув тарелку. – Ты ведь давно на заводе. Что это – традиция, стандарт?
– Не все ли равно? – беспечно сказал Шаронов и вдруг пристально посмотрел на него. – Не терпится повоевать с ветряными мельницами? Они тоже были серыми. Парадокс, но факт!
– Вижу, что факт, – хмуро сказал Никритин. – Одного не пойму – почему иначе не покрасить? Свету бы прибавилось, веселей бы стало. Ведь тоже факт?
– А это уж пусть лошади думают, у них головы большие, – поморщился Шаронов. – Ты о себе думай. Не глупи и сходи в союз, покажи эскиз. Чем черт не шутит, может, заключат договор на картину. Уж тогда закупочная комиссия не отвертится, учти! А сорвется с договором, продай заводу – и точка.