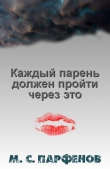Текст книги "Каменный город"
Автор книги: Р. Галимов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 26 страниц)
– Зачем твое? Ее!.. Я глаза имею, э!.. – поднял к лицу раскрытую ладонь Муслим. – Обязательно говорить с ней буду...
– Да что тебе взялось? – вскинулся Бурцев. – Парторги из кинофильмов покоя не дают?.. Не вздумай, пожалуйста, вмешиваться, очень тебя прошу!..
Проходя с полным блюдом вишен, в ишкам заглянула Хайри.
– Хай, где вы пропали? – сказала она. – Идите к чаю.
– Э-э, Димка, с тобой шавли не сваришь... – поднялся на ноги Муслим и отряхнул брюки. – Удивляюсь тебе, честное слово! Ничего не говоришь... У тебя другая есть, э?..
Бурцев встал и, положив руки на плечи друга, вздохнул.
– Нет у меня никого, понимаешь? – сказал он. – Посидим, после расскажу... Ну, а тут... очень прошу тебя... ни слова, ни намека! Обещаешь?
– Ладно, э... – с сожалением произнес Муслим и, подхватив поднос с виноградом, кивнул: – Пойдем!..
...Вечерело. Отяжелевшее солнце опускалось на кроны дальних деревьев. Казалось, они вспыхивали на короткий срок и медленно обугливались.
Пресно пахла вода, растекаясь солнечными полосками меж грядок, полив которых затеял Муслим. Рядом с ним, орудуя непривычным кетменем, шлепал босыми ногами по взблескивающим ручейкам Бурцев. Останавливаясь, подправляя грядки, где указывал Муслим, он рассказывал о себе. Говорил как о чем-то далеком, может быть происшедшем даже не с ним. Наконец он упер кетмень в землю и облокотился о рукоять.
– Скажи... когда ты женился на Хайри... ты любил ее?.. Знал, что любишь? – спросил он.
– Я?.. – Муслим сдвинул на сторону тюбетейку и смущенно улыбнулся. – Зарезать одного мерзавца хотел, э...
– Вот-вот... – оживнул Бурцев. – И нечего смущаться. Теперь я понимаю тебя. А прежде, может быть, и посмеялся бы... В этом вся и суть...
– Теперь?.. Что ты говоришь, э?.. – Муслим обхватил его и стал тормошить, разбрызгивая ногами воду. – Я верно тебя понял?.. Ай, Димка!..
Из-под сводов виноградника вышла Эстезия Петровна.
– Что это вы там возитесь? – крикнула она, заслонив от солнца глаза. – Умываться пора. Перемазались-то как!..
Бурцев оглянулся, и ему вспомнилась первая встреча с ней. Снова она стояла в лучах заходящего солнца, слегка расставив крепкие голые ноги, и снова пламенел ее красный халатик, перетянутый теперь белым пояском.
Бурцев стиснул Муслиму ребра: «Ш-ш-ш, молчи!..» – и, высоко поднимая ноги, пошел по грядкам к ней.
– Молчу, э... – посмеивался Муслим, продвигаясь за ним.
Хайри хлопотала у очага, выгребая из него самые горячие угли. Черный казан с пловом был уже прикрыт деревянным кругом и укутан мешковиной. Плов медленно тушился. Сидя на корточках, Ильяс нарезал в глубокую тарелку помидоры. Рофаат выносила из дому ватные одеяла и раскладывала их на суфе вокруг столика на коротких – в локоть – ножках. Царила сдержанная предобеденная суета.
Эстезия Петровна погрузила в арык чугунную абдасту, похожую на пузатый кофейник, и, набрав воды, разогнулась.
– Идите сюда, грязнули, – сказала она. – Я солью...
Муслим подтолкнул к ней Бурцева и принялся умываться сам из арыка.
Вытираясь полотенцем, он придвинулся к Бурцеву.
– Так у нас жена сливает мужу, – сказал он громко и, увернувшись от шлепка Бурцева, поспешил на зов жены.
– Хай, Муслимджан-ака, идите накладывать!.. – кричала она.
Ильяс последовал за отцом.
– Плов – дело мужское, – сверкнул он зубами.
Уложенный плотной смуглой пирамидой, увенчанный кусками сочно прожаренной баранины, плов дымился ароматным паром на большом фаянсовом блюде.
– Возлежим, значит, как древние эллины? – сказал Бурцев, опускаясь у столика. Место ему досталось между Хайри и Рофаат.
– А что думаешь, э... – откликнулся Муслим. – Может, Искандар-Зулькарнайн, Александр Македонский занес такой обычай...
– Вы скажете, папа!.. – дернула бровями Рофаат. – Будто у нас своей культуры не было...
– Среди ученых молчи, э, Димка!.. – рассмеялся Муслим и провел по рукам, словно засучивая рукава. – Ну-ка, берите...
Ильяс разлил в пиалы охлажденное в арыке зеленовато-золотистое вино.
– Вай, я не буду пить, – стала отнекиваться Хайри.
– Оно не крепкое, сухое. Из такого же винограда, как наш, – сказал, придвигая к ней пиалу, Муслим. – Немного выпьешь – ничего не будет...
– Давайте же тост! – воскликнула Эстезия Петровна.
– Давай, Муслим! – поддержал ее Бурцев.
Муслим разгладил усы и, подняв пиалу, произнес:
– У нас говорят: «Шер изидан кайтмас, эр сузидан кайтмас» – «Лев не возвращается по следу, муж не отрекается от слова». Пусть и у нас так будет... Вперед смотреть, и что сказано – делать... Не оглядываться назад, вперед идти, как настоящие мужчины!..
– А как же женщины? – смешливо приподняла брови Эстезия Петровна.
– Что лев, что львица – все равно! Не возвращаться по следу – и точка, так? – махнул рукой Ильяс и поднял пиалу.
Чокаясь с Бурцевым, Эстезия Петровна взглянула ему в глаза и опустила ресницы, словно прибавила что-то свое к тосту.
– Оно же кислое!.. – удивилась Хайри, пригубив.
– Пейте, пейте, мама... Нельзя ломать тост... – приступил к ней Ильяс. – За нас пьете, так?
– Вай, благо вам всем!.. Выпью, чтоб не говорили – Хайри все дело испортила... – ответила она, вызвав смех, и принялась угощать: – Ну, берите, берите...
Эстезия Петровна отложила ложку и озорно оглянулась.
– Вы – как хотите, боритесь с пережитками, а я буду есть руками, – сказала она. – Так вкуснее...
Загребя четырьмя пальцами горстку риса, она припечатала ее большим пальцем и, не проронив ни крупинки, отправила в рот.
Попробовал проделать то же самое и Бурцев, но обжег пальцы, просыпал рис на колени, и это происшествие совершенно рассеяло некоторую натянутость, которая держится, когда гости только что сели за стол. Все уже с аппетитом ели, и Ильяс начал подливать вино.
– Совсем узбеком становишься, э, Димка! – шутил Муслим. – Не уехать тебе из Ташкента...
– Кто ташкентской воды попил – тот и уехав, вернется, – заметила Хайри.
– Правильно! – воскликнул Ильяс. – И я хочу сказать тост...
– Опять со львами? – засмеялся Бурцев. – Учтите, товарищи львы, нам еще накрутят хвосты, не миновать этого.
– Нет, я пью за то, чтобы и вы, Эстезия Петровна, и вы, Дмитрий Сергеевич, нашли здесь свое счастье... и всегда были с нами, так?..
Тост встретили с одобрением и выпили за него дружно, лишь Эстезия Петровна подозрительное взглянула на Ильяса, и снисходительная улыбка тронула ее губы. Ее не обмануло невинное выражение, с которым Ильяс отставил пиалу.
– Ты говоришь – накрутят хвосты... – обернулся Муслим к Бурцеву. – Драться будем, э!.. Как с этим... с Феофановым.
Бурцев рассмеялся и, встретив вопрошающие взгляцы, стал рассказывать.
– Что говорить, опыт в драках у нас есть... – усмехнулся он. – Было дело в Сталинграде, как говорится. В пусковой период. А тогда мы полагали, что должны вмешиваться во все: чуть где заминка – оставил станок и побежал за тридевять цехов наводить порядок. Не знаю, может, в этом и было свое «рациональное зерно». Я вот смотрю, теряют некоторые то чувство, когда смотришь: улица – моя, дома – мои»... Да, теряют... «Завод – мой!» – это мы знали твердо. Теперь и представьте – перестали к нам идти поковки. Что такое? Бежим в кузнечный цех. А там некоторые ребята навострились на соседний металлургический завод бегать, пиво пить. Ларек у них был. И, сукины дети, ухитрялись еще и в цех приносить, в жестяных чайниках... Прибегаем – несколько молотов стоит. На свою беду, первым возвратился тот самый Феофанов. Рыжий такой верзила. Идет и из носика чайника посасывает.
– Сосет, э!.. – раззадорившись, воскликнул Муслим. – Димка берет у него чайник, нюхает – пиво...
– Ну и плеснул ему в лицо... – продолжал Бурцев.
– Он драться!.. – снова перебил Муслим. – А мы – злые...
– Вот-вот... – кивнул Бурцев.
– Как мы его били, э-э-э!.. – с восторгом закачал головой Муслим.
– А как нас обсуждали на комсомольском собрании, забыл? – засмеялся Бурцев.
– Э-э, наше дело было правое, – возразил Муслим, продолжая улыбаться. – Кого с завода вышибли? Феофанова...
Есть у подобных воспоминаний одна особенность – они могут разматываться до бесконечности.
– А как тогда Уорнер сердился, помнишь? – спрашивал Бурцев.
– Тай-ай оппи, э!.. – смеялся Муслим. – Давай споем его песню.
Попытались спеть, но оказалось, что забылись и слова на незнакомом языке и мелодия. Помнился лишь припев.
Рофаат с детски-зачарованной улыбкой глядела на них.
– Ой-ой-ой... – вздохнула она. – Вы даже сами не знаете, какой материал для историка пропадает в вас!.. Ведь вы стояли у истоков того, что в одно мгновенье и представить трудно. Нет, правда, вы – исторические личности... А сидите среди нас, как самые обыкновенные люди.
– Ну, я думаю, что все исторические личности, о которых пишут в учебниках – и великие и малые, – были в свое время самыми обыкновенными людьми, – обернулся к ней Бурцев. – Так же, может быть, ели плов, пили вино, имели красивых невесток... А если при жизни начинали чувствовать себя историческими личностями, плохо было их дело...
– Да, но осознать свое место в истории, по-моему, даже необходимо, – возразила Рофаат. – Ведь через год исполнится сорок лет нашему государству... Сколько за это время сделано и сколько труда вложено... А кем?
– Правильно, правильно, в самую точку, так? – поддержал жену Ильяс. – Думать надо, чтобы смысл не терять... Утром – на работу, вечером – с работы, привыкаем. А всегда ли думаем – зачем? Что делаем, что продолжаем?.. Ишак тоже работает... Почему я не люблю Таланова? Он главный смысл работы стирает, так?
– Думаем, Ильяс, думаем... – сказал Муслим, подвигав тюбетейку, словно она некрепко сидела на голове. – Не надо считать, что ты один думаешь, э...
– Я не считаю, так? – приподнялся Ильяс, готовясь к спору. – Но возьмем новый станок...
– Товарищи, товарищи!.. – запротестовала Эстезия Петровна. – Давайте не устраивать производственного совещания на дому! Провинившемуся – штраф... Только что бы такое им назначить, Рофа?
Она перегнулась к Рофаат, та что-то зашептала ей в ухо и прыснула. Эстезия Петровна торжественно подняла руку.
– Шея того, кто заговорит о заводе, будет натерта персиком! – изрекла она тоном судьи и, взяв со стола персик, подкинула его на руке. – Приговор обжалованию не подлежит и немедленно приводится в исполнение.
– Это еще что за казнь? – удивился Бурцев, не понимая, чему смеются остальные.
– А вот увидите... – погрозилась Эстезия Петровна.
На некоторое время все замолчали, посмеиваясь и поглядывая друг на друга. Хайри, сполоснув пиалы, принялась разливать чай из медного самовара с белыми пятнами олова.
Бурцев отхлебнул из пиалы, поставил ее на стол и взглянул на Ильяса.
– Хорошо... Ты все наскакиваешь на Таланова... – произнес он. – Что же, ты полагаешь, что он совершенно мертвая величина? Но в свое время на нас работали даже такие люди, как спецы. Люди другого мира, другого мировоззрения. А Таланов ведь не из их числа...
– Согласен... Но расшевелите его, так?.. Я не умею... – ответил Ильяс, приложив руку к груди. – Когда слышу его равнодушный голос, кровь у меня закипает!..
– Та-а-к... – зловеще сказала Эстезия Петровна. – Рофа, бери персик.
Муслим захохотал. Рофаат прихватила мясистый, покрытый серебристым пушком плод, и женщины приступили к Бурцеву.
– Хай, хай, Рофаат... – пыталась вмешаться Хайри.
– Э, уговор есть уговор, – остановил ее Муслим. – Пусть узнает... Не умрет, э...
Приподняв подбородок, Бурцеву натерли спереди шею. Мельчайшие волоски впились в запотевшую кожу, вызывая нестерпимый зуд. Бурцев дернулся и, опрокинувшись на спину, стал чесаться.
– Коварные азиатки!.. – рычал он под общий хохот. – Инквизиторши!..
Ильяс пытался улизнуть, но был пойман и тоже натерт, несмотря на истошные вопли. Поднялся переполох, перебиваемый смехом и криками.
– Ой, умру!.. – хохотала Эстезия Петровна. – Еще бы нашего Таланова натереть! Какой бы у него был вид...
– Ага! – подскочил Ильяс. – Таланов – это завод, так? Натереть!..
Эстезия Петровна взвизгнула и бросилась в виноградник, Ильяс помчался за ней. Обежав вокруг сада, они снова вернулись к суфе, и тут Ильяс поймал ее.
– Натирайте! – сказал он Бурцеву и, вложив ему в руку персик, уселся в сторонке. – Посмеемся и мы...
Но Бурцев медлил.
Эстезия Петровна вскинула на него ресницы.
– Что же вы? – одними губами прошептала она. – Трите, на нас смотрят...
В глазах ее были и ласка, и упрек.
Бурцев слегка провел персиком по нежной шее.
– Мама!.. – охнула она, и все опять засмеялись.
– Хай, хай, довольно!.. – уговаривала Хайри. – Пейте чай...
Бурцев очистил плод от тонкой шкурки и, разделив, протянул половинки Рофаат и Эстезии Петровне.
– Получайте ясак, – сказал он. – Да будет мир!..
...Сумерки на глазах переходили в ночь. Гасли одна за другой краски, словно их съедала синеватая дымка повлажневшего воздуха. Казалось, по-иному начал журчать арык, по-иному начали шелестеть листья. Какая-то задумчивость распространилась кругом. Бледная луна постепенно наливалась яркостью на темнеющем фоне неба.
– Пора ложиться, э, Димка... Опоздаем завтра... – сдерживая зевок, сказал Муслим. – Мы со старухой пойдем в дом, вы с Ильясом оставайтесь здесь, айван отдадим Эстезии Петровне и Рофаат. Хорошо будет, э?..
– А хватит на всех места? – спросил Бурцев.
– В узбекском доме чего много – одеял!.. – засмеялся Ильяс. – На всех хватит.
– Пашахану натяните здесь, – сказала Хайри, унося самовар.
Установив по углам суфы специальные жерди, натянули пашахану – квадратную марлевую палатку для защиты от москитов.
– Может, женщин положим здесь? – сказал Бурцев, оглянувшись на открытый айван.
– Нет, нет, – возразила Эстезия Петровна. – Нас не тронут москиты, а вас, непривычного, загрызут... Оставайтесь здесь...
Стоящая невысоко луна запуталась в черных ветвях персикового деревца. Свет ее окрашивал голубым мерцанием марлю пашаханы.
Бурцев закурил и, погрустневший, улегся рядом с Ильясом. Его удивляло поведение Эстезии Петровны. Как-то расцветшая, оживленная, она все же ни одного мгновенья не осталась с ним наедине, словно умышленно избегая его. Стыдилась ли на глазах у всех обнаружить свое чувство или просто хотела его помучить? Пожалуй, первое... Слишком независима, чтобы без нужды лукавить... Но грусть от понимания этого не рассеивалась...
Завозился в клетке и подал голос перепел.
– Это – там? – кивнул в сторону виноградника Бурцев. Днем он заметил в ишкаме клетку, похожую на монгольский шатер.
– Да... – ответил Ильяс. – Мальчишки подарили матери...
«Пить-пилить, пить-пилить, – громко и отчетливо выговорила птица. – Пить-пилить...»
Огонь, зажженный в доме, погас. Из открытых окон не доносилось ни звука. Донесся с айвана сдавленный смех Рофаат, и там тоже настала тишина.
Бурцев начинал дремать, когда послышался голос Эстезии Петровны:
– Мужчины, я иду...
– Идите, ханум, у нас открыты только сердца, – сонно отозвался Ильяс.
Она просунулась под легкий марлевый полог.
– Ильюша, тебе Рофа что-то хочет сказать... – прошептала она.
Ильяс минуту непонимающе медлил, затем, живо приподняв полог, скатился на землю. Его согнутая тень метнулась к айвану.
Эстезия Петровна обтерла ладошкой ступни и легко взошла на суфу. Поджав босые ноги, она опустилась рядом с Бурцевым. С бьющимся сердцем он смотрел на нее, видел поблескивающий краешек глаза и молчал. Запахнув халатик, она разглаживала короткий подол, стараясь натянуть его на прижатые друг к другу круглые колени.
– Ну?.. – сказал наконец Бурцев, чувствуя, как мгновенно пересохло горло.
– Ну?.. – ответила она и нагнулась к нему.
– Выходите за меня замуж... – не шевелясь, произнес он.
Она прикрыла ему рот мягкой ладонью.
– Милый... Ну зачем тебе?.. – Она вплотную придвинула лицо, помолчала, положила руки ему на грудь. – «Я – близко... Так близко, что выдох твой тронет...»
Строки его стихов она произнесла, касаясь губами его губ, и Бурцев вдыхал ее горячее, прерывистое дыханье. Халатик ее разошелся, приоткрыв почти девичьи груди некормившей женщины. Она скользнула рукой ему за спину и потянула его к себе.
В запрокинутых глазах ее, меж подрагивающих ресниц, сверкнул лунный свет...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Устало прикрыв веки, Эстезия Петровна лежала на отведенной руке Бурцева. Он перебирал ее рассыпавшиеся волосы, целовал их, вдыхая мягкий теплый запах.
– Ну, хорошо... Попытаюсь тебе объяснить... – Она глубоко вздохнула и слегка подняла веки. – До тебя... я знала, пожалуй, все, что – около любви... Не знала ее самой... Понимаешь? Есть у французов лукавая пословица: один целует, другой лишь подставляет щеку... Это они о любви... И я боюсь, страшно боюсь... Вдруг у нас будет то же самое?.. Ты говоришь – замуж. Я ведь испытала это... Ничего, кроме ужаса и отвращения... Вспоминать тошно...
– Но ты ведь вовсе и не любила его? – притянул ее голову к себе Бурцев.
– Ах, все равно... Вдруг то, что здесь, – исчезнет? – она взяла его руку и положила себе на грудь.
– Но послушай... – шелохнулся Бурцев. – Если каждый из нас будет только сам за себя... Не понимаю... Жить только собой и для себя, по-моему, самое скучное и безнадежное занятие на свете... Мне, ты знаешь, тоже не много ласки выпало в жизни, но все хотелось отдать себя кому-то...
– Не знаю, не знаю... Ты, наверное, прав... – снова вздохнула Эстезия Петровна. – Только... не надо меня неволить, хорошо?..
Бурцев грустно улыбнулся и кивнул.
– Что меня всегда сдерживает, так это – боязнь оказаться в тягость... Нет ничего хуже... – сказал он.
– Не надо так, милый... она прильнула к его рту влажными губами. – Молчи, пожалуйста... философ кинический...
– Почему – кинический?
– Забыл, как одевался Диоген?.. – тихо засмеялась она.
Он сжал ее щеки обеими руками и стал целовать в смеющиеся, полные темного блеска глаза...
И молчала ночь... Лишь тополь шелестел над ними, как парус. Шум листвы, закипев где-то на вершине, стекал к основанию ствола, потухал – и начинался снова...
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
Подходил к концу первый месяц лета и последний месяц квартала. Солнце с утра растекалось по всем улицам города, размягчало асфальт, ударяло знойным дыханием в тень тротуаров, пробивалось колючими струйками сквозь камышовые шторы. Падал в водопроводных трубах напор воды, и, как мираж в пустыне, манили к себе павильоны прохладительных напитков; манили цветными трубочками сиропов и потеками воды на оцинкованных стойках, к которым прилипали мокрые монеты. Неуловимая, мельчайшая пыль повисла в воздухе, покрыв матовым налетом глянец листвы, и на фоне выгоревшего бледного неба не стали видны далекие снеговые горы. Проникала пыль и в помещения.
Забежав к вечеру в свой кабинет, Бурцев мог расписаться пальцем на полированной поверхности стола. Теперь ему редко приходилось сидеть тут. Чаще его можно было встретить в конструкторской группе или в цехе.
Работы на новом станке возобновились. Шло изготовление рабочих чертежей. Технологи работали вместе с конструкторами, уточняя методы изготовления той или иной детали, способы привязки новых узлов станка к старым. Чертежи без промедления шли в цеха. И вся забота по координации работ легла на плечи Бурцева. Таланов со дня памятного собрания не появлялся. Лишь прислал врачебный бюллетень.
Возбужденный, весело-злой, Бурцев носился по заводу, заражая своим энтузиазмом окружающих, и лишь к обеденному перерыву приходил в кабинет. Казалось, и жара его не брала. Обтираясь платком, он подписывал самые важные из документов, подготовленных Эстезией Петровной, и садился вместе с ней завтракать. Это вошло в традицию. Отдаваясь своей поздней, зрелой любви, они как-то перестали скрываться и при первой возможности стремились остаться наедине. Лишь возвращаться вместе с ним в машине Эстезия Петровна не соглашалась, да и Бурцеву частенько приходилось задерживаться дольше обычного. Ей нравилось встретить его дома в дверях, обнять за шею, поцеловать и в обнимку пойти к накрытому столу. Никогда еще Бурцев не чувствовал себя таким молодым, находчивым, окрыленным... Сияли нерастраченной лаской глаза Тэзи, и он приписывал ей свою способность работать запоем. А поддержка ему была нужна...
Неприятности, исподволь накапливавшиеся, посыпались одна за другой. Настойчивые запросы из главка становились все тревожнее, и наконец пришла телеграмма, подписанная заместителем министра, в которой Бурцеву категорически предписывалось сдать новый станок в первоначальном варианте. Но сделать это было уже невозможно: заменяемые узлы станка пошли в переборку. Будь иначе, Бурцев еще поколебался бы: приказ есть приказ. Однако в глубине души он сознавал, что и тогда бы, пожалуй, не отступился от своего. Отступление в одном могло поставить под угрозу перестройку всей работы на заводе.
Бурцев задумчиво допил чай, поцеловал руку Эстезии Петровне.
– Спасибо... – сказал он, глядя ей в глаза.
Она убрала на поднос чашки и, отломив кусочек от плитки шоколада, поднесла ему ко рту.
Скрипнула дверь. Эстезия Петровна быстро отдернула руку. В кабинет входил Муслим.
– Чаю хочешь? – спросил Бурцев.
– Пил, э... – ответил Муслим, усаживаясь. – Как станок? Новости есть?
– Вот прочти... – Бурцев протянул ему телеграмму.
Муслим долго держал в руках желтый шероховатый бланк, сдвинул на сторону тюбетейку. «Об исполнении доложить...»
– Отвечать будем? – взглянул он на Бурцева. – Подождем, э?..
– А чего ждать? Ответим... – усмехнулся Бурцев. – Как дела в литейке?
– Хорошо... Кончаем перевод работниц, – сказал Муслим и рассерженно поднес ладонь к лицу. – Чугая надо греть, э!.. Какой это завком? Бумажки пишет, больше ничего не может... Займись, честное слово!..
– Займусь... Но надо же перевыборы провести, – сказал Бурцев. – А что он еще натворил?
– Ничего не творил! – зло ответил Муслим. – Жара, видишь? Детей надо в лагерь посылать? Работницы скандал устраивают... Сколько раз говорил – ничего не делает... Партийный выговор писать буду, э!..
Он встал и поправил на голове тюбетейку.
– Ладно, пойду в механический. Ты не ходил сегодня? Кто-то наряд брать не хочет.
– Что? – удивленно приподнялся Бурцев. – Пойдем вместе!
– Сиди, э... Сам пойду, – надавил ему на плечи Муслим. – Договорились – поедешь к Таланову? Договорились... Поезжай, нехорошо получается... Сам поехал бы – не то будет... Тебе лучше... – Он выпрямился и хитро прищурил глаза. – А Арбузов, заметил? Другой стал, э? Пойду, он звонил из цеха.
Не успел выйти Муслим, в кабинет зашел Кахно. Разгладив ладонями глубокие складки на худощавом лице, он взглянул на Бурцева воспаленными глазами.
– Последний день Помпеи... Кончаются шлифовальные круги... – сказал он.
– Но мы же запрашивали главк? – насторожился Бурцев.
– Я получил ответ. Предлагают обойтись на месте, – ответил Кахно. – Нужно это мне, как руководство к слоноводству... Что делать?
Да, что делать?.. Бурцев понимал, что ставится под угрозу и обычная программа завода. Подобной опасности он не ожидал. На мгновенье неприятно замерло сердце.
– Мне звонили с товарной станции... – неуверенно произнес Кахно. – Но вы подрезали мне власы...
– Нет! – твердо ответил Бурцев. – С пиратством кончено... Поймите, Георгий Минаевич, сейчас нам каждое лыко будут ставить в строку. Не можем мы идти на это... Обегайте все заводы, поищите. Может, найдутся у кого излишки... Сделайте, дорогой...
– Я вас поцелую за это, – улыбнулась Эстезия Петровна.
– Ловлю на слове... – без особого энтузиазма ответил Кахно и устало поднялся. – Эх, папа-мама, на что вы меня родили... Поищу, брильянтики мои...
– А как с кровельным железом? – остановил его Бурцев.
– Договорился... Дело чести... – выставил ладони Кахно. – Получим лес – будет железо... Иду, бральянтики, искать последний круг ада – шлифовальный...
Бурцев с сомненьем и надеждой посмотрел ему вслед.
– Найдет... – шепнула Эстезия Петровна ему в ухо и, коснувшись щекой его твердой щеки, взялась за поднос.
В дверях она посторонилась, пропуская Алферова.
Токарь глянул на нее из-под чуба синими, обнаженно-наглыми глазами и вразвалку пошел к столу Бурцева.
– Что же это, товарищ директор? – швырнул он на стол бумаги. – Два наряда, и оба – на новые детали. Спятил мастер. И начцеха уперся...
– А кому же и взяться за них, как не лучшему токарю? – сказал Бурцев, заглянув в наряды. – Дело почетное.
– Почет на зуб не положишь... – скривил губы Алферов. – Так я и полторы тысячи не выгоню... Нашли дурака!.. Агитацию я в газете прочту...
– У вас большая семья? – неприязненно спросил Бурцев, глядя в его припухлое, самоуверенное лицо.
– А при чем тут семья? – взмахнул рукой Алферов. – Это моя потребность – и шабаш!.. Я договаривался с Гармашевым: худо-бедно – полтора куска... А нет, так я и в другое место могу пойти. Наше вам с кисточкой!..
Становясь подчеркнуто спокойным от холодного бешенства, Бурцев снял трубку внутреннего телефона и попросил соединить с бухгалтерией.
– Зиновий Аристархович, – произнес он в трубку. – Сейчас к вам придет токарь Алферов... Немедленно произведите с ним расчет!
Затем он попросил к телефону начальника охраны.
– Прикажите дежурному в проходной, чтобы отобрал пропуск у Алферова, – сказал он, не глядя на токаря, который недоверчиво следил за ним. – И пусть даст по шее, если он снова появится у ворот!.. Что? Нельзя по шее?.. Ладно, но пусть не впускает...
Положив трубку на место, он обернулся.
– Незаменимых людей нет! Это Ленин сказал, понятно? – подался он вперед и, не сдержавшись, стукнул кулаком по столу. – И катись! Чтоб духом твоим не пахло!..
На его крик вбежала Эстезия Петровна. Едва не столкнув ее, Алферов с потерянным лицом выскочил из кабинета. Она изумленно оглянулась, увидела, что Бурцев потирает кулак, и расхохоталась.
– За что ты его? – спросила она.
– Шкурник, шут его возьми! – продолжая кипеть, ответил Бурцев. – Классический образец, любого выведет из себя... Кстати, проследи, пожалуйста, за оформлением его документов. Никаких «по собственному желанию». Уволен!.. За уклонение от занаряженных работ...
Посерьезнев, она молча кивнула.
– Без него тут не хватало... – проворчал Бурцев. – Беспокоит меня Таланов. Болен или отлеживается?.. Надо ехать...
Эстезия Петровна подошла вплотную и, оправив ему рубашку, вскинула лицо.
– Только не кипятись. Все равно ты ни в чем его не убедишь... Я знаю... – сказала она, озабоченно хмуря брови.
– Посмотрим... – ответил Бурцев, и глаза его затуманились. – Может, и говорить не придется, если болен... А понять друг друга надо бы наконец...
...У ворот с открытой калиткой стояла служебная машина Таланова. Шофер ходил вокруг нее, обтирая пыль.
– Что, Вася, хозяйку привез? – крикнул, высунувшись, Миша и подрулил свою машину к обочине дороги.
– Ага!.. – отозвался тот и подошел.
– А сам дома? Как к нему пройти? – спросил Бурцев.
– Во-он, прямо, верандочка ихняя... – пригнулся шофер и указал в открытую калитку.
Бурцев захлопнул горячую от солнца дверцу машины. Войдя во двор со множеством коммунальных квартир, он пошел по дорожке из промытых желтых кирпичей, вдоль которой тянулись незамысловатые цветники.
На веранде стоял стол для пинг-понга. Вокруг него попрыгивали, взмахивая ракетками, двое юношей.
– Здесь живет товарищ Таланов? – спросил Бурцев, глядя на них.
– Здесь... – на мгновенье обернулся один из юнцов. Несуразно длинный, худой, с фиолетовым фурункулом на щеке, он подтянул спортивные бриджи и просунулся в окно, выходившее на веранду: – Папка, к тебе...
В небольшой комнате, очевидно служившей Таланову кабинетом, стоял полумрак. Неуловимо пахло книжной прелью, как в большинстве подобных комнат, где книги издавна пылятся в старинных шкафах. Подложив за спину подушки, Таланов полулежал на кожаном диване. На коленях у него был раскрыт старый комплект «Русской мысли». И сам он, обросший щетиной, с неопрятно всклокоченными серыми волосами, выглядел как-то старчески-брюзгливо.
Разговор не клеился.
– Лямблиоз... отвратная вещь... – поморщился Таланов на вопрос о здоровье. – Будет уроком – не манкировать врачами. Предупреждали ведь, что следует повторить курс лечения через три месяца...
Он положил руку на печень и покосился на коробочки с акрихином, возвышавшиеся в углу резного письменного стола.
Испытывая странное неудобство, Бурцев сидел, облокотившись о расставленные колени, и прислушивался к звукам незнакомого дома. На террасе сухо постукивал о стол гуттаперчевый мяч. Близко за стеной слышался раздражительный женский голос. «Хозяйка, должно быть», – подумал Бурцев. Каждое слово женщина произносила, словно бы зло ущипывая его.
– Бр-рысь! Кому сказано!.. – кричала она. – Я т‑тебе, мер‑р-завка!..
«Мяу-мяк!..» – вскрикнула кошка, тяжело шлепнувшись в коридоре.
– Ну, а теперь лучше? – спросил Бурцев, лишь бы прервать молчание. Ему уже хотелось скорее уйти отсюда. Он ничего не знал о жизни в этом доме, но ему казалось, что нет в ней ни согласия, ни уюта, ни теплоты.
– Скоро выйду, не беспокойтесь... – усмехнулся Таланов.
– Вот и отлично!.. – выпрямился Бурцев. – Выздоравливайте... Горячие дни настают на заводе...
Видя, что Таланов закурил, Бурцев с облегченьем вынул из кармана пачку «Астры».
– Хочу поручить вам одно интересное дело... – помуслив кончик сигареты, он взглянул на Таланова. – Возьмите на себя объединение конструкторского и технологического отделов...
Таланов смотрел в сторону. Отломив краешек спичечной коробки, он ковырял в зубах и посасывал сквозь них воздух.
– Воспитание доверием? – покосился он наконец и, отбросив щепку, вздохнул. – Я же читаю те же газеты, что и вы... К чему эти цирлих-манирлих?..
Бурцев прикурил сигарету и непонимающе, выжидательно взглянул на него исподлобья.
– Послушайте, Дмитрий Сергеевич... Давайте говорить откровенно... – продолжал Таланов, глядя перед собой. – С первого дня присматриваюсь к вам и не перестаю удивляться... Вы же серьезный человек, не чета тому молокососу, младшему Сагатову, способному гоняться за фата морганой... Так чего же вы хотите, чего добиваетесь?.. Показать себя?.. Но неужели вы не понимаете, какое беспокойство вносите в нашу и без того нервозную жизнь? К чему все ваши реформы? Нельзя жить в квартире, в которой без конца передвигают мебель...
– Показывать себя я не собираюсь... – поднялся Бурцев и, сделав шаг в сторону, обернулся: – Но мебель, как вы назвали, считаю нужным передвинуть. Неудобную мебель...
– От перестановки мест слагаемых сумма не меняется, – вяло махнул рукой Таланов. – Реально одно – сколько рабочий наработает, столько и дадим продукции. А работать он будет, если платить. Есть у них поговорка: «Каков платеж, таков и работеж». Вот вам и вся философия. Что уж тут накручивать политграмоту...
Не дав прервать себя, Таланов приподнялся и сел, опустив с дивана ноги в несвежих носках.