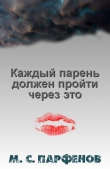Текст книги "Каменный город"
Автор книги: Р. Галимов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 26 страниц)
– Да квартиры, в собственном смысле этого слова, у меня и нет, – простодушно сказал Бурцев. – Снимаю частную комнату.
Ощутив толчок в спину, он оглянулся на Ольгу, но та сделала безразличное лицо.
– Как же это? – брови Анастасии Ивановны удивленно изломились. – Ваш завод не в состоянии обеспечить квартирой главного инженера?
– Да нет же, – усмехнулся Бурцев. – Просто я сам не претендовал. Были у нас люди, которые больше моего нуждались. А мне, одинокому, из чего было хлопотать? И вещей-то у меня особенных нет, чтобы расположиться в своей квартире.
– Вы враг вещей? – странно улыбнулась Анастасия Ивановна. – Проповедуете аскетизм?
Ольга снова предостерегающе толкнула его в спину.
– Вовсе нет! – отстраняясь, поднял руку Бурцев. – Тут, видите ли, какая штука... – Он полез в карман, достал сигарету, но так и не решился закурить. – Я ничего не собираюсь проповедовать. Просто у меня сложилось свое отношение к тому, что мы называем вещью. Это – сугубо личное, своих взглядов я никому не навязываю... – Он минуту помолчал и продолжал раздумчиво: – Мне как-то рано пришлось уйти от вещей. Довелось даже немного побеспризорничать... А в войну, когда все вокруг крушилось и ломалось, ореол святости личных вещей окончательно померк для меня... Есть у тебя солдатский вещевой мешок – «сидор» – и все, ничего тебе больше не нужно!.. Я не против комфорта, не против уюта, – думать так было бы варварством! Но все же мне кажется, что для человека, для его счастья, не это основное...
Бурцев еще долго развивал бы свою мысль, если бы Ольга, толкнув его, не отошла к телевизору. Он увидел ее округлившиеся, почти злые глаза и умолк. Вдруг поняв значение ее знаков, он заторопился уходить.
– Да что вы! Оставайтесь, будем обедать, посмотрим телевизор... – с холодной вежливостью удерживала его Анастасия Ивановна.
Бурцев не остался.
Ольга вышла на лестничную площадку проводить его и, спустившись на один пролет вниз, остановилась.
– Какой ты ребенок, Дима... – протянула она, загадочно взглянув на него. – И я тоже – дура. Не догадалась предупредить...
Она отвернулась к перилам и глядела вниз, нервно постукивая носком туфельки по полу.
– Ладно уж, иди... Простудишься... – сказал Бурцев угрюмо.
Приняв наконец какое-то решение, Ольга быстро притянула его к себе, чмокнула в щеку и взбежала по лестнице.
Со странной тревогой в душе шел Бурцев домой. Эта женщина, почти ничего не сказав, замутила едкой, липучей скверной то ясное чувство, которое он носил в себе последние дни.
Но он еще не знал, что навсегда погиб в глазах Анастасии Ивановны.
– За кого ты хочешь выйти замуж, дура! – щурясь, с холодным презреньем сказала она дочери. – Ох, я знаю этих людей!.. – Она многозначительно покивала головой. – Он ведь из тех, кто никогда не дорожит своим углом. Мчится сломя голову бог знает куда по первому призыву. И никогда рубля лишнего не имеет за душой...
Распаляясь от собственных слов, она остановилась перед Ольгой.
– Ты что же? – сузила она глаза. – И замужем хочешь сидеть на шее у отца? До тюрьмы его хочешь довести? Одеваться-то и сладко покушать мы любим!..
Она отошла и добавила, кривя губы:
– Выбрала... Беспризорника!..
– Но, мама!.. – возмутилась наконец Ольга.
– Что – «мама»? – Анастасия Ивановна резко обернулась: – Запомни, за него ты не выйдешь!
Но Ольга уже закусила удила. А бунт слабого человека тем шумнее и нелепее, чем дольше он терпел и сдерживался.
– Нет, выйду! – закричала Ольга, топнув ногой. – Выйду, выйду!
Она подбежала к столу и, зачем-то сдернув скатерть, стукнула кулаком.
– Завтра же пойдем и зарегистрируемся!
Анастасия Ивановна не столько с испугом, сколько с любопытством смотрела на разошедшуюся дочь. Помолчав, она плотно сомкнула бескровные губы и подошла к буфету. Порылась в одном из ящиков, обернулась.
– Вот твой паспорт, – спокойным голосом произнесла она. – Ты его не получишь до тех пор, пока не порвешь с этим человеком.
С ритуальной торжественностью Анастасия Ивановна прошла в спальню, и Ольга услышала, как стукнула крышка железного ларца, где у них хранились деньги и облигации. С минуту Ольга стояла в растерянности. Затем метнулась к выходу, сорвала с вешалки пальто и сбежала с лестницы. Остановив проезжавшее такси, она бросилась на сиденье и выдохнула:
– На Полянку!..
Бурцеву, с изумленьем открывшему дверь, она сказала задыхаясь:
– Поди расплатись с шофером, у меня нет денег...
Вернувшись, Бурцев вопросительно взглянул на нее.
– Я пришла... – сказала она.
Видя, что он не понимает, она подошла к нему и взяла за руки.
– Совсем... Понимаешь? – сказала она, подняв к нему глаза.
– Оля!.. – радостно воскликнул Бурцев, но тут же осекся. – Постой!..
Он обвел глазами комнату и взглянул на Ольгу.
– Постой, постой!.. Как же мы тут?.. Теперь ведь и впрямь нужна квартира... Как же ты так? Вдруг? Может, подождем?..
– Эх ты, проповедник!.. Испугался?
Заметив, что она начинает часто помаргивать, Бурцев подхватил ее на руки. Ольга прильнула к нему, ища губами его губы.
– Так надо, – сказала она, обессиленно вздохнув.
Но лишь утром она объяснила Бурцеву положение дел.
Открыв глаза, Бурцев увидел, что она внимательно, как на незнакомого человека, смотрела на него.
– С добрым утром, женушка, – улыбнулся он.
Она не ответила. Откинув одеяло, она уселась, повернувшись к нему.
– А ты знаешь – мы не сможем пока зарегистрироваться, – сказала она, по-прежнему не глядя на него.
– Почему? – удивился Бурцев.
Она рассказала. Бурцев помолчал и недоуменно спросил:
– Зачем же ты это сделала?..
– «Это»... – передразнила она.
– Нет, серьезно, – допытывался Бурцев.
– Чтобы поставить их перед совершившимся фактом. – Она выпятила губы и потянула его за нос. – Не задавай глупых вопросов и давай-ка вставай. Побежим завтракать.
И дни у них потекли так же, как и до сих пор, словно ничего не изменилось в их жизни. Просто теперь не нужно было провожать Ольгу.
На письменном столе пылились реферативные журналы по автоматике...
Но вскоре отпуск Бурцева истек, и беззаботной идиллии пришел конец. В первые дни они созванивались в обеденный перерыв Бурцева и шли вместе обедать в ресторан. Вечера проводили в кино или в театре. Затем на завод стало прибывать оборудование автоматической линии, выяснились различные неполадки в заказах, работы у Бурцева прибавилось, – те расчеты, которые он собирался сделать за отпуск, понадобилось делать теперь, – и Ольга заскучала.
По студии загрузка у нее была небольшая, а заняться чем-либо дома она не хотела. Бурцев впервые стал задумываться над тем, что жизнь у них складывается не так, как ему хотелось бы. Ольга еще продолжала вечерами болтать милые глупости, пересказывая слышанные днем в студии сплетни, но Бурцев стал замечать, что с тех пор как они перестали бывать целыми днями вместе, часто им не о чем говорить. Заинтересовать ее своими делами он не смог.
– Ты же наработался за день, отдохни хоть дома от своих шестеренок, – говорила она ему. О заводе она имела самые дикие представления: огонь, дым, что-то большое и стучащее. Кругозор ее был странно сужен.
Однажды утром, просматривая газеты, Бурцев ткнул в одну статью и сказал:
– Ты посмотри, опять шпионы этого Аллена Даллеса!..
– А кто он такой? – мимоходом заглянув в газету и что-то дожевывая, беспечно спросила Ольга.
Бурцев возмутился. В конце концов, хоть такое надо знать! Может быть, она ничего не слышала и о его братце? С нее станется!.. Он начал объяснять.
– Ну, Димчик, – стала по-детски ласкаться Ольга. – Раз они такие плохие, зачем мне знаться с их компанией?
Бурцев невольно рассмеялся.
– Ладно, отставим текущую политику, – сказал он. – Но послушай, Оля! Ты ведь на этих днях не занята в студии?
– Нет... А что?
– Меня целый день нет дома, следовательно, мешать тебе некому, – продолжал Бурцев. – Почему бы тебе за это время не подрабатывать какие-либо солидные роли? Ведь если не работать, можно так и просидеть на эпизодических ролях...
– Роли дают не за это, – с улыбкой превосходства ответила Ольга. – Надо, чтобы потребовался мой типаж. Ну, и... режиссеру нужно понравиться.
Она лукаво рассмеялась. И Бурцев вдруг подумал, что она ведь, пожалуй, может пойти на это – понравиться режиссеру. Даже то, что они до сих пор не оформили свой брак, привносило в их жизнь атмосферу какого-то легкомыслия. При этих условиях с обеих сторон требовалось самое честное и чистое отношение друг к другу, чтобы связь не распалась. А Ольга уже откровенно начинала тяготиться даже той малой долей требовательности, которую предъявлял к ней Бурцев.
– Ты мне муж, а не воспитатель, – говорила она.
Собственно, у нее только и хватило смелости на то, чтобы, поставив на своем, прийти к Бурцеву. Но переделывать заново всю свою жизнь она, очевидно, не собиралась.
...Ах, Ольга, Ольга!.. Как далек сейчас тот день, когда ты была похожа на эту девушку напротив, которая кормит с ложечки мороженым своего приятеля...
Бурцев нехотя встал, надел шляпу и, расплатившись, шагнул на тротуар.
Домой он вернулся в шестом часу вечера. Открыв английский замок своим ключом, полученным утром от Эстезии Петровны, он вошел в коридор. Под мышкой он держал два больших бумажных пакета. Проходя мимо двери Вечесловой, он услышал звуки музыки. Комнаты Бурцева выходили на север, и в них уже разлился тот предвечерний полумрак, от которого охватывает беспричинная грусть. Бурцев аккуратно сложил постельные принадлежности, одолженные Вечесловой, и направился к ней.
– Войдите!.. – ответила она на стук.
Бурцев вошел. В первую минуту он не увидел хозяйки. Окна были занавешены камышовыми шторками, и Бурцеву показалось, что в комнате темно.
– Выключатель у двери, зажгите, – сказала Эстезия Петровна.
Бурцев включил свет и увидел, что Вечеслова, поджав ноги, сидит на тахте, покрытой красным узбекским ковром. Перед ней, на стуле, стоял проигрыватель. Рядом возвышалась горка граммофонных пластинок. Вечеслова сняла мембрану с крутившейся пластинки и взглянула на Бурцева.
– С превеликой благодарностью возвращаю, – сказал Бурцев, протягивая принесенные вещи. – Я произвел колоссальные закупки.
– Положите на стол.
Вечеслова поднялась с тахты.
– Пойдемте-ка посмотрим, – сказала она.
Проворно распаковав свертки, она бесцеремонно разворачивала каждую вещь и внимательно оглядывала ее.
– Что ж... – сказала она наконец, – на первый раз недурно... А где ж подушка?
– Не нашел... – Бурцев развел руками.
– Зачем же вы принесли мою? Отдадите потом...
Развернув одеяла и простыни, она быстро застлала постель.
– А пообедать хотя бы вы успели? – спросила она.
– Ну, конечно...
– Посуды я тоже не вижу... – произнесла Вечеслова, оглядывая развороченный стол. – Но за это сами не беритесь. Приедет жена – купит...
Бурцев промолчал.
– Будете пользоваться пока моей... Идемте пить чай!.. – сказала Вечеслова, внимательно взглянув на него.
Она взяла его под руку и повела в свою комнату.
– Посидите тут, я схожу на кухню, – сказала она и обернулась в дверях: – Учтите, что здесь можно напиться только чаем. Не пейте много на улице...
Бурцев оглянулся. Комната, примыкавшая к кухне, была по размерам такой же, как его спальня. Обставленная небогато, комната все-таки выглядела уютной. Широкая тахта, на которой Вечеслова, очевидно, и спала... Обеденный стол. Открытая тумбочка с книгами и граммофонными пластинками. Небольшой бельевой шкафчик. У стены – так, чтобы свет падал слева, – рабочий столик с двумя пишущими машинками, между которыми стоял глиняный кувшин с веткой снежно-белых шаров бульденежа... Бурцев потрогал пальцами клавиши. Одна машинка – с русским шрифтом, другая – с латинским. С бульденежа осыпались лепестки и застряли между клавишами...
Когда Вечеслова вернулась, Бурцев разглядывал висевшую на стене картину, которую сначала принял за репродукцию: обнаженная молодая женщина с высокой прической сидела, плотно сдвинув колени и приподняв брови над детски-наивными глазами. Свет мягко падал на ее юное розоватое тело с округлыми, плавными формами.
– Ренуар... «Белла Анна»? – обернулся Бурцев.
– Вам нравится? – спросила Вечеслова, присаживаясь боком на обеденный стол.
– Из французов, пожалуй, больше всех, – ответил Бурцев. – Дожил почти до восьмидесяти лет – и до старости остался ребенком.
– Правда ведь? Вы тоже заметили? – оживилась Вечеслова, усаживаясь поудобнее и глядя на картину. – Мне он очень нравится какой-то влюбленностью в юность, в жизнь... Это другое, чем у Рубенса...
Она помолчала, раскачивая ногами, и протянула Бурцеву коробку с сигаретами.
– Курите!.. Вы ведь тоже поклонник «Астры», как я заметила... – сказала она, закуривая.
– Хорошая копия... – сказал Бурцев. – Кто делал?
– Я, грешная...
– О! – удивился Бурцев. – Вы занимаетесь живописью?
– Ах, чем я не занималась... – слегка вздохнула Вечеслова.
Бурцев ждал продолжения, но она молча курила, по-прежнему раскачивая ногами.
– Вас не беспокоит, что я болтаю ногами? – внезапно взглянула она на Бурцева. – Бабка моя все внушала, что это неприлично.
– Ничуть! – Бурцев растерянно взглянул на нее.
– А я люблю болтать ногами! – упрямо склонила она голову. – Люблю быть независимой...
– Независимость – в болтанье ногами?.. – иронически улыбнулся Бурцев.
Вечеслова томно взглянула на него, помолчала – и вдруг расхохоталась. Звонко, свободно, грудным голосом.
– Ой, чай бежит! – воскликнула она, соскакивая на пол.
Усадив Бурцева, она стала проворно собирать на стол. Казалось, посуда сама липла к ее рукам и сама же становилась на нужное место.
– Вот, попробуйте, – говорила она, придвигая вазочку домашнего печенья с кишмишом и грецким орехом.
– Собственного производства? – взглянул Бурцев, беря предложенное.
– Умеем и это... – несколько самодовольно ответила Вечеслова.
– Уютно у вас... – сказал Бурцев, помешивая ложечкой чай в непривычной пиале, и снова взглянул на картину Ренуара. Что-то в той женщине было схожее с самой Эстезией Петровной. Только, пожалуй, менее энергична и напориста. Та бы не сказала: «Люблю болтать ногами...» Однако какая-то человечная в своей сути простота, с которой Вечеслова обходилась с ним, чужим для нее человеком, располагала к взаимной доверительности, – хотя, как подумал Бурцев, она была действительно очень независимым человеком. С ней было свободно и хорошо... Даже молчанье не казалось тяжелым.
С чувством давно не испытанного мира на душе он молча прихлебывал чай.
– Да... уютно у вас, – повторил он.
– Собственно, из-за этой комнаты я и перешла к Гармашеву. – Подняв полные белые руки, она стала поправлять густой узел своих каштановых волос. – Правда, жалела потом...
Она исподлобья смотрела на Бурцева. В ее ярких карих глазах подрагивал затаенный смех.
– Но что поделаешь, – притворно вздохнула она, управившись с прической. – Общежитие треста, в котором я служила, меня не устраивало. Приходится иногда стучать... – она кивнула на пишущие машинки. – Кому диссертацию, кому статью из иностранного журнала. Так, самую малость. Я не жадная... Много ли нужно одинокой – разные женские тряпки.
Бурцев понимающе кивнул.
– Но вы не бойтесь, – улыбнулась она. – У вас там не слышно, я знаю.
– Ну, пустяки, – отмахнулся Бурцев. Затем с непонятным для себя беспокойством спросил: – А почему жалели?..
– Так... – В глазах Вечесловой снова плеснулся смех. – Вера Васильевна не слишком-то жаловала меня. Эту дверь, – она кивнула на дверь, выходящую в коридор, – только позавчера открыли. Все через кухню ходила.
– Да... – усмехнулся Бурцев. – Вера строгая... Она, пожалуй, единственный человек, которого Семка Гармашев побаивается.
– Вы, наверно, думаете сейчас про себя, – она прямо взглянула ему в глаза, – «у этой женщины что-то с ним было». Да?..
– Клянусь, нет!.. – искренне вырвалось у Бурцева.
Она отвела глаза.
– Можете мне верить – не было. Во всяком случае, с моей стороны... – Она слегка, с лукавинкой, улыбнулась. – Может быть, в самом начале. Так... Чуть...
В поблескивающих карих глазах так и метался смех. Бурцев тоже с облегченьем рассмеялся. Он верил ей. И почему-то было приятно верить.
Солнце уже зашло, и Эстезия Петровна подняла скатывающиеся в рулон камышовые шторы. В открытые окна повеяло прохладой. Откуда-то налетели зеленые мошки, похожие на комаров, и закружились под шелковым абажуром.
– Вы любите джаз? – спросила она, подходя к проигрывателю.
– Хороший – люблю.
– У меня есть несколько джазов Карла Влаха... Если не возражаете? – она вопросительно взглянула на Бурцева, закурила сигарету. – Мне сегодня не хочется серьезной музыки...
Бурцев кивнул.
Эстезия Петровна поставила пластинку и, поджав босые ноги, уселась в уголке тахты. Комната наполнилась короткой дробью барабана, затем рояль и гитара стали отрывисто рубить монотонный ритм. Послушав немного, Эстезия Петровна с досадой остановила пластинку.
– Ах... не то! – вздохнула она, смущенно улыбнувшись. – Сама не знаю – чего хочется...
Она перевернула пластинку. Комнату заполнили нежные, вкрадчивые звуки скрипок, рассказывающие о красавице реке Влтаве.
Бурцев курил у раскрытого окна, глядя на задумавшуюся Вечеслову. Она сидела, склонив голову и прикрыв глаза, вся уйдя в эту фантазию на темы Сметаны. «А Влтавы, наверно, и не видела», – подумал Бурцев, вспоминая, как плещется зеленоватая вода у пражских мостов.
Не нарушая музыки, даже, казалось бы, вторя ей, доносились сквозь окна приглушенные шумы вечернего города, в которых трудно было разобрать отдельные голоса. Лишь звук завизжавшего на повороте трамвая выделился отдельной нотой.
Пластинка кончилась. Остановив крутящийся диск, Вечеслова сидела неподвижно.
Бурцев глубоко затянулся и выпустил дым в окно. Да... Влтава... Одиннадцать лет прошло. На легком ветерке, дующем с реки, остывали танки... Опустив ноги с парапета набережной, сидели танкисты... И среди них – техник-лейтенант Бурцев... Во внезапной звонкой тишине расплывался мирным облачком дымок папирос...
– Два дня газет не читал... – негромко проговорил Бурцев. – Что в мире делается?
Вечеслова подняла голову и взглянула на него, стараясь уловить ход его мыслей.
– Разрядка держится, – так же негромко сказала она. – И уж так бы и держалась... Страшно подумать, чтобы снова... – Она зябко передернула плечами и помолчала. – А газеты вон, на столике.
– Надо будет нам приемник купить, – все еще думая о своем, сказал Бурцев. Кажется, он не заметил своей оговорки. Вечеслова лишь взглянула на него и ничего не сказала.
– Пойду... – Бурцев поднялся с места. – Спасибо вам за все!.. Отдыхайте... Газеты я все же возьму.
– Подушку не забудьте, – просто сказала Вечеслова и улыбнулась.
Бурцев еще раз кивнул на прощанье и вышел, прикрыв за собой дверь.
Убрав со стола и застелив девичье-простую постель, Эстезия Петровна потушила свет и подошла к окну. Положив руки на тонкие прутья оконной решетки, она задумалась.
Небо, словно подернутое пеплом, еще оставалось светлым. Высоко-высоко проступала, как тающий кусочек льда, луна.
Да, ей нравился этот спокойный человек с внимательными серыми глазами. Но почему он так иронически сказал: «Независимость – в болтанье ногами?» Это было неприятно... Ну и пусть! Пусть думает что угодно...
– Только без глупостей!.. – сказала она себе, вздохнув, и скинула халатик. – Ты не девчонка... В тридцать один год можно говорить и поступать так, как тебе нравится... Без драм и душевного разлада.
Но какое-то беспокойство в душе оставалось, не исчезало...
Закинув руки за голову, она стояла посреди комнаты. Вечерний холодок, как речная вода, охватывал тело, студил кровь. Эстезия Петровна вынула из волос шпильки и встряхнула головой.
– А!.. Все ерунда... – сказала она и, вытянувшись на постели, прикрыла глаза. Медленно-медленно, как затухающая нота, беспокойство уходило. Если так, не двигаясь, полежать, станут наплывать – не мысли, нет, – а какие-то прозрачные видения: милое далекое детство, мир чистоты и беззаботности.
...Вот на крылечке бревенчатого дома сидит темноглазая девочка лет пяти. Она смотрит на солнце и морщится. Ей кажется, что солнце ощупывает ее лицо лучами. Щекотно и весело... Ползет божья коровка, похожая на мухомор. Девочка тычет в нее пальцем. Жучок замирает. Потом приподымает надкрылья, ершится, сучит лапками – и вдруг взлетает. Девочка смотрит вслед – и опять щекочется солнце...
Рядом, на бревнышке, сидит дедушка. Он пасечник, от него всегда хорошо пахнет. Дворняжка Маркиз, склонив голову, смотрит на него рыжими веселыми глазами. Дедушка задирает мягкие уши собаки.
– Глупой, – говорит он, напирая на «о». – Ах ты, глупой!
Собака радостно взвизгивает.
...Вот девочке лет десять. Загорелая, в одних трусиках, она сидит на сучковатой жерди изгороди и, что-то напевая, болтает ногами. Мимо идет бабушка с лукошком проса для кур. Она строгая.
– У, срамница! – ворчит она. – Целый день ногами болтает – беса качает. Брысь!..
Девочка убегает в комнату. Здесь громоздятся натянутые на подрамники холсты, пахнет ореховым маслом. Отец у нее художник. Каждое лето она приезжает с отцом сюда, в татарское село Абдулино, что лежит на красивом притоке Камы – речке Ик. Правда, местные жители уверены, что это Дема, воспетая в татарских песнях.
Папа говорит, что приезжает «на этюды». А на самом деле просто не хватает денег, чтобы и маме, и ему ехать на Черное море. Да и девочку не с кем оставить... А зачем маме ездить на курорт? Она здоровая, красивая. И потом – вон же сколько едет сюда «кумысников»! Совсем как курорт. Снимают комнаты у татар, пьют кумыс. Бабушка как раз на ферме и работает. Девочка бегает иногда к ней, помогает чистой деревянной лопаточкой взбивать кобылье молоко. Потом приносит домой разлитый в бутылки кумыс...
Девочка украдкой берет бутылку и, освободив пробку, ждет, когда она выстрелит. Хлоп! – надо быстрей подставлять кружку.
Папы нет дома, он на этюдах. А зачем они ему? Он пишет на актуальные темы. Но картины у него все какие-то неинтересные: один рабочий пожимает руку другому рабочему, а сзади, на красном полотнище, написано: «Выполним пятилетку в четыре года!» Называется – «Договор на соцсоревнование». Скучно...
Этот холст она натягивала сама. А вот – кисти и папина палитра. Несколько ударов кистью – и получается старушка с длинным носом. Это бабушка. Пусть не ругается!..
– Тиз! – кричат в окно. «Тиз» по-татарски значит «быстро». И это имя девочки. Ее зовут Тэзи.
– Тиз!.. – Девочка выглядывает. Под окном стоит ее приятель, соседский мальчишка Ильдар.
– Тиз! – говорит он. – Пойдем ловить чебаков! – В руке у него две удочки.
Девочка прыгает в окно – ой, острекалась крапивой! – но тут же смеется. Мешая русские и татарские слова, они бегут к реке. Оба загорелые, темноглазые. Ровесники...
...Вот девочке уже четырнадцать лет. Она лежит, подстелив махровое полотенце, в зарослях тальника и смотрит, задумавшись, на реку. Раскрытая книга отложена в сторону. Забыты – на час или два? – герои-стратонавты.
Река тихая, прозрачная. С того берега к самой воде спускается смешанный бор. Ольха, рябина, черемуха переплелись ветвями и отражаются в воде, которая у берега кажется почти черной. А середина реки всплескивает плавленым солнцем.
Из-за поворота показался долбленый челнок, который арендует у колхоза чета инженеров, приехавшая из Уфы. Оба они – загорелые, освещенные солнцем, обнаженные – напоминают героев древних мифов. Он стоит на носу челнока, она сидит на корме и правит веслом.
«До чего же они красивые! – восхищается девочка. – Когда тело загорелое – не стыдно наготы». Она уже может ценить красоту человеческого тела.
В жаркой полуденной тишине челнок проплывает меж безлюдных берегов. Девочка долго смотрит туда, где он скрылся. Потом она тоже раздевается и входит в воду. В ней изломанно отражается ее юное, еще не сформировавшееся тело... Весело сверкает плес, сквозь прозрачную воду размыто поблескивают плоские галечки.
Слышатся голоса. На берег выходит папа и молодой искусствовед Потей. Он приехал с ними и живет у них. Девочка вскрикивает и, выскочив на берег, спешит прикрыться полотенцем. «Противный! Чего он так смотрит?..»
Не нравится ей этот прилизанный Роман Львович. Носит на шее бант, каких сейчас никто не носит. И фамилия какая-то противная – Потей. А уж говорит-то так самоуверенно! Слушая его, она всегда молча не соглашается c ним.
Но он пишет статейки в журналах. Несколько раз хвалил папу. И папа с ним дружит...
...Вот девочка стала еще на год старше... Теперь она учится в седьмом классе. Учеба ей дается легко. Ее избрали в бюро комсомольской организации школы.
Но дома – плохо...
Во-первых, она болела и приходится отбывать карантин. Ее никуда не пускают.
Во-вторых, нет мамы. Она в этом году не вернулась с курорта. Тэзи точно не знает, но догадывается, что она их оставила. Папа получил письмо, но ей не показал. Скомкал и сунул в карман. Потом сорвал со стены портрет мамы и шпателем соскоблил всю краску. Тэзи заплакала, побежала к себе и спрятала мамину фотокарточку, чтобы папа не порвал и ее.
Дома появилась Наталья Филимоновна – дальняя родственница. Она когда-то была гувернанткой – и вся какая-то высохшая и старомодная. Она воспитывает Тэзи: требует, чтобы учила английский. Но Тэзи не обращает на нее внимания. А когда сердится, показывает ей за спиной язык и говорит с гримаской: «Наталья Фи‑Лимоновна». В конце концов, раз она готовит обед и делает все по дому, она и хозяйка!..
Но карантин – это очень скучно... Она смотрит в окно на заснеженную московскую улицу – 2‑ю Ямскую-Тверскую. В доме никого нет, тихо. Она проходит в папину мастерскую. Одна из папиных картин, как говорит Роман Львович, «пошла». Теперь папа делает копии. У него даже есть проволочная сетка, которую он накладывает на оригинал, чтобы получить клеточки и быстро перевести контуры на чистое полотно.
Тэзи берет приготовленный подрамник и начинает его расчерчивать. Если папа не скоро вернется из командировки, она и сама сможет сделать копию, подумаешь – трудность!..
Папа обрадовался. Тэзи боялась, что обидится.
Была продана и эта копия. Тэзи смешно и немножко стыдно: все думают, что папина работа, а это – она намазала!..
Потом она сделала копию с картины Ренуара. Роман Львович заволновался. Говорит, что она – «колорист». И тут же предложил найти покупателя. Тэзи только смеялась и мотала головой: нет, не продаст, ей самой нравится!
Роман Львович советует продолжать. А зачем? Тэзи знает, что художником не станет. Во всяком случае, таким, как папа. Это не искусство! Она станет летчиком. Как Гризодубова. Вот!..
Но Роман Львович начал ее теперь обхаживать: очевидно, у него какие-то свои планы насчет нее. Приносит коробки конфет. Но она их не ест – очень нужно! – отдает Лимоновне.
...Детство, милое детство!.. Как внезапно оно оборвалось. Пришла война... В конце сорок второго года отца и Романа Львовича призвали в народное ополчение. Тэзи уехала к бабушке. А дедушки уже нет в живых: умер в прошлом году. Бабушка очень постарела. Не ворчит. Только вздыхает.
Трудно с хлебом. Едят одну картошку. Бабушка снимает с печи чугунок и вдруг говорит:
– А в старину люди питались смоквой...
– А что это такое, бабушка? – спрашивала Тэзи.
– Еда... – отвечает бабушка и, мечтательно причмокнув, повторяет: – Смоква...
Тэзи теперь совсем взрослая: ей уже семнадцать лет, скоро будет восемнадцать. Она работает на железнодорожной станции смазчицей. До станции далеко: километра три, а то и больше. Но ничего, она вытерпит. На фронте – труднее. Летом уходит на фронт Ильдар – друг детства. Он стоит перед Тэзи и немножко смущается этой красивой девушки. А Тэзи хочется плакать. Еще один уходит туда... Что же это будет?.. От папы тоже никаких вестей. Она обнимает Ильдара и крепко целует.
– Приезжай!.. – говорит она, как будто это зависит от него. – Только, ты слышишь, приезжай!..
...И опять зима... Зима сорок третьего года. Снежные сугробы.
Тэзи сдала дежурство и, повязав пуховый оренбургский платок, выходит на пристанционную улицу. Она в овчинном полушубке и валенках. У розвальней курит сельский почтальон Шакир. На селе его за рассеченную губу зовут Куян-ауз – Заячья губа. Над лошадью вьется пар. Тускло светит заиндевелый фонарь...
– В деревню едешь? – по-татарски спрашивает Тэзи.
– Да, садись, довезу, – отвечает Шакир.
Бегут, бегут сани по снежной дороге... Глухо топают конские копыта... Синим, неживым светом заливает сугробы луна...
– Плохой служба стал, – хмуро говорит Шакир.
– Почему? – спрашивает Тэзи, отворачиваясь от холодного ветра.
– Все похорунный таскаю, горе таскаю, – хрипит Шакир. – Вот, Бакировым везу...
– Ильдар!.. – боль, словно игла, входит в усталое сердце. Голос Тэзи тонет в снежном просторе...
А дома, при свете толстой вагонной свечи, сидит напротив бабушки Роман Львович. Его трудно узнать. Худой, в грязной гимнастерке, оброс курчавой бородой. Рядом лежит вещевой мешок, на нем – палка. Свет кроваво отражается в воспаленных глазах. При входе Тэзи он вздрагивает, медленно встает.
– Я привез письмо от отца, – говорит он, суетливо шаря по карманам.
– Жив?! – бросается к нему Тэзи.
– Жив, жив. – Он подает сложенный треугольником листок из блокнота. Несколько строк карандашом. Торопливо, размашисто. «Тэзи, дочка! Я жив, здоров. Был ранен. Теперь хорошо, воюю. Прости, тороплюсь: Роман Львович едет в тыл, уже сидит в машине. Он отправит письма. Скоро напишу подробней. Береги бабушку и себя. Целую. Папа».
Перед бабушкой лежит такая же записка. Она утирает концом платка глаза.
Тэзи точно в бреду. Мешаются горе и радость. Она без сил опускается на лавку.
Роман Львович что-то рассказывает о том, как был ранен по дороге на тыловой склад, как получил отпуск. Но Тэзи ничего не слышит. Отец жив, это – главное...
Она вдруг видит, что Роман Львович берется за свой мешок. Она непонимающе смотрит на него.
– Да куда же ты? – останавливает его бабушка.
– Не знаю... – нерешительно говорит он, уголком глаза взглянув на Тэзи.
– Садись, садись, – хлопочет бабушка. – Вон откуда пожаловал – и чинится. Чай, не чужой... Поживешь у нас, пока отпуск-то.
Он быстро садится. И остается. И с этого дня начинается тот, похожий на горячечную фантазию, период, который не вычеркнешь из жизни...
Роман Львович целыми днями сидит дома. Смотрит в окно и курит. Вздрагивая при каждом неожиданном стуке, озирается. По ночам кричит нехорошим, дурным криком. Тэзи жалко его. Дойти до такого состояния!.. Она ухаживает за ним. Меняет на станции свои вещи на сало и табак. Ушли и золотые часики, подаренные отцом. Она теперь не обедает на работе. Весь хлеб и продукты, полученные по рабочей карточке, приносит домой. Отцу она написать не смогла. Роман Львович говорит, что у них должен был измениться номер полевой почты. Надо ждать письма от него. Снова ждать.