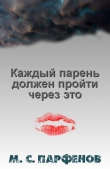Текст книги "Каменный город"
Автор книги: Р. Галимов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 26 страниц)
Кадмина сдвинула ширму. Из трех гейш осталась одна. В розовом кимоно. С зонтиком.
Опасливо оглянувшись, Никритин сел на белое покрывало кровати. Откинулся к стене, вытянул ноги.
Тата переставила коньяк на низкую скамеечку возле кровати, налила в стаканы. Взглянула темно, незряче. Не дожидаясь Никритина, запрокинула голову – пила, двигая горлом. Выдохнула и села с размаху рядом, качнув Никритина. Тоже откинулась, тоже вытянула ноги. Закурила. Смотрела перед собой. Против обыкновения – неразговорчивая. Никритин скосил глаза: «Все еще не в себе. Будто птица, готовая взлететь». Что-то невнятное, неуловимое задело сознание, словно мечущаяся летучая мышь мазнула крылом. «Было бы подло уйти». Всплыло в памяти лицо Рославлевой – скованное вниманием, как у человека, пытающегося раздвинуть створки раковины, заглянуть – что там, внутри. «Нет, в самом деле, было бы подло...» Он сидел и смотрел на гейшу – теперь одинокую, вечно танцующую, чужую в этой комнате. Играла музыка, крошилась тишина, уходил неуют.
– Я не уйду, Тата... – сказал он, подняв стакан и разглядывая на свет. – Гоните – не уйду...
И он остался.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...Среди ночи проснулся.
Тишина. Жара.
Приподнялся на локте, смотрел на нее.
Голубоватое лицо. По-детски нахмуренное и кроткое. Лицо царицы Нефертити...
И все загорелое тело – голубоватое в свете ночи. Черные тени под опавшими грудями, в мускулистых складках живота. Длинные, как рыбы, голубоватые ноги...
Тяжело и тягуче свисал с ширмы халат...
Он опустил голову, облизал шершавые губы. Сердце билось ровно, но какими-то натужными толчками, как после долгого бега, когда кровь гудит в ушах. Он вжал голову в подушку и слушал свое сердце...
Солнце передвинулось. Лицо Таты уходило в тень. Никритин откинул волосы и опустил руки.
– Я больше не могу... – воспользовалась Тата передышкой и сползла с подоконника.
Никритин обессиленно кивнул. Кажется, вконец замучил и ее, и портрет...
Шли, усталые, по улицам. Об руку, в ногу. Подташнивало от голода: оба весь день не ели ничего.
На углу кричала лоточница:
– Горячие пирожки, горячие пирожки!
Никритин остановился.
– С чем пирожки-то, тетка? – спросил он.
– С рисом, с яйцами.
– Не ври, тетка! Яйцами тут и не пахло... – подозрительно взглянул он на сморщенные комки теста.
– Пахло, пахло! Очень даже пахло, берите!..
Шли и ели пирожки, поджаренные на хлопковом масле, с начинкой из склеившегося риса. Противно всякой логике – казалось вкусно...
Машина стояла в боксе. Кадмина забежала домой и вынесла фотоаппарат и бинокль. Села за руль. Поехали.
Бежала знакомая дорога, полосатая от поперечных теней, отбрасываемых тополями. Рябило в глазах от непрерывного мельтешения, и было непонятно – как Тата ведет машину. Потянулось желтое: оборвалась стена деревьев по бокам дороги. Вспыхнули, ударили в глаза булыги изумруда, – возле бутылочного завода высилась куча зеленого стеклянного пека...
На их поляне было пусто. Горьковатая пыльная отрава наплывала от тальника. Все здесь пахло пылью и солнцем. Но выгоревший поверху дерн еще хранил где-то возле самых корней легкий травяной дух.
Никритин улегся на спину и смотрел в небо – уже подпаленное приближавшимся вечером.
Кадмина сидела рядом, приставив к глазам бинокль.
– Осыпался наш шиповник... – произнесла она.
Что-то недосказанное явственно окрасило ее голос. Никритин вопросительно взглянул на нее, – она не опускала бинокль, и он перевел глаза, посмотрел на рыжий откос. Да, цветы осыпались, куст задеревенел. Но держался – на самом краю обрыва. «Целомудрие!.. – подумал он. – Ну и что же? Держится!» Держится, пусть и замаслились, неопрятно запылились жесткие листья – зазубренные, как дисковая пила...
Держится, не держится... Какое это имеет значение, когда все летит к черту!
Никритин приподнялся на локте.
Включенный на полную мощность, гремел автомобильный радиоприемник.
Говорил Каир. Говорил, – не было музыки. Арабской. Любимой музыки Таты.
Говорил Каир. Говорила дикторша. Не говорила – исторгала лаву, заходилась в исступленье. Казалось, слова раздирали ей горло, модулировали грудными переливами. Говорила женщина. Говорила мать. Говорила жизнь, бросаясь навстречу смерти...
Никритин улавливал отдельные слова, встречающиеся в узбекском языке. Странно и страстно звучали проклятья: «Лагнати Фарансия, лагнати Бритония, лагнати Исроил!» И звучало: «Сувайш! Сувайш! Сувайш!..» – Суэц, Суэцкий канал.
Придыхающий, рвущийся голос. Ударения на гортанных звуках. Женщина говорила – будто посылала слова резким ударом ракетки, как теннисный мяч.
Никритин физически ощущал, как холодком, мурашками обдает кожу этот обнаженный кровоточащий гнев. Да, можно понять, почему всколыхнулся мир и почему приблизился к той черте, за которой – космический всплеск огня и небытие. Можно понять возникающие с кинематографической скоростью на газетных листах дипломатические ноты. Но принять возможный итог нельзя! Там – апокалипсис, пучина, конец...
Он снова откинулся навзничь, расслабил мускулы. Каким-то туманом окутало голову.
Небо – низкое, запыленное – подернулось предзакатной хмарью интенсивно-желтого цвета.
– Стронций... – сказал вполголоса Никритин. – Есть такая краска – «стронций желтый»... И есть стронций‑90 – радиоактивная пакость... Совпадение? Но не могу отделаться от чувства, что живем под желтым ядовитым небом... Смысл этого надо бы разжевать...
– Это в мой огород? За то, что приставала со смыслом жизни? – отняла наконец бинокль от глаз Кадмина и вздохнула. – Как долго мы вместе... Уже есть что вспомнить... Надоело?
Никритин поморщился, повел на нее глазами. Но она не смотрела на него. Вскочив на ноги, притопнула, прислушалась к радио.
– А я бы пошла добровольцем! Ох, как бы я дралась!.. – Она подошла к нему и опустилась на колени. – Поедем, а?
Зрачки ее расширились, как у летящей птицы. Ноздри тоже расширились и вздрагивали. Пусти – полетит!
– Куда? Кому мы нужны? – усмехнулся Никритин и потянул ее за руку.
Она тяжело навалилась ему на грудь. Взгляд ее медленно тускнел.
...Лежали рядом и смотрели в это палевое небо. Близкое, незаметно меркнущее.
– В машине есть коньяк, сбегать? – спросила она.
– Не надо, – удержал ее Никритин. – Ты же не пьешь за рулем... сама говорила.
– Ну-у... один-то раз... – все же нерешительно ответила она. – Пососу пепермент – не останется запаха.
– Нет!.. – Никритин приподнялся, сел, посмотрел ей в лицо. – Сопьемся мы с тобой...
– И пусть!.. – упрямо отвела она взгляд, заложила руки за голову. – Ты не замечаешь? Мы не можем любить, если не выпьем чуточку...
«Черт! – ругнулся он про себя. – Чертовщина!..»
И однако же она была права: все лето, при каждой встрече, что-нибудь да пили... Может, только это и давало им возможность любить друг друга, не думать о слишком многом, что мешает обоим. Мешает порознь. У каждого – свое, без точек соприкосновения.
Безрадостное лето, безрадостная связь, безрадостная правда...
Никритин сидел и с ожесточением выдирал из земли клочки жесткой застаревшей травы.
«Правда, правда!.. Если б она была так проста! Разбежались бы врозь – и все. Но не бежим ведь!..»
Клубился, будто с холмов стекая, вечер. Засвежело: у воды, да и конец августа.
...Когда они вернулись, в комнате сидел Афзал.
– Слушай, здесь нельзя жить! – безапелляционно заявил он, словно на то и потратил ожидание, чтобы прийти к подобной мысли. – Днем тут всегда скандалы, вечером – тишина – с ума сойдешь. Плохо тут. Снести нужно эти дома, хорошо? Портят центр города...
– Снести!.. – передразнил Никритин. – А твою мазанку?
– Мою не надо. У меня сад... – не принял шутки Афзал. – А снесут. Раньше, чем это...
Тата завела руки за спину, прислонилась к подоконнику. Скрестив ноги, казалось, разглядывала коричневые лоснящиеся голени.
– Снесут... – повторил Афзал, по-детски недоумевая. – Деревья вырубят. Зачем?..
Никритин не ответил, устало опустился на диван рядом с Афзалом.
– Здесь тебе – нельзя!.. – убежденно продолжал Афзал. – Переезжай ко мне... Вот вместе переезжайте, – глянул он на Тату.
Она засмеялась:
– За что я люблю Афзала – за догадливость! – Она отсмеялась, посерьезнела. – А что, Алеша, переедем? Осенью, после защиты?
Никритин смотрел на нее – сухощавую, стройную, воодушевившуюся – и едва заметно улыбался.
– Конечно, знание не нуждается в звании... – чуть сникла она и обратилась к Афзалу: – Но нужно же кончать! Дома – удобней заниматься... А осенью переедем, ладно?
Афзал кивнул и откуда-то из-за спины потащил тяжелую коробку – картонную, в пестрых ярлыках.
– Фархад приехал... – откинул он крышку.
Тускло блеснули тюбики красок. Грузные, пузатые, сложенные как патроны в обойме крупнокалиберного пулемета.
– Ну-у! Он привез? – нагнулся Никритин, выхватил свинцовый тюбик, прочел этикетку. – Французские!.. И ты еще сидишь, терпишь, не хвастаешь?!
– Что хвастать? – застенчиво-хмуровато ответил Афзал. – Тебе принес. Два комплекта было.
Он снял коробку с колен и поставил на пол возле ног Никритина.
– Мне? – не поверил Никритин. – Себе же не хватит. Не возьму.
– Если друг, возьмешь... – уже оправившись от смущения, насупился Афзал.
Никритин обернулся к нему, помедлил и, схватив за плечи, повалил на диван, затискал. Афзал отбивался, хохотал.
– А что, наши хуже? – спросила Кадмина, переждав их возню.
– Хуже, – сказал Никритин, откидывая назад растрепавшиеся волосы. – Никогда не знаешь – какую шутку сыграют: темнеют, меняют цвет. Плохо еще с красками.
– Так кто же этот чудесный Фархад? – обратилась Тата к Афзалу.
– Брат... – ответил Афзал, одернул рубаху и улыбнулся. – В Канны, черт, ездил. На Международный конгресс врачей. В Париже был, в Лувре. Хорошо, где справедливость? Нам бы – в Лувр, правда, Лешка?
Засмеялись.
– Ну, а что на конгрессе? – спросил Никритин.
– Приезжай. Фархад сам расскажет, – ответил Афзал. – Выступал содокладчиком по теме «Ионизирующие излучения». Словом, против атомных бомб. Приезжай: наговоритесь, как человечество спасать...
– А вы не верите в опасность? – спросила Кадмина.
– Я верю в это... – Афзал постучал пальцем по лбу.
Он встал и молча подошел к портрету Таты.
Никритин все перебирал тюбики, отвинчивал колпачки, нюхал. Кадмина с понимающей иронией смотрела на него.
– Что скажешь? – подняв голову, спросил Никритин.
– Днем надо посмотреть... – уклончиво ответил Афзал, но потом не сдержался: – Не надо делать икону. Зачем тебе Рублев, ты сам можешь!..
Никритин передернулся, как фигурная мишень в тире после меткого попадания. Скурлатов заронил в нем лишь сомненья, но по-дружески бесцеремонно убил Афзал.
– Бойтесь его, хорошо? – обернулся он к Тате. – Богоматерь сделает...
– Ну, на кающуюся Магдалину я бы еще согласилась... – принужденно, неприятно для Никритина хохотнула Тата: – А богоматерь – это уж слишком...
Никритин помрачнел. Наступило молчанье. Афзал недоуменно оглянулся на них, ничего не понял...
– Вообще-то мне пора... – оттолкнулась наконец от подоконника Тата. – Идемте, Афзал, я подвезу вас. Заодно посмотрю, где предстоит нам жить.
Она подошла к Никритину. Подумав, сжала ладонями его щеки, поцеловала. Словно просила прощения...
...Стрекотал будильник. В доме было тихо.
Никритин убрал краски и задумался.
Да, надо решиться. Решиться – и переехать. С Кадминой тут жить немыслимо! Тетка стала совершенно невыносимой: подглядывала, подслушивала, корила беспутством. Еще сегодня утром отчитывала, скрестив руки на груди и оглядывая комнату:
– А накурили-то! А натоптали-то!.. Чисто свинушник!.. Хоть бы сам вытирал ноги, когда входишь. А ботинки-то, ботинки-то – свят, свят!
В дверь чуть слышно постучали.
– Да!.. – обернулся Никритин.
Вошел дядька, Афанасий Петрович.
– Вот... журнал твой принесли сегодня... прости, зачитался... – произнес он виновато, протягивая номер «Творчества».
Непонятно поглядывая, прошелся на сгибающихся ногах взад-вперед. Ступал по скрипучей половице, будто канатный плясун. Сунул скрюченный палец под тесный ворот рубахи, покрутил петушиной шеей.
Никритин насторожился: видать, неспроста этот поздний визит. Но Афанасий Петрович не торопился. Подошел к тумбочке, приподнял пустую бутылку, поставил на место.
– Женишься, что ли? – оборотился он. – Догадался бы познакомить с невестой... Не чужой, кажется...
– Да с чего вы взяли? Невеста!.. – всполошенно махнул руками Никритин и мгновенно покраснел. – Наговорит тоже тетя Дуся!
– А... Ну да... невеста – это несовременно, – покивал усмешливо Афанасий Петрович и щелкнул ногтем по бутылке. – С этим добра не наживешь. Ладно, женись уж...
– Чья бы корова мычала, дядя... – съехидничал Никритин, оправляясь от смущения.
– Знаю, не тычь... – отвернулся Афанасий Петрович, чуть сгорбился, выставив костлявые лопатки. – А ты мне скажи – почему сие? Вот вроде бы и с темнотой покончили, и к культуре все больше идем. А пьем... Пьем! Потому издержек много на нервы. Мелочь пузатая. А мелочь, она как мошка. Одна – ничего, а туча – гибель...
– Да что случилось-то? – почувствовал неладное, отрешился наконец от своего Никритин.
– Случилось, случилось!.. – едко передразнил Афанасий Петрович. – То и случилось, что ручному набору конец! Не сегодня, так завтра... Вот как и твоей мазне... Все техника забьет.
Никритин понял. Видимо, опять клишированные заголовки вытеснили в номере газеты все, что заготовил цех ручного набора. Трагедия исчезающих профессий...
Ну а сам? А станковая живопись, жанр?
Кто знает, кто знает...
– Вон почитай в своем журнальчике... – с мстительным злорадством, совсем стариковским тенорком произнес Афанасий Петрович. – Ваши тоже загибаются... Гибнет, пишут, масляный пейзаж-ералаш...
Он еще раз щелкнул по бутылке и на гнущихся ногах, не прощаясь, пошел к двери.
Никритин оглянулся на лощеную, меловой бумаги обложку журнала, брошенного на диван, но читать не стал – подошел к окну.
Синела звездная немота ночи.
Завтра – на работу.
Кончался август. Кончалось лето...
ГЛАВА ШЕСТАЯ
Шелковисто терлись листья платана, разлапые, ставшие жесткими, как игральные карты. Терлись, шелестели, неуловимо припахивая осенью. Неуловимо, едва заметно, все еще переложенные густым солнцем.
Велика инерция азиатского лета: миновал сентябрь, кончался октябрь, а солнце густело по-летнему, и деревья оставались зелеными. Казалось непонятным, откуда берутся желтые и багровые листья, празднично устилающие к утру скверы и улицы. Их сгребали в кучи и жгли, эти листья...
Невидимый, растворенный в воздухе дым, едкий, горьковатый, стлался по улицам, и от него першило в горле.
Осень, осень...
Никритин покачивался, сидя в гамаке. От каждого толчка сыпались на него ягоды джиды – темно-оранжевые, с лаковой вспухшей кожурой. Сыпались, попадали в протянутую руку.
Под кожурой – мучнистая, розовато-белая мякоть, вяжущая, терпкая на вкус.
Осень, осень...
Верный признак ее – возвращаются из поездок художники.
Вернулся Скурлатов.
Был с писателями на приеме в Кремле. Вернее, на подмосковной даче. Толком ничего не рассказал, повторял то, что было в газетах. Когда отчитывался на собрании в союзе, выглядел несколько потерянным, облинявшим. Куда делись барственная самоуверенность и олимпийство!..
Вернулся Шаронов.
Хоть и недолюбливал его Никритин, а без него было скучновато. «Парадокс, но факт!» – пришло на память его выражение. Побывал и в Москве, и в Ленинграде – по пути в Мурманск к родным. Был преисполнен таинственной значительности. И все-таки чувствовалось – многое повидал, обтерся. Да, время течет по-разному у тех, кто остается на месте, и у тех, кто в движении. «Эйнштейновский релятивизм!» – усмехнулся про себя Никритин.
Он все покачивался в гамаке, ждал, когда оденется и выйдет Тата. Не виделись дней пять: заела предпраздничная работа.
С трудом отпросился сегодня из мастерской на очередной четверг в Союзе художников. Предстояло обсуждение картины, которую привез Шаронов. Что за картина – неизвестно. Но пыжился до смешного. И сыпал столичными сплетнями. И поучал... До чего любят иные поучать! Просто какой-то зуд просветительства...
– Что делается, что делается! – гримасничал Шаронов, жестикулировал. – Дают по мозгам – будь здоров! Накрылось самовыражение...
– Быстро же ты перестроился... – уколол его Никритин. – А как стоял за фронду!..
Никритин перестал качаться, уперся ногами в землю, вытянув руку, подхватил на лету ягоду джиды. Очистил, кинул в рот.
«Суемудрием, однако, штаны не заменишь, – чуть встряхнул он головой. – На работу надо налечь...» Склонив голову, критически оглядел свои брюки – застиранные, изношенные. Рубашку, выцветшую, жеваную, тоже не вредно бы заменить. Вид – куда как лихой... Свободный художник!.. Будь неладен дурак, пустивший это выражение!
Через двор полетел желтый лист. Никритин поднял голову. Лист стукнулся черенком о машину, тихо опал на землю. Большой, разлапый. Другой такой же лист платана – чистых тонов золотистой охры – лежал на закруглении багажника. Желтое на сером...
Вышла Тата – в белом, английского покроя костюме. Знала – узкое ей к лицу. И не боялась, что белое будет полнить. Волосы подобрала вверх, оставив открытой шею.
Она остановилась, вымытая, строгая, спросила взглядом: «Как?»
Никритин поднялся навстречу. Помолчал. Кивнул.
Вышли, стукнув калиткой. Слоился все тот же дым тлеющих листьев. В переулке было тихо, покинуто. Даже воробьи поскакивали молча, без обычной трескотни.
Никритин шел и сбоку изредка взглядывал на Тату. Лицо ее оставалось уж очень спокойным, чуть ли не отчужденным. Никритин ловил себя на том, что и сам спокоен до тошноты.
Что-то за дни разлуки явно переменилось, нарушилось. Казалось, оба вдруг от чего-то опомнились, что-то стряхнули с себя. Идут – чистые, трезвые и безразличные... И все за какие-нибудь пять дней?.. Нет! Никритин передернулся, взял Тату под руку, притянул ближе к себе. Она удивленно взглянула на него, но ничего не сказала.
Свернули на Пушкинскую, под свод старинных дубов и кленов, ступили на тротуар, словно вошли в тоннель. Здесь, в прохладе, было людно. На них оглядывались. «Странная, должно быть, парочка!» – подумал Никритин и отпустил ее руку. И снова она взглянула на него, и снова промолчала. Едва заметная улыбка Нефертити осветила ее лицо. Так и подумалось: «Нефертити!»
«Черт!.. – рассердился на себя Никритин. – Не хватает только записаться в романтики!»
Свело желваки, как от кислого яблока. Сам не понимал, на кого больше злится – на себя или на нее? Спокойствие исчезло, словно его и не бывало.
Возле кондитерского магазина, в кафе под тентом, вынесенном на тротуар, встретили самого Шаронова. Сидел за столиком в окружении безгрудых дев балетно-спортивного вида. После обычных «О! А!» и хлопков по спине и по плечам направились вместе в союз, чуть подальше по той же Пушкинской.
Народу собралось много. Были и художники, и те, кто пришел с ними. В небольшом зальце стало тесно. Было накурено.
Кто-то взял Никритина за локоть. Оглянулся – Скурлатов. Что-то с ним все-таки стряслось. Заметней сделался возраст – глубже прочертились морщины на львином лице, белки глаз заштриховали склеротические жилки. Осталась прежней лишь осанка.
– О-о-о!.. Узнаю вас... – обратил он глаза на Тату, пожав протянутую руку Никритина. – Видел ваш портрет у сего юноши. Завидую ему...
Он поцеловал ей руку, и Никритин – в который раз! – подивился умению Таты хорошо и естественно держать себя в любой обстановке. Слегка улыбнулась на комплимент, а глаза – с холодным серым блеском – оставались спокойно изучающими.
– Кстати, милый и сердитый юноша... – вновь обернулся Скурлатов к Никритину, – думаешь принять участие в юбилейной выставке? Дело ответственное. Поторапливайся!
С легким полупоклоном в сторону Таты он отошел: его звали.
Этюдов и эскизов картин, представленных на обсуждение, было немало. Но люди толпились возле гвоздя программы – возле «Северной истории» Шаронова, слух о которой, видимо, успел разнести таинственный устный телеграф. Картина была довольно большая по размерам – приблизительно метр с чем-то на два метра. «Кое в чем, конечно, не завершенная, – как выразился автор. – Но в целом – готовая. Судите!..»
Никритин смотрел на холст, обычного для Шаронова грязновато-синего, почти серого колорита.
Темная бревенчатая изба. Перед печкой опустилась на корточки женщина в оленьей парке. Женщина с грубым, северного типа лицом. Несколько в стороне, на лавочке, сидит, сложив руки на коленях, другая женщина – в беличьей шубке, в фетровых ботиках, с миловидно– беспомощным лицом.
Композиционно – ничего. Рисунок неплох. Но... сердца не трогает. Сюжет явно литературный, чего Никритин не терпел в живописи. Даже его собственная попытка оттолкнуться от жанра, наиболее близкого к живописи – от поэзии, – потерпела крах. А тут – чистая литература, сюжет на отвлеченно-моральную тему, вроде тех, что стали модными в полотнах последнего времени: «блудный муж», вернувшийся к семье, «неблагодарный сын», неохотно впускающий мать в свою квартиру.
Однако мода брала свое и здесь: картину хвалили. Скурлатов даже развернул сюжет, закатил целый рассказ, обращаясь главным образом к гостям художников.
– Что же здесь происходило, вот в этой раме, вырубившей кусочек жизни? – говорил он, драматически перекатывая свой баритон. – Взгляните на барыньку!.. Она сидела и смотрела, как другая женщина, простая, в оленьих грубых мехах, внесла с мороза охапку дров, стала растапливать печь. Загрохотали мерзлые поленья с клочками налипшего снега... Чувствуете, какие они тяжелые и холодные?.. Но... барынька даже не вздрогнула, даже в подсознанье у нее не шевельнулась мысль, что нужно встать и помочь... А та, разжигая сырые дрова, искоса незаметно поглядывала на женщину в «городских мехах», и у нее тоже не возникала мысль, что эта красавица не только может, но и должна встать и взять в руки заснеженные поленья. Ведь огонь разжигался для нее, для ее мужа, может быть!.. В том и заключается трагедия, что обе воспринимали происходящее, как должное. Здесь есть о чем поразмыслить, мои дорогие! Есть... И совершенно справедливо, что с автором заключили договор на его картину. Не удивлюсь, если жюри отберет ее для юбилейной выставки в Москве.
Никритин пожал плечами. Более всего удивляла скрытность Шаронова. Промолчать о договоре!.. Что ни говори, это какое-то признание!.. Другое дело – заслуженное ли признание?..
Картина была следствием очень распространенного заблуждения: внешне сюжетное расположение фигур принималось за решение темы, идеи. Но что живописная идея вне образности? Ничто! Никритин остро почувствовал это. Скажем, «Не ждали» Репина. Каждое лицо – целый мир!.. А у Герки? Некое отвлеченное противопоставление, скорей даже не в лицах, а в костюмах, выражающих неравенство. Здесь именно требуется дополнительный рассказ о происходящем, объяснение, ремарка.
«Иллюстрация! Вот!» – понял он наконец.
Слушая похвалы этому вымученному холсту, от которого и не пахло образным решением темы, Никритин испытывал мучительную неловкость, словно его обжуливали, а ему полагалось делать приятное лицо и ничего не замечать...
Было, правда, в самой атмосфере обсуждения нечто новое, что не могло не радовать. Никто не заикнулся, что картина не на местную тематику. А ведь как встретили «Обреченных»! Обидно... «Может, потому и не приемлю?» – подумал Никритин и наклонился к Тате, шепнул на ухо:
– Ну как?
– Не вспомню названия рассказа... – она медленно подняла глаза. – Но это же по Джеку Лондону?
Он пожал ей локоть. Отхлынула от сердца какая-то муть. Нет, дело не в личной обиде. Умница Тата!..
Проталкиваясь сквозь плотный кружок собравшихся, они вышли к свободному окну. Слышался голос Шаронова: «Я, товарищи...», «Мы, товарищи...», «Наше искусство...»
– Искюсство! – презрительно срюмил рот Никритин. – Ненавижу, когда треплют это слово!..
Вспомнился толстячок с неопрятной плешью, в помятых штанах, бойко обучающий группу театральной самодеятельности. «Искюсство имеет свои тайны! – с апломбом вещал человечек. – Запомните, актер понимает глазами. Ушами он не понимает. Ничего не понимает ушами!»
Тата посмотрела на потемневшее, чугунно-набрякшее лицо Никритина. Она придвинулась к нему, подтолкнула к выходу:
– Знаешь... Пойдем отсюда!
Никритин заглянул в глаза, честно поднятые к нему. Рухнуло, осыпалось нечто, встававшее между ними.
– Тата... ты мне прости... – сказал он смятенно. – С утра мне казалось – ты такая чужая...
– Лекса ты глупая!.. – приглушенно выдохнула Тата. – Давай-ка бросим копаться в себе и выкопанное примеривать друг к другу. Боюсь я. Выкопаю такое, что...
Она не договорила, смотрела незряче в окно.
Представилось, как та, рыжая, стриженная под мальчишку, та, что приехала с отцом, расхаживала по комнатам, принюхивалась, как кошка, которую занесли в новый дом. Какое уж платье было на ней? Да, в оранжевую и черную полоску... обтягивающее все прелести... Тигрица, а не кошка!.. Почему бы такой и не подцепить профессора?! «Устроить жизнь», а для развлечений мало ли мальчиков?.. Ах, отец, отец!..
Она перевела глаза, темно посмотрела в лицо Никритина.
Неужели права Нонка, которая с какой-то мрачной убежденностью заявляла: «Для меня мужчины делятся на две категории: те, что, закуривая, чиркают спичкой на себя, и те, что чиркают от себя. Вот и вся разница...»
– Пойдем! Пойдем отсюда... – повторила она, передернув плечами, словно что-то стряхивала с себя.
В дверях они столкнулись с Юлдашем Азизхановичем.
– Спешу в институт! – объявил он и засиял, заулыбался, обволок Тату добрейшим взглядом.
Никритин познакомил их. Пошли вместе. Хрустели под ногами, на кирпичах тротуара, жухлые листья. Взревывали рядом, на асфальте, автобусы, трогаясь с остановки, – красные, все еще по-летнему пышущие жаром. Оставался за ними сиреневатый дымок...
– Меня за жулика приняли... – засмеялся беззвучно, провел рукой по розовой бритой голове Юлдаш Азизханович. – Понимаете, за жулика!..
– Кто? – удивился Никритин.
– В Кермине я был, – с таинственным полушепотом поднял толстый палец Юлдаш Азизханович. – Там первый секретарь Бухарского обкома отдал приказ: не пускать в колхозы художников, а просочившихся вылавливать с милицией.
– Да за что? – еще более изумился Никритин.
– За дело, Алеша, за дело... – сипел Юлдаш Азизхаиович. – Там некие «художники» так расписали фресками Дворец культуры, любая дуракбольница позавидует! Последний наш вывесочник не поставил бы под ними свое имя... А мы – помнишь, на съезде? – спорим: мастерская, не мастерская, художники без работы погибают... Вот поле деятельности – Дома культуры, клубы, красные чайханы! Но они – там, а мы – здесь... А нас нет – и расплодились шайки мазилок, аферистов, пачкающих не только стены, но и звание художника. Вот хочу предложить в союзе, чтобы образовали бригады для выезда в кишлаки. Пойдешь?
– Надо подумать, Юлдаш Азизханович... – несколько оглушенно и неуверенно сказал Никритин. – Так просто... уйти из мастерской...
– Подумай, – засмеялся Юлдаш Азизханович и стал прощаться. – Мне здесь на троллейбус... Подумай, Алеша!.. Дело, конечно, не в деньгах. Поле деятельности какое!..
– Это кто? – спросила Тата, проводив его взглядом.
– Азизханов. Своеобразный художник. Академичен немного, но рисовальщик – позавидуешь. Он и преподает рисунок в Театрально-художественном... – еще раздумывая о предложении Юлдаша Азизхановича, ответил Никритин.
Кто не растеряется на перепутье? Интересная, конечно, затея: можно бы взяться за фрески, осуществить кое-какие замыслы, да так, чтобы они повседневно служили тем, для кого предназначались. Однако... кишлак? Как там работать, чем заинтересовать? А главное – чем самому зажечься, сугубо городскому-то?.. Нет, наобум лазаря такие дела не делаются. Покинуть мастерские действительно было бы легкомыслием. И все же... если бы не Тата... Он взглянул на нее, уловил ожидание в глазах и докончил:
– Чудаковатый дядька. Но не так прост, как кажется. Заметила? Ни слова о «Северной истории»...
– Не ехидничай. Положим, о других полотнах он тоже – ни слова... – сказала Тата, глядя себе под ноги. – И знаешь, меня удручила эта ваша выставка. Вроде бы все стараются кто во что горазд, но общий-то знаменатель – серятина. Конечно, Геркино полотно выпирает, хотя бы несхожестью с другими.
– Да не выставка это! Обыкновенный рабочий четверг, – вступился вдруг за «честь мундира» Никритин, хотя задело его совсем иное. Признать Геркино превосходство – это уж слишком! И однако же тот что-то сделал за лето...
– А какая разница? – ответила Тата. – Кстати, почему это Афзала не было?
– У тебя надо бы спросить... – с не погасшим еще раздражением сказал Никритин. – Ты ведь в последнее время видишься с ним. Зачастила...
– Да ты что? – длинно ахнула Тата. – Ревнуешь? Уж не влюбился ли в меня?
Она вдруг прыснула, захохотала.
«Ну, пошло-поехало! – подумал Никритин. – Действительно не в себе она!» Почему-то вспомнилось Геркино подмигивающее: «Ну, как там у вас собачкина любовь? Финчи-бринчи под кустом?» Не хотелось, чтобы этот пижон был прав: Да и неправ он, чепуха! Ну психует человек. Ну наговаривает на себя, напускает цинизма... Ну и что?
И стыд, и раскаяние жгли ему уши.
– Не надо... – снова взял ее под руку Никритин, притянул к себе – неподатливую, сильную. – Не надо так...
Шагали молча.
Выйдя из союза, бессознательно, без всякой цели, они направились к центру. Может, Юлдаш Азизханович увлек, может, и сами бы направились тем же путем, которым пришли. Но Никритин только сейчас осознал, что они, собственно, никуда не идут. И все же шагали ходко, в ногу. Трусцой перебежали трамвайные линии прямо перед тупым одноглазым лбом вагона.
– А я бы поехала... – неожиданно сказала Тата. Видимо, все это время думала о чем-то своем. – Поедешь?..
Никритин удивленно покосился на нее. «Нет, явно человек не в себе!»
– Пойдем в «Регину» закусим... – сказал он, помолчав. Но хотелось ему выпить, отвязаться от неотвязных мыслей. Ясно, на выставку не попасть. Не с чем. Не портрет же Таты представлять, «парсуну»!.. «Целомудрие» тоже так и не задалось. Впрочем, это бы полбеды – вся жизнь идет как-то вкосину. Может, и впрямь – расплеваться да уехать?
Тата замедлила шаг, потянула его в сторону. От желтой кирпичной стены веяло жаром. Подняв голову, она водила глазами, словно бы изучая его лицо – серое, осунувшееся, с заметной ложбинкой на подбородке, с проступившими, будто орехи, скулами.
Обращали внимание, оборачивались прохожие, но ей, казалось, было все равно. Наконец она кивнула, ему ли, своим ли мыслям, и сама взяла его под руку...