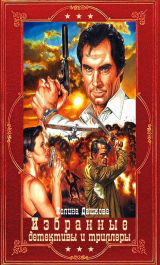
Текст книги "Избранные детективы и триллеры. Компиляция. Книги 1-22 (СИ)"
Автор книги: Полина Дашкова
Жанры:
Крутой детектив
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 80 (всего у книги 329 страниц)
Но дня через три Таня всё-таки спросила его, навёл ли он справки, был ли в полиции. Он, честно глядя ей в глаза, сказал, что выяснил совершенно точно: Георгий Тихонович Худолей ещё в феврале уехал на родину, в Томск. Труп с распоротой грудью и крашеными волосами похоронен в братской могиле как неопознанный.
– Если вас все ещё мучают сомнения, я достану адрес, вы можете написать в Томск, правда, почта сейчас работает скверно.
– Нет. Спасибо, не нужно.
Очень скоро эту историю забыли окончательно. Михаил Владимирович заболел ангиной. Неделю держалась высокая температура. Он категорически не подпускал к себе Таню, боялся, что заразит её. За ним ухаживал Агапкин. Няня Авдотья Борисовна чудом доставала свежее молоко, извлекала из своих тайных запасов заветную банку липового мёда, заваривала ромашку и сухую малину.
Профессор лежал в своём кабинете на диване, много спал, читал. Агапкин по несколько раз вдень прослушивал его лёгкие, заставлял полоскать горло, поил с ложки микстурами, кормил порошками.
Федор давно мог найти подходящую квартиру для себя, но все никак не съезжал. В доме Свешникова к нему привыкли, даже старая няня уже не ворчала, стала называть его Феденькой. Так получалось, что он всегда был нужен, полезен. Присутствие его не напрягало, наоборот, облегчало жизнь. Ему удавалось где-то доставать и приносить в дом свежие продукты, яйца, масло, колбасу. Он взял на себя общение с домовым комитетом, который возглавлял дворник Сулейман, и за это Михаил Владимирович был ему особенно благодарен.
Часто, сидя в гостиной или в столовой, он воображал себя полноправным членом семьи, Таниным мужем. Она любит его и носит его ребёнка. Вот сейчас подойдёт, обнимет, прикоснётся щекой к щеке. Нет никакого Данилова, он остался там, в дурном сне, сгинул в пороховом дыму, под штыками и сапогами пьяной от крови солдатни.
– Дисипль, вы не должны отступать. В такое тяжёлое для неё время он далеко, а вы рядом. Она видит вас каждый день, вольно или невольно прибегает к вашей помощи, чувствует ваше тепло и участие.
Так сказал Мастер. Он никогда не ошибался.
***
Мятежный генерал Лавр Георгиевич Корнилов сидел под арестом в Старом Быхове, неподалёку от Могилева, в здании женской гимназии, приспособленном под тюрьму. Вместе с ним осталась небольшая группа верных ему офицеров. Среди них был полковник Данилов.
С самого начала Павел Николаевич не видел для себя иных вариантов. В середине августа, перед поездкой в Ставку, он имел неприятный разговор с генералом Брусиловым. Старик считал Корнилова авантюристом, не щадящим ни свою, ни чужие жизни.
Алексей Алексеевич Брусилов был человеком мягким и мирным, характер его вовсе не соответствовал званию боевого генерала. Всеми силами он старался избежать конфликтов и кровопролитий, за что заслужил репутацию двуличного оппортуниста. Он пробыл главнокомандующим совсем недолго и потерпел полное фиаско. Теперь ему казалось, всё кончено, все безнадёжно. Разагитированные большевиками банды нельзя превратить в боеспособную армию.
Брусилов смутно знал о задуманном корниловском выступлении и считал, что оно обречено на провал. Прольётся много офицерской крови, а толку не будет.
– У вас молодая жена. Кажется, она ждёт ребёнка? Уходите в отставку. Катастрофа разразится в любую минуту. Россию вы вряд ли спасёте, а семью защитить можете и должны.
Тяжёлое чувство, что старик прав, не покидало Данилова, но он знал: если поступит так, если не использует этот последний шанс, потом, сколько будет жить, не простит себе.
Корнилов, став главнокомандующим после Брусилова, сумел за короткий срок добиться многого. Да, методы были жестоки, но других не имелось. Корнилов не стал, как его предшественник, объезжать бунтующие полки, вести с ними беседы, убеждать, уговаривать. Он ввёл смертную казнь в армии за убийства, грабежи, изнасилования. Преступников вешали открыто, на столбах, и несколько суток не снимали трупы. Это действовало сильно. К концу июля дисциплина стала налаживаться. Но и активность Советов возросла. Большевики шли к власти, нагло и грубо сметали все на своём пути. Правые пребывали в растерянности, враждовали между собой, искали виноватого.
Полковнику Данилову было невыносимо тяжело прощаться с Таней. Она не пыталась его удержать, он не услышал от неё ни слова упрёка.
– К ноябрю всё кончится. Я успею вернуться до того, как ты родишь.
– Конечно, – она поцеловала его, перекрестила, – я просто не стану рожать, пока ты не вернёшься.
После подавления корниловского выступления и ареста военной элиты все министры Временного правительства подали в отставку.
– Он выполняет задание Ложи, – сказала Люба Жарская о Керенском, – это часть мирового заговора тёмных сил. Большевизаны – бесы. Он расчищает для них дорогу. При первой возможности надо уезжать из России. С этой страной кончено.
Михаил Владимирович с наслаждением пил настоящий, свежий кофе, который принесла Люба. Красивая жестяная баночка с бразильскими зёрнами была королевским подарком в честь его выздоровления. Люба не доверила горничным смолоть и сварить кофе, отправилась на кухню и все сделала сама, под одобрительное ворчание няни. Ради такого случая Авдотья Борисовна даже вытащила из своего сундука неприкосновенный запас сахару.
Крепкий сладкий кофе был так хорош, что портить его глупыми речами вовсе не хотелось. Но Люба жаждала полемики, обижалась, когда профессор молчал. Пришлось говорить.
– Нет у Керенского никакого специального задания. Тщеславие, истерия, амбиции – вот тебе «тёмные силы». Но это не заговор мирового масштаба, это внутри самого человека, в его маленькой больной голове. Как всякий временщик и самозванец, он упивается властью. Он ничтожество, вдруг поднятое на невероятную вершину. Больше всего на свете боится грохнуться вниз, ему нужна поддержка. Страх лишает его рассудка. Он чувствует, каким огромным влиянием сейчас пользуются в массах эти проклятые Советы, и старается им угодить.
– Миша, но ты же не станешь отрицать, что он масон, так же как все они – Некрасов, князь Львов.
– И что с того? Причастность к Ложе не делает человека умней, образованней, могущественней. Совсем наоборот, тайные ритуалы расшатывают нервы, рождают иллюзию всезнания, вызывают острый миссионерский бред. Все эти «посвящённые», «инициированные» вряд ли были бы так жалки и беспомощны на своих министерских должностях, если бы действовали от лица мирового заговора.
– Так в этом и есть суть их тайного задания – все расшатать, развалить, довести народные массы до полнейшего озверения и открыть путь зверю. Наступит его царство. Солнце почернеет, от прошлой России останется огромное кровавое пятно на карте.
– Люба, это монолог из твоей новой пьесы?
– Нет, Миша. Это реальность, и ты обязан с ней считаться. Твоя дочь ждёт ребёнка. Твой зять в тюрьме, в Быхове. У тебя на руках Андрюша.
– Люба, я все прекрасно понимаю. Но что же делать?
– Бежать отсюда.
– Куда?
– Да хоть на край света, пока не поздно. Скажи, это правда, что ты отпустил Таню одну в Быхов?
– Она уехала вчера. Я не отпускал, конечно. Но разве её удержишь? К счастью, она не одна, с ней ещё две офицерские жёны.
– Всё равно, это безумие, в её теперешнем положении. Миша, меня просто убивает твоё легкомыслие. Я говорю это как человек, который многие годы знает и любит тебя. Ты как будто глух и слеп, – она вдруг осеклась, густо покраснела и покосилась на Агапкина.
Он всё это время молча сидел в углу, у окна, смаковал кофе, курил и тактично шуршал газетой.
Глава пятнадцатая
Москва, 2006
Дверь квартиры на Брестской Кольт открыл своим ключом. Вошёл так тихо, что даже пудель Адам не сразу его услышал и приковылял в прихожую, когда Пётр Борисович уже снял куртку.
Вслед за псом явился охранник-сиделка, отставной майор спецназа по кличке Бутон. В полумраке Кольт заметил направленное на него из-за дверного косяка дуло.
– Успокойся, Бутон, это я.
– Пётр Борисович, виноват, не узнал. – Майор включил свет, опустил свою пушку. – Не ждал так поздно. Заснул. Извиняюсь.
Он был сонный, опухший, на мятой щеке отпечатались складки наволочки.
– Ну, как тут дела? – спросил Кольт.
– Так себе. От еды отказывается, только воду пьёт. Ещё сутки, и придётся кормить через зонд.
Кольт вошёл в комнату. Старик лежал пластом на кровати, накрытый до горла одеялом. Рядом, на тумбочке, валялась шапочка-калетка. В стеклянной коробке, в голубоватой жидкости, отдыхали вставные челюсти. Пётр Борисович присел на край кровати. Агапкин застонал и открыл глаза.
– Федор, ну что ты устраиваешь спектакли? Мы же все обсудили и поняли друг друга.
В ответ старик застонал громче и дёрнул головой.
– Ну-ка, давай я тебя посажу, зубы вставим и поговорим.
Кольт отдёрнул край одеяла. Старик был закутан в белую ткань, туго спелёнат, как младенец.
– Эй, Бутон, ты совсем очумел? Ты что, смирительную рубашку на него надел? – крикнул Кольт, осторожно перевернул старика на бок, принялся развязывать узел.
– Пётр Борисович, так я по инструкции, на ночь.
Узел не поддавался. Старик мычал, шамкал, шевелил локтями.
– Что стоишь, как столб? Помоги, ножницы принеси, разрезать эту дрянь.
– Зачем резать? Я так развяжу. Он, знаете, ползает по комнатам, когда ему нужно, очень даже ловко и быстро. Руки у него сильные.
Через минуту Агапкин был свободен. Кольт стянул с него через голову белый балахон с длиннющими рукавами. Бутон принёс фланелевую пижаму, старика протёрли влажной губкой, переодели, вставили челюсти. Кольт действовал на пару с Бутоном, быстро, ловко, как заправская сиделка. Десять лет назад он так же возился со своей умирающей парализованной матерью.
– Ползает, говоришь? Руки сильные? Кто тебе дал такую инструкцию? Кто? Голова есть? Совесть есть? – нервно проворчал Кольт, когда старика пересадили в кресло.
– Зубов, твой пёс, чекушник, – ответил за Бутона старик, – он приказал. А этот исполняет. Дай мне телефон.
– Вот видите, Пётр Борисович, – сказал Бутон, – что тут можно сделать?
– Иди на кухню, свари кофе. Ему со сливками, мне чёрный, крепкий. Иди!
Бутон удалился. Кольт придвинул своё кресло ближе к старику.
– Ты хочешь позвонить в Германию?
– А куда же ещё? – старик задвигал ртом, удобней устраивая свои челюсти.
– Зачем тебе это нужно, Федор?
– Он должен узнать от меня.
– Тебе приятно сообщать такие новости?
– Приятно, неприятно – какая разница? Это моя обязанность. Я всегда держал его в курсе, я был главным и единственным источником информации.
– Успокойся. Ты давно на пенсии, и он тоже.
– При чём здесь пенсия? Что ты несёшь, Пётр?
– Да, действительно ни при чём, – Кольт вздохнул. – Я закурю, не возражаешь?
– Кури. Твой чекушник дымит, меня не спрашивает.
Кольт застыл с сигаретой во рту, с зажигалкой в руке.
– Ты хочешь сказать, он был здесь без меня? Когда?
– Позавчера. Он тебе разве не докладывал? – губы старика сморщились в усмешке. – Смотри, Пётр, как я тебя удивил. Дай телефон.
– Подождём до утра. Сейчас у нас половина второго ночи, стало быть, там половина двенадцатого. Он спит.
– Дай компьютер, я отправлю почту.
– Ты представляешь, что с ним может случиться, когда он прочитает такое сообщение?
– Ладно, подождём, – легко согласился старик.
Бутон вкатил столик. Кольт залпом выпил кофе из маленькой чашечки, потом зажёг свою сигарету. Старик пил медленно, причмокивал, смаковал каждый глоток. Кольт не отвлекал его, встал, приоткрыл окно, дымил на улицу. Звякнула чашка, старик облизнул губы и сказал:
– Если твой пёс чекушник убьёт Таню, ты за это будешь гореть в аду.
– Прости, что? – Кольт загасил сигарету и вернулся в своё кресло.
– Ты отлично меня слышал, Пётр.
– Слышал, но не понял. Таня умерла в семьдесят шестом, в Ницце. Ты сам рассказывал, как навещал её могилу там, на русском кладбище.
– Извини. Я оговорился. Но ты знаешь, кого я имел в виду. Таня умерла в Ницце, а через два месяца в Москве родилась Соня. Прошло тридцать лет, и твой пёс убил её отца.
– Так, стоп! – Кольт резко встал и прошёлся по комнате. – Я понимаю, тебе мой Зубов не нравится. Но из этого не следует, что он убил. Как вообще тебе такая чушь в голову пришла? Дмитрий Лукьянов умер от острой сердечной недостаточности.
– После того, как посидел с твоим чекушником в ресторане. Это был их последний разговор. Чекушник понял, что всё бесполезно, что он проиграл окончательно, и это тупик.
– Дмитрий Лукьянов умер сам. Естественной смертью. Тебе, Федор, рассказала об этом его дочь, Соня, – медленно, хрипло проговорил Кольт.
– А, уже прослушал запись? – старик усмехнулся. – И ничего не понял? Или не захотел понять? Ты разве не слышал, как она сказала, что у отца было здоровое сердце?
– Ну, он мог и не сообщать ей о своих болячках, – неуверенно возразил Кольт, – а если учесть его возраст и пережитое потрясение…
– Да. Потрясение, – старик пожевал губами, – надо было дать ему опомниться, подумать. А твой пёс попёр напролом.
– Неправда. Он действовал спокойно, мягко. У них сложились нормальные доверительные отношения, – тихо возразил Кольт.
– Это он тебе так докладывал.
– Он записывал каждый разговор. Я прослушивал записи. Я не заметил ошибок.
– Ты умный человек, Пётр. Я рад, что познакомился с тобой. Но ты такой же раб и профан, как другие. Ты никак не можешь расстаться с иллюзией, что все на свете продаётся за деньги. В этом твоя беда. Скажи, сколько ты заплатил мне, чтобы узнать то, что хотел узнать?
– Тебе – нисколько, – растерянно пробормотал Кольт.
– Умница, – старик сморщился в улыбке, – ты выложил много, чтобы добраться до меня, это верно. Однако потом пошёл совсем другой счёт, другая валюта.
– Что ты хочешь сказать?
– Ничего. Подумай. Найди ошибку.
– Чью?
– Твою, дурак, твою. Не его. С него, чекушника, иной спрос.
– Не понимаю, – Кольт нахмурился и помотал головой, – объясни по-человечески.
Старик взял свою чашку, допил последний глоток кофе, облизнулся, причмокнул и проворчал так тихо, что Кольту пришлось придвинуться ближе.
– Я предупреждал, чтобы вы не лезли к Дмитрию со своими деньгами. Он не продаётся. Порода у него такая. Генотип. Ты слушал все записи?
– Да.
– И последнюю тоже?
– Нет. Последний разговор записать не удалось.
– Зарядка кончилась? – старик неприятно усмехнулся.
– Представь, да.
– Удивительно. Твой пёс такой аккуратный, пунктуальный, и вдруг перед самой важной встречей забыл зарядить свой маленький аппаратик. Ну что ж, бывает.
– Ладно, хватит! – разозлился Кольт. – Я эти твои намёки не принимаю. Ты хочешь, чтобы я подозревал Ивана? Нет. Не буду. Не вижу оснований, мотивов не вижу. Зачем ему так рисковать? Он разумный и осторожный человек. Он что, яду подсыпал в ресторане? Заранее принёс с собой и подсыпал в еду, в питье? Как ты это себе представляешь? Смешно, в самом деле!
Старик закрыл глаза и принялся жевать губами. Кольт остыл немного, подошёл, поправил съехавший плед, почесал Адама за ухом и заглянул в лицо старику.
– Ну? Молчишь? Нечего возразить?
– Все, Пётр. Иди, – вяло пробормотал Агапкин, не открывая глаз, – иди домой. Я спать хочу. Скажи этому болвану, чтобы уложил меня, а утром пусть даст телефон и компьютер.
Больше Кольту не удалось добиться от Агапкина ни слова. Он сам уложил его в постель, а Бутону сказал в прихожей очень тихо, на ухо, чтобы телефона старику не давал ни в коем случае. Компьютер можно, но без Интернета, чтобы почта была недоступна.
Москва, 1917
Таня вернулась из Старого Быхова спокойная и почти счастливая. Муж её был здоров. Условия в тюрьме оказались вполне сносными, кормили арестованных неплохо, и всё, что она привезла, – сухари, яйца, ветчину, нянино варенье, Павел Николаевич заставил её съесть при нём. Он сказал, что она стала страшно худая и со своим гигантским животом выглядит как рахитичный ребёнок.
– Он кормил меня и причитал надо мной, будто это не он сидит под арестом, а я. У них там отличное общество. К ним перевели всех лучших генералов, Деникина, Эрдели, Лукомского, Маркова, Орлова. К ним постоянно приходят гости, друзья, родственники, делегации от казачьего и офицерского союзов. Многие их поддерживают, по сути, все русское офицерство на их стороне. Внутреннюю охрану несут текинцы, они преданы Корнилову. В городе стоят польские части. Там через станцию постоянно идут солдатские эшелоны, иногда останавливаются, рвутся напасть на тюрьму, расправиться с контрреволюцией, но поляки выставляют пулемёты, пару раз даже вступили в бой.
В гостиной сидели Брянцев и Жарская, они пришли послушать Таню.
– Текинский полк – это, конечно, замечательно, и поляки молодцы. Там, кажется, командует корпусом генерал Довбор-Мусницкий? – спросил Брянцев.
– Да. Он к Лавру Георгиевичу относится с огромным уважением, сочувствует, всё понимает, помогает, чем может.
– Я читала, что недавно начальником могилевского гарнизона назначили генерала Бонч-Бруевича, – сказала Люба, – он большевик, приятель Ленина.
– А я его знаю! – Михаил Владимирович хлопнул себя по коленке. – Между прочим, ему мы обязаны тем, что Гришка Распутин был приближён к царской семье. О мистическом мужике ходили слухи, будто он хлыст. Бонч-Бруевич считался одним из лучших специалистов по русским сектам. Он торжественно засвидетельствовал, что Григорий Распутин – православный христианин, кристальной души человек. Если бы тогда выяснилось, что чудотворец имеет к этой ужасной секте хоть какое-то отношение, его бы при дворе близко не было. Между тем Распутин вырос именно в хлыстовской среде, и Бонч-Бруевич не мог не знать этого…
– Разумеется, знал, в частных беседах он называл Распутина прохвостом и сектантом, – перебил Брянцев, – но ты, Миша, все перепутал, это другой Бонч-Бруевич, Владимир Дмитриевич. Генерал – его брат, Михаил Дмитриевич. Впрочем, большевики они оба.
– Генерал совсем недавно держался крайне правых убеждений, – сказала Таня, – он был тесно связан с охранкой. Теперь он, конечно, большевик. Его брат, специалист по сектам, давно и нежно дружит с Лениным.
– Боже, деточка, откуда ты это знаешь? – Жарская всплеснула руками. – И главное, зачем тебе это знать?
– Любовь Сергеевна, «деточка» вот здесь, – Таня положила ладонь на свой огромный живот, – а я взрослый человек.
– Ну, извини, извини, – смутилась Жарская, – конечно, ты взрослая, страшно умная и совершенно самостоятельная. Так что, этот генерал Бонч-Бруевич уже как-то проявил себя по отношению к арестованным?
– Ещё бы! Он выступает с речами перед депутатами местных Советов, призывает расправиться с контрреволюционерами, требует у Керенского перевести всех в настоящую тюрьму, в Могилев, убрать текинцев и приставить революционных солдат. В бывшей гимназии, в библиотеке, удалось найти брошюру со статьями генерала Бонч-Бруевича десятилетней давности, где он призывает к истреблению мятежных элементов без суда. Книжонку послали могилевскому совдепу с дарственной надписью: «Дорогому могилевскому совету от преданного автора».
– Ну и как? Коварный враг революции был разоблачён? – спросил Брянцев.
– Разумеется, нет. Совдеп полюбил его ещё больше, они окончательно сроднились. Вообще, там ведь нет никакой идеологии, никаких принципов. Понимаете, мы продолжаем судить о них с нормальных, человеческих позиций, а они другие. Они вне совести, чести. У Достоевского в «Бесах», помните? Право на бесчестие. Ставрогин говорит, если дать такое право, все к нам прибегут, никого не останется.
– Достоевский очень уж мрачен, – пробормотала Любовь Сергеевна.
– Танечка, скажи, что они там думают о будущем? Какие у них планы? Я читал, они готовят побег, – спросил Брянцев.
– О, это было бы слишком большим подарком для Керенского. Нет, бежать никто не собирается. Ждут открытого суда над Корниловым и полного его оправдания.
– Да, для армии, для всей России это было бы наилучшим вариантом, – сказал Брянцев, – Лавра Георгиевича, и всех их, разумеется, должны оправдать. Скажи, Танечка, когда у тебя срок?
– Ждём к середине ноября, – ответил за Таню Михаил Владимирович.
– Ну, я думаю, ваш Данилов вернётся раньше, – уверенно заявила Жарская.
Тане пришлось ещё целую неделю повторять свои рассказы о поездке в Быхов. Судьба узников интересовала всех – курсисток-медичек, гимназистов, соучеников Андрюши, Зою Велс, которая теперь ходила в галифе, в сапогах и ладно сшитой шинели, даже молоденьких шляпниц из ателье мадам Котти, которых Таня встречала у дома по утрам.
О быховских генералах и офицерах писали все газеты.
То и дело вспухали волны слухов о побеге и новой попытке переворота. Корнилов в тюрьме получал множество анонимных, нацарапанных левой рукой посланий, где его умоляли спасти Россию, прийти на помощь несчастному, лишённому государственной защиты обывателю.
В московские банки, в общественные организации, к богатым частным лицам являлись разные личности, требовали крупных пожертвований на «тайную корниловскую организацию», предъявляли записки от московских общественных деятелей и «собственноручные» письма от генерала, подделанные весьма умело.
Открытого суда ждал не только Лавр Георгиевич Корнилов. Ждала вся Россия. Но суда не было. Керенский сформировал Третье коалиционное правительство, провозгласил Россию федеративной республикой, выпустил из тюрьмы Троцкого и прочих большевиков.
Бастовали и закрывались заводы, фабрики, стояла железная дорога. Ленин заявил, что пришло время захватить власть:
– За нами верная победа, ибо народ уже близок к отчаянию и озверению.
В октябре Тане стало совсем нечего надеть. Даже самые свободные юбки и платья не сходились, магазины готовой одежды в Москве закрывались, частных портных почти не было, а те, что остались, заламывали чудовищные цены. Няня извлекла из своих сундуков платья, в которых мама носила Андрюшу на последних месяцах.
– Мама со мной в животе выглядела так же? – спросил Андрюша, внимательно разглядывая сестру.
– Нет. Иначе. Она была на пятнадцать лет старше, – хмуро пробормотал Михаил Владимирович, – вообще, мне не нравится эта затея. Неужели нельзя придумать что-то другое?
– Папа, перестань, – поморщилась Таня, – ты никогда не был суеверным.
Михаил Владимирович отвернулся и ничего не ответил. У него не выходило из головы случайное замечание хирурга Потапенко: «Восхищаюсь вашей Таней. Поразительно храбрая барышня. Беременная ходит на занятия, не гнушается уроками в анатомическом театре, рожать собралась в последний день Помпеи».
Гамбург, 2006
Самолёт стал снижаться. Зубов, до этой минуты спокойно дремавший в кресле, вдруг наклонился к Соне и прошептал:
– Простите, мне ужасно неловко. Можно я подержу вас за руку, пока мы будем садиться?
– Пожалуйста, если вам страшно. – Соня слегка удивилась, но дала ему руку.
– У меня фобия, – объяснил он и мягко сжал её кисть, – однажды самолёт чуть не разбился, именно при посадке. Машину стало болтать в воздушных потоках, выдали кислородные маски. Было полное ощущение, что вот сейчас грохнемся. У вас холодные руки. Вы мёрзнете?
– Нет. Просто знобит немного. Я недавно болела. Воспаление среднего уха.
– Да, я знаю, вы болели, но не думал, что так серьёзно. У меня в детстве однажды было воспаление среднего уха, лет в десять, наверное. Сначала я радовался, что можно не ходить в школу, но потом проклял все на свете. Жуткая боль. У вас сейчас уши не закладывает?
Они разговаривали шёпотом. Свет в салоне погасили, горели только маленькие лампочки. Зубов продолжал сжимать её руку.
– Да, немного.
– Вам не страшно?
– Пока самолёт не взлетел, было страшно, даже коленки дрожали. Потом сразу прошло, стало интересно. Совершенно новое ощущение. Я даже не могу вспомнить, когда в последний раз летала на самолёте.
– Я только и делаю, что летаю. Боюсь ужасно, чувствую себя отвратительно. Мой вестибулярный аппарат ни к чёрту не годится. Но никуда не денешься. Знаете, я очень рад, что моё руководство из всех многочисленных претендентов выбрало именно вас.
– Спасибо. Кстати, я хотела спросить почему?
– Вы талантливый биолог. Вы работоспособны, абсолютно порядочны, не тщеславны, – Зубов слегка пожал её руку и отпустил, – я лично настаивал на вашей кандидатуре. Помимо всего прочего, вы мне по-человечески очень симпатичны.
– Иван Анатольевич, но вы же видели меня всего один раз, в ресторане.
– О, это вам только кажется, – он улыбнулся и подмигнул. – Я, Софья Дмитриевна, занимался вами, я вас изучал почти год. Это моя работа.
– Ужас какой! Неужели меня так тщательно проверяли? А я ничего не заметила.
– За проектом стоят гигантские деньги. Моему руководству нужны абсолютно надёжные эксперты, не просто специалисты, а люди, которым можно полностью доверять, которых нельзя перекупить.
В иллюминаторе вспыхнули огни. Бескрайняя россыпь огней. Ночной Гамбург, в котором Соня никогда не бывала. На переднем сиденье строгий голос повторял:
– Катя, перестань вертеться. Зачем ты расстёгиваешь ремень?
– Бабушка, мне больно. Ушки болят.
– Потерпи немного, мы уже садимся. Сейчас всё пройдёт.
Сзади разговаривали двое мужчин, Соня не могла разобрать слов, ей то и дело мерещилось: «Будьте осторожны, прошу вас!»
В голове у неё мгновенно прокрутился весь долгий разговор с Агапкиным. Она вдруг ясно вспомнила, что один раз он назвал её папу просто Дмитрием, словно старого знакомого, и он плакал, узнав о папиной смерти. Тогда она не поняла этого, слишком всё было странно, неожиданно. А сейчас ясно отдала себе отчёт: он папу знал, а папа его – нет. Как такое могло быть? Почему?
Самолёт приземлился. Зубов помог Соне надеть куртку.
– Не забудьте шарф. Здесь немного теплей, чем в Москве, но сырость и ветер.
Пока стояли в очереди к пограничному контролю, он рассказал ей, что она переночует в Гамбурге в гостинице, а утром они отправятся в Зюльт. Это маленький остров на севере Германии.
– В Зюльт?
– Там лаборатория, в которой вам предстоит работать. Там красиво. Морской воздух, тишина. Скучновато, конечно, но у вас будут выходные, сможете ездить, куда пожелаете.
– Почему именно Зюльт?
– Наше руководство искало спокойное, экологически чистое, но при этом комфортное и цивилизованное место, подальше от любопытных журналистов.
– Зюльт, – опять повторила Соня.
Зубов недоуменно улыбнулся и заглянул ей в глаза.
– Софья Дмитриевна, объясните, что вас так удивило?
– Нет. Ничего. Я читала об этом острове. Есть роман Зигфрида Ленца «Урок немецкого», там действие происходит именно на Зюльте, во время Второй мировой войны.
– Хороший роман?
– Замечательный. Нас кто-нибудь встречает?
– Нет, – он снял её чемодан с багажной ленты, – зачем?
– Ну, не знаю… Я в первый раз за границей…
– Не волнуйтесь, Софья Дмитриевна. Я буду всё время рядом. Я вас селю, кормлю, везу на Зюльт, беру под крыло, решаю все ваши проблемы. Не возражаете?
– Спасибо, – улыбнулась Соня, – не возражаю.
Москва 1917
В лазарете всё было под контролем совдепа. По коридорам, палатам, процедурным шныряли наглые неопрятные личности. Они подслушивали разговоры, заглядывали в кастрюли на кухне, вламывались в верхней одежде, в грязных сапогах в операционные. Они везде искали агентов контрреволюции, они таскали спирт, морфий, рвали простыни и бинты себе на портянки.
Шестидесятилетняя сестра Арина получила удар сапогом в живот. Детина в чёрном бушлате волок ночью по коридору тюк с новыми казёнными пижамами. У детины было удостоверение уполномоченного совдепом. Старая монахиня пыталась спасти госпитальное имущество. Вор ударил Арину, беспрепятственно вышел из госпиталя с тюком. Пижамы можно было выгодно продать или обменять на любой московской толкучке.
В другой раз фельдшер Васильев поймал комиссара с пудовым мешком госпитального сахару. Казённый сахар и самого фельдшера спасла случайность. Мимо проходила пожилая санитарка, она несла утку из-под лежачего больного, полную до краёв. Дождалась удобного момента и выплеснула содержимое комиссару в лицо.
Но тех, кто пытался противостоять хаосу, воровству и бесчинствам, оставалось все меньше. Сестра Арина оправилась после травмы, уехала в свою обитель под Москвой. Васильев отпросился в отпуск, сказал, что хочет навестить родственников в деревне, и всё не возвращался. Хирург Потапенко стал потихоньку пить, и вот уже несколько раз во время операций Михаил Владимирович замечал, что от него пахнет спиртным.
Раненых офицеров приходилось класть в солдатские палаты, там постоянно случались стычки. Обстановка в госпитале стала не просто нервозной, а взрывоопасной. Молодой поручик, перенёсший сложную операцию на брюшной полости, выживший чудом, влез на тумбочку и произносил речь в защиту конституционной демократии. Орал так, что у него разошлись швы, открылось кровотечение. Он свалился и рассёк висок о железную спинку кровати. На следующий день умер, не приходя в сознание.
Однажды прямо в операционную ворвался выздоравливающий солдат, оттолкнул двух сестёр так, что они упали на пол, схватил скальпель и помчался назад, в палату, разбираться с каким-то из своих политических оппонентов.
– Так работать невозможно, – сказал Михаил Владимирович, – я не психиатр и не городовой.
Они с Агапкиным возвращались домой ранним утром. Небо едва светлело, ещё видны были звезды. Подморозило, оледенелые бурые листья хрустели под ногами. Кажется, в Москве не осталось ни одного дворника, ни одного извозчика. Иногда мимо проносились грузовики, броневики. В предрассветной тишине грохот казался оглушительным. Профессор вздрагивал. Он был слишком легко одет и мёрз, он похудел, осунулся.
– Может быть, пора уволиться из госпиталя? – спросил Агапкин.
– Не знаю. Я хороший хирург. Не могу без практики. Да и жалованье.
– Вы можете жить на гонорары.
– С начала учебного года я ещё не получил за лекции ни копейки. Все обещают, но вряд ли выплатят. Банк, в котором хранились мои сбережения, исчез ещё в марте. То ли лопнул, то ли просто хозяева удрали за границу.
– Мне всегда казалось, вы богаты, – признался Агапкин.
– Богаты торговцы, чиновники, банкиры. Я всего лишь лекарь, и таким же лекарем был мой отец. Правда, ни он, ни я никогда не бедствовали, привыкли жить, не думая о завтрашнем дне. Я отлично зарабатывал, но и тратил много. Нет. Уволиться из госпиталя я не могу. Я должен кормить детей.
– Таня замужем, – осторожно заметил Агапкин.
– Сейчас по всей России офицерские семьи нищенствуют. Керенский кому-то выплачивает мизерные пособия, но только не тем, чьи мужья связаны с Корниловым. У Павла Николаевича было отличное офицерское жалованье, был небольшой доход от имения, но оно все разграблено и сгорело.
– Неужели и у него нет сбережений?
– Федор, вы задаёте бестактные и смешные вопросы, – профессор улыбнулся. – Какие сбережения? В чём? В царских рублях? В керенках? Впрочем, я совсем ничего в этом не смыслю.








