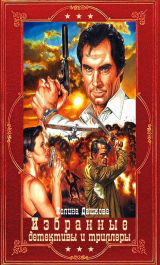
Текст книги "Избранные детективы и триллеры. Компиляция. Книги 1-22 (СИ)"
Автор книги: Полина Дашкова
Жанры:
Крутой детектив
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 229 (всего у книги 329 страниц)
Замшевый ботинок подвинулся, отпуская бумажку, белобрысый нырнул в толпу и исчез.
Глава седьмая
Люся проснулась от боли. Боль была тупая, вязкая и тяжелая, как теплый пластилин. Открыв глаза, Люся несколько минут глядела в полосатый потолок. Полоски медленно двигались и ломались, доползая до стены, отчего маленький отдельный бокс казался клеткой, подвешенной в белом безвоздушном пространстве. Полная луна заливала бокс холодным дымчатым светом. Комната плыла, кружилась все быстрей. Она не знала, что это голова у нее кружится. Такого с ней еще никогда не было. Пытаясь утешить себя, она рассудила, что все это, пластилиновая боль, невесомое жуткое кружение, лишь страшный сон. Ей часто снились страшные сны. Тетя Лиля говорила: встань и умойся холодной водой. Раковины в боксе не было, Люсе предстояло пройти по пустому коридору, освещенному дрожащими голубыми лампами. Она уже не раз преодолевала этот путь ночью, просыпаясь в ледяном поту от страшных сновидений, и знала, что там, в синем коридоре, еще страшней, чем во сне. Ночами из-под закрытых дверей маленьких палат-боксов сочились всхлипы, стоны, храп, Люся различала, как тяжело дышат во сне ее невидимые соседи, как они ворочаются, кто-то привязан на ночь к кровати, кто-то обмочился, и утро начнется с сердитого крика нянек.
Она чувствовала людей даже сквозь стены, и если люди были больны, несчастны, жестоки, Люсе становилось плохо. Она ничего не могла поделать с этим, чужие чувства отражались в ней, как в зеркале, непонятно для чего.
Зажмурившись, она приподнялась на койке и вдруг поняла, что не было никакого сна. Комната плыла наяву, и живот болел наяву. Больничная рубашка и простыня оказались темно-красными. Вот в чем дело. Люся плохая, у нее течет кровь, она умрет, так ей и надо. Но больничное белье станет грязным, и даже матрас, а его нельзя стирать. За это Люсю будут ужасно ругать.
Кровь текла и не останавливалась. Люся попыталась слезть с кровати, пусть лучше течет на пол, его можно помыть. Но голова кружилась, ноги совсем ослабли, встать Люся не сумела и закричала.
Нельзя было кричать, она знала, что на крик явятся врачи и сделают еще хуже, наругают за испорченное белье и матрас. Люся попыталась зажать себе рот, но руки не слушались, а крик продолжал звучать. Люся не только слышала его, но и видела. Он выглядел как красный воздушный шар, наполненный тяжелым черным воздухом, будто взяли грозовую тучу, сгустили всю ее мокрую черноту и вдули в шарик. Теперь он гудел, визжал, совершенно отдельно, независимо от Люси, и, покачиваясь, перемещался по маленькой палате к двери. Вот сейчас вывалится в коридор, его услышат и увидят врачи, подумают, что Люся плохо себя ведет, войдут, обнаружат, что казенное белье стало грязным и много протекло на матрас, а матрас ведь не постираешь. Они разозлятся и сделают укол.
Надо было замолчать и лежать тихо, но Люся кричала и не могла остановиться. Ее крик в виде шара, раздутого, как клещ, медленно, неохотно отвалился от двери, потому что дверь открыли. В палату вошла ночная сестра и стала сдирать с Люси одеяло. Люся накрылась с головой, спряталась в теплой душной темноте. Темнота пахла ее кровью. Кровь продолжала вытекать, и вместе с ней валился из глубины, прямо из живота, истошный крик. Вспух и надулся черным ужасом еще один шарик. Люся вцепилась в одеяло.
– Да что же это такое! Прекрати! – говорила дежурная сестра.
В палату вошли еще двое. Сильные санитары содрали одеяло, и все увидели кровь. Сестра ахнула и закричала на Люсю. Она решила, будто Люся самой себе что-то такое сделала.
– Ее надо было привязывать на ночь! – вопила сестра, сбрасывая на пол окровавленную простыню и пытаясь обнаружить припрятанный под матрасом осколок стекла или что-то другое, острое, чем могла Люся себя порезать.
Но ничего такого не было, и, казалось, сестру это разозлило еще больше.
– И зачем только живут такие уроды? – сказала она санитарам.
Люся не поняла смысла этих слов, даже не расслышала их за собственным криком, но моментально увидела злобу и гадливость в глазах сестры и от этого закричала совсем уж отчаянно.
Сильнее уколов, сильнее любой боли Люся боялась, что о ней будут плохо думать. Злые мысли других людей представлялись ей чем-то вполне конкретным, осязаемым, они имели цвет и запах. Злые мысли пахли тухлыми яйцами, рвотной кислятиной, а по цвету напоминали то рыжую осеннюю слякоть, то запекшуюся кровь. Люся казалась самой себе отвратительной, вонючей уродиной и не хотела жить. Она начинала видеть себя глазами чужого злого человека, только так, и никак иначе. Ненависть к самой себе моментально впитывалась в кожу, во все ткани тела, отравляла, словно ядовитый газ.
– А кровищи-то, как из свиньи, – покачал головой санитар, – вот, мать твою! Только поспать собрался, теперь с этим дерьмом всю ночь колупаться.
– Нет, а че случилось-то? – флегматично поинтересовался второй. – Откуда кровь?
Наконец явился дежурный врач. Люся билась в руках санитаров из последних сил. Она понимала, что все здесь считают ее плохой, ненавидела себя за это еще сильней, чем другие, и хотела вырваться, чтобы ударить себя, сделать себе, вонючей, отвратительной, еще больней, еще хуже.
Игла вонзилась так быстро, что Люся не успела ничего почувствовать, крик оглушил ее, перед глазами крутилось множество тяжелых шаров, наполненных черным криком. Люсю подняли, переложили на носилки, она стала совсем слабой и почти с облегчением нырнула в знакомую стихию боли. Там ее качали ледяные волны, озноб разъедал кожу, как кислота, плавились кости, одиночество обретало форму густого вязкого вещества, и Люся медленно, мучительно тонула в нем, даже не пытаясь выбраться.
На этот раз укол подействовал особенно сильно. Она потеряла довольно много крови, ее организм совсем не мог сопротивляться. В какой-то момент она вдруг увидела себя со стороны, толстую растрепанную девочку на каталке. Лицо девочки было бледно, глаза закрыты, от виска к щеке текла струйка ледяного пота. Эту девочку ненавидели все – санитары, медсестра, врач, который сделал укол, и Люся ее тоже ненавидела, затыкала нос, потому что воняло тухлыми яйцами.
Каталку вывезли на улицу, погрузили в машину, взвыла сирена. Люся увидела уже откуда-то издалека синие всполохи мигалки, широкое красное лицо санитара, бутерброд и банку пива в его руках, мокрый жующий рот, услышала приглушенные голоса, смех. Теперь все это не имело к ней отношения. Она находилась вовсе не в фургоне «скорой», а сидела с рюкзачком у ворот детского дома и ждала тетю Лилю.
Солнце било в глаза, пели птицы, Люся сорвала одуванчик и дунула изо всех сил. Поднялись и медленно закружились в горячем воздухе крошечные кукольные парашютики, Люся вытянула руку, пытаясь поймать их, они щекотно опускались на ладонь, она опять дула и смеялась. Пахло сухой, разогретой на солнце ромашкой, не было никакой боли, никто Люсю не трогал, не ругал, все знали, что она хорошая девочка, и тонкая фигура тети Лили в светлом летнем платье уже показалась из-за поворота. Тетя Лиля шла по дороге, чтобы забрать Люсю, все шла, шла, но не приближалась. Люсе было тепло, в груди что-то сладко, нежно вздрагивало, позванивало, как будто там поселился веселый хрустальный колокольчик.
Санитары, выгружая носилки, чуть не уронили Люсю. Тот, что всю дорогу ел, отпустил руку, чтобы на ходу поковырять в зубе, носилки перекосило, тяжелое мягкое тело поймали на лету.
– А поосторожней нельзя? – отчетливо, сердито произнес кто-то рядом, и голос был похож на голос тети Лили. – Это все-таки ребенок, а не мешок с тряпьем.
В ответ невнятно выругались матом, пахнуло рвотной кислятиной, но лишь на секунду. Люсе показалось, что она плывет куда-то, легко, как резиновая игрушка в ванной. Ее подняли, опять положили. Она почти очнулась, но боялась открыть глаза, чувствовала прикосновение ледяного металла, резиновых рук, отчетливо различала тихие голоса, острый запах марганцовки, хлорки, какой-то свежей туалетной воды, табака, мыла, и в красном мареве, под стиснутыми веками, возникло сердитое лицо тети Лили, а рядом замаячило другое лицо. Карие глаза, крепкие крупные зубы, веселая улыбка.
Он улыбался, разговаривал тихо и вежливо, но тетя все равно сердилась и выгоняла его. Люся так радовалась, что он пришел, с конфетами, с цветами, чтобы поздравить ее с днем рождения, поцеловать и накормить конфетами, она сама открыла ему дверь, а тетя вышла из ванной и стала кричать. Люся не понимала почему, но все равно ей было хорошо. Рядом с ним ей всегда было хорошо, что бы он ни говорил, ни делал, что бы ни говорили и ни делали другие. Она льнула к нему, старалась угодить во всем, каждое его слово было для нее единственной и главной реальностью. Как он говорил, так она и делала, и думала так, не желая знать, что может быть по-другому. С его ладони она могла съесть червяка, дохлую лягушку, смертельный яд и облизнуться от удовольствия.
Дали общий наркоз. Люся провалилась в сплошную, непроглядную тьму, и последнее, что привиделось ей, было сверкающее тонкое лезвие странной ромбовидной формы и огромные темные пятна крови, расползающиеся по розовой пушистой ткани.
* * *
Чай был заварен отлично, по всем правилам, но показался Илье Никитичу совершенно безвкусным. Он встал из-за стола, вылил чай в раковину, сполоснул чашку, поставил ее в сушилку и удалился к себе в комнату. Его мама, Лидия Николаевна, тяжело вздохнула и не сказала ни слова.
Бородин был старым холостяком, жил с мамой и в последний раз задумывался о том, какое впечатление он производит на женщин, лет десять назад. Однако совсем недавно, ни с того ни с сего, стал дольше задерживаться у зеркала и однажды мрачно спросил маму:
– Как ты считаешь, может красавица влюбиться в жирное чудовище?
– А что случилось? – Лидия Николаевна вздрогнула и испуганно уставилась на него сквозь очки.
– Ничего. Просто спрашиваю. Слушай, может, мне начать гимнастику делать или бегать по утрам?
– Илюша, что произошло? – Лидия Николаевна отложила книгу, подошла к сыну и развернула его за плечи. – Посмотри мне в глаза.
– Ну, смотрю.
Глаза Лидии Николаевны были увеличены стеклами очков, от этого взгляд ее казался испуганным. Но на этот раз она действительно испугалась. Ее пожилой сын многие годы говорил и думал только о работе. Он как будто забыл, что на свете существуют женщины, в зеркало смотрелся, только когда брился. Лидия Николаевна в разговорах со своими приятельницами сетовала на сложный характер сына, на его замкнутость, говорила, что мальчик вырос совершенным трудоголиком и хорошо бы его с кем-нибудь познакомить. Нельзя же вообще не иметь никакой личной жизни! И очень обидно, что никогда у нее не будет внуков.
Но она лукавила. С отсутствием внуков она давно смирилась и уже не страдала из-за этого. В глубине души она ужасно боялась, что в их налаженную, спокойную жизнь когда-нибудь ворвется чужая женщина и все пойдет кувырком.
Когда-то ему пришлось пережить глупую неразделенную любовь, это была долгая, мучительная история, после которой он сник, стал набирать вес, превратил себя в старика. Лидия Николаевна боялась повторений и не верила, что есть на свете женщина, способная по достоинству оценить ее сына. Он не молод, не богат, не красив. Он умный, добрый, порядочный человек, профессионал в своем деле, но кому в наше время это интересно?
– Так кто же она, эта красавица? – несколько раз осторожно спрашивала Лидия Николаевна.
– Никто, мама. Никто, – раздраженно отвечал Бородин, отворачивался и уходил в свою комнату, напевая под нос «Белой акации гроздья душистые» или какой-нибудь другой романс.
Лидия Николаевна решила больше не приставать к нему с вопросами. Рано или поздно сам расскажет, а не расскажет, так приведет в дом чужую женщину, и уже ничего не поделаешь.
«А может, ее вовсе нет, этой женщины? – с надеждой подумала Лидия Николаевна. – Однако похудеть Илюше все-таки надо, в любом случае. Во-первых, лишние килограммы опасны для здоровья, во-вторых, из-за этих килограммов он в свои пятьдесят выглядит на все шестьдесят, в-третьих, из-за своего круглого живота он в последнее время серьезно нервничает».
Лидия Николаевна перестала печь чудесные пирожки и принялась тереть сырые овощи. Когда Бородин отправлялся на работу, она, вместо домашних пирожков, котлет и бутербродов с ветчиной, клала ему в сумку сухие низкокалорийные галеты, не больше трех штук, пластиковые баночки с морковно-свекольным салатом, пакетик с курагой и черносливом, яблоко.
За две недели он скинул три килограмма и сразу как будто помолодел. Лидия Николаевна смотрела на него и думала, что если бы он еще и бакенбарды свои старомодные сбрил, то стал бы просто очень интересным мужчиной. Однако про бакенбарды она сказать не решалась, боялась его обидеть. Он с детства терпеть не мог выслушивать замечания по поводу своей внешности.
Каждый раз, когда звонил телефон, Лидия Николаевна со страхом и надеждой ждала услышать приятный женский голос. Она была уверена, что обязательно почувствует, когда позвонит та, которую ее сын назвал «красавицей».
Но звонки были сплошь деловые, по работе. А она все не звонила.
«Ну конечно, она не обращает на него внимания! Надо быть очень умной и тонкой женщиной, чтобы оценить моего сына. Если она не видит, какой он замечательный, значит, она грубая, недалекая, циничная эгоистка и мизинца Илюшиного не стоит», – вздохнула про себя Лидия Николаевна, когда ее мрачный молчаливый сын встал из-за стола, вылил чай в раковину и ушел в свою комнату.
Оставшись одна, она включила телевизор, прошлась по программам, но ничего, кроме натужно игривых ток-шоу и оглушительных боевиков, не показывали. Понаблюдав несколько минут за перестрелкой в американском баре, Лидия Николаевна выключила телевизор и отправилась в комнату сына. Дверь была открыта. Она увидела его сгорбленную спину за письменным столом и нарочито бодро произнесла:
– Илюша, я вот думаю, может, завтра все-таки напечь пирожков с курагой? Вера Михайловна дала мне один рецепт, тесто на кефире, почти никаких калорий. Скучно сидеть на диете, я ведь вижу, ты не получаешь от еды никакого удовольствия.
– Мамочка, – простонал Бородин, резко разворачиваясь в своем вертящемся кресле, – не надо пирожков. Давай немножко помолчим, ладно?
– Ладно, ладно. Я всегда молчу. У тебя неприятности на работе? Раньше ты мне все рассказывал, а теперь я даже не знаю, какое ты ведешь дело.
– У меня маньяк, мамочка. У меня восемнадцать ножевых ранений и дебильная сирота с самооговором.
– Ах, вот оно что, – всплеснула руками Лидия Николаевна, – а я думала, Илюша, у тебя неразделенная любовь.
– Почему неразделенная? – Бородин наконец улыбнулся. – Вот почему, мамочка, ты считаешь, что если у меня вдруг появится любовь, то она непременно будет неразделенной?
– Нет, Илюша, что ты! – испугалась Лидия Николаевна. – Я так совершенно не считаю. Ты, между прочим, очень интересный мужчина, особенно сейчас, когда стал худеть. Если ты еще расстанешься наконец со своими драгоценными бачками образца семидесятых… ох, прости, Илюша, я не хотела тебя обидеть.
– Ты меня не обидела. – Бородин легко поднялся, подошел к шкафу, приблизил лицо к зеркалу, повертел головой, потрогал щеки и задумчиво произнес: – А правда, ну их, эти бачки. Бриться будет легче, и вообще… Может, мне усы отрастить или бородку? Слушай, мамочка, как ты думаешь, возможно такое, что на больного ребенка нет вообще никаких медицинских документов?
– Нет, – твердо произнесла Лидия Николаевна, – такое невозможно. Ты сказал, дебильная сирота?
– Именно так. Девочка Люся, пятнадцати лет от роду. Олигофрения в стадии дебильности.
– Такие дети содержатся в специальных интернатах. Их в Москве совсем немного.
– Совершенно верно. Ни в одном из них Люся Коломеец 1985 года рождения никогда не числилась. Есть еще несколько семейных детских домов, но и там тоже об этой девочке ничего не слышали. Ее как будто вовсе нет на свете. А ты говоришь, неразделенная любовь.
Зазвонил телефон. Илья Никитич быстро взглянул на часы и кинулся на кухню с такой поспешностью, что у Лидии Николаевны замерло сердце.
– Да! – услышала она непривычно громкий возглас сына. – Да, Евгения Михайловна… О, господи! Почему же вы сразу не позвонили?.. Ну да, я понимаю. Нет, давайте все-таки встретимся, если вам не сложно… Да, спасибо, я подъеду к вам прямо сейчас, если не возражаете… Хорошо, я понял.
Он бросил трубку и отправился в комнату переодеваться.
– Илюша, что произошло? – осторожно поинтересовалась Лидия Николаевна. – Куда ты собрался на ночь глядя?
– У моей дебильной сироты случился выкидыш, – с нервной усмешкой сообщил Илья Никитич, – у девочки, которой только что исполнилось пятнадцать, была беременность восемь недель. А в крови у нее обнаружен какой-то сильный галлюциноген.
Когда дверь за ним закрылась, Лидия Николаевна быстро убрала остатки ужина, вымыла посуду, потом с тряпкой отправилась в комнату сына, чтобы вытереть пыль. На письменном столе валялся толстый журнал. На глянцевой обложке под ядовито-розовой надписью «БЛЮМ» извивалась голая лысая девушка, серебристая, блестящая, как будто отлитая из ртути.
– Интересно, это фотография или компьютерная графика? – пробормотала Лидия Николаевна, разглядывая картинку. – Неужели кому-то может показаться привлекательным это существо?
Она принялась листать журнал. Сплошная реклама и совсем немного текста. Лидия Николаевна пробежала глазами статейку о том, как стать своим среди богатых людей. Пункт первый: посещать места, где бывают знаменитости, наблюдать, кто как одет, и стараться во всем их копировать, при этом в разговорах сыпать известными именами небрежно, презрительно, словно речь идет о надоевших старых знакомых. Пункт второй: чистые холеные руки, вылизанные ногти. Пункт третий: очень дорогие мелочи – зажигалка, ручка, записная книжка. Пункт четвертый: всегда опаздывать минут на пять, не меньше, но и не больше. Пункт пятый: беседуя, делать вид, что собеседник тебя достал своими глупыми разговорами и ты снисходишь до него из вежливости, хотя тебя ждут куда более интересные дела и люди.
До шестого пункта Лидия Николаевна не дошла, поморщилась и перевернула страницу. Она впервые в жизни держала в руках издание такого рода и не понимала, как можно добровольно покупать подобную дрянь. Бесстыдно глумливый тон текстов, ядовитые краски, вампирские физиономии кумиров и тут же сплетни об интимной жизни этих кумиров, поданные с таким убийственным сарказмом, словно речь идет о мелких жуликах.
– Нет, это определенно хуже, чем любая порнография, – проворчала Лидия Николаевна, откладывая журнал, – бедный Илюша, сколько ему приходится потреблять всякой информационной дряни.
Работа сына была огромной и чуть ли не самой важной частью ее жизни. Лидия Николаевна не упускала случая осторожно заглянуть в таинственный и жутковатый лабиринт очередного расследования. Сама она всю жизнь занималась изобразительным искусством, была доктором искусствоведения, иногда ей приходилось разгадывать авторство безымянных полотен, проводить экспертизу, разоблачать подделку под руку какого-нибудь гениального мастера, и в этом было определенное сходство ее работы с работой сына. Она любила логические головоломки, и не было для нее большей радости, чем уловить внимательный, сосредоточенный взгляд сына, когда она за ужином, как бы между прочим, выдавала ему какой-нибудь очень дельный совет.
Лидия Николаевна чувствовала, что сын сейчас в тупике. Он ничего не рассказывал, не делился, только сообщил о восемнадцати ножевых ранениях и единственном фигуранте, дебильной девочке-сироте, которая к тому же оказалась беременной. Гаденький журнал попал к нему в связи с расследованием. Лидия Николаевна принялась заново листать его, просматривать страницы более внимательно и наконец, дойдя до последней, заметила маленький крестик против одной из фамилий в списке сотрудников журнала. Карандаш Ильи Никитича аккуратно выделил из списка заместителя главного редактора Солодкина Олега Васильевича.
Кроме журнала, на столе лежала хорошенькая дамская записная книжка в кремовом переплете из натуральной мягкой кожи. Лидия Николаевна машинально отметила про себя, что такая вещица может принадлежать даме с хорошим вкусом и довольно высокими запросами. Она стала не спеша листать книжку и, дойдя до странички с буквой «С», наткнулась на ту же фамилию. Солодкин Олег. И семь цифр телефонного номера.
Лидия Николаевна несколько минут сидела, не двигаясь, у письменного стола. В голове у нее пульсировало: «Солодкин… Солодкин…» Это своего рода мучение, когда какое-то имя кажется знакомым и никак не можешь нащупать, откуда оно взялось. Вспомнить было необходимо, это могло серьезно помочь Илюше, Лидия Николаевна нервничала, напрягала память, наконец вскочила, кинулась в свою комнату. Извлекла из ящика полдюжины старых телефонных книжек и принялась просматривать их, открывая каждую на букве «С». Но никаких Солодкиных в ее старых книжках не числилось. Лидия Николаевна чуть не заплакала от досады.
«Может быть, я принимаю желаемое за действительное? Я просто чувствую, что Илюша в тупике. И мне ужасно хочется хоть чем-то ему помочь, – подумала она. – Совсем не обязательно, что я когда-то знала человека с такой фамилией. Могла услышать в каком-нибудь разговоре. По радио, по телевизору, могла встретить в книге, в газете, мало ли где! Теперь ни за что не вспомню. Да и вовсе не факт, что в голове моей не крутится привидение, тень случайного однофамильца этого самого Олега Васильевича, заместителя главного редактора идиотского журнала».
Но, подумав так, она не успокоилась и продолжала повторять про себя проклятое, навязчивое сочетание звуков.
* * *
Психиатр Института им. Сербского Евгения Михайловна Руденко ждала следователя Бородина на лавочке в сквере неподалеку от института. Ничего нового о состоянии Люси Коломеец она не могла ему сообщить, все было уже сказано по телефону, но Бородин настаивал на встрече, и она не возражала, прежде всего потому, что отлично понимала его беспокойство. Если Люся не убивала, то где-то бродит настоящий убийца, и не просто убийца, а маньяк-серийник, умный, хитрый, неуловимый, как призрак. У Евгении Михайловны, которая на своем веку вдоволь нагляделась на монстров и моральных уродов, при мысли о нем становилось холодно в желудке. Она чувствовала, что это только начало и будут еще жертвы.
Она постоянно ловила себя на том, как было бы удобно, не хлопотно и не страшно, если бы следствию удалось установить, что восемнадцать ножевых ранений нанесла психически больная девочка и нет никакого маньяка. Девочку надо изолировать, поместить в спецлечебницу тюремного типа, и там она сгинет вместе с памятью о жутком убийстве.
Все просто и вполне логично. У подростков, страдающих врожденным слабоумием, довольно часто наблюдаются приступы немотивированной ярости. Критический возраст обостряет все беды умственной неполноценности, получается взрывоопасная смесь. Дебилка зверски убила единственного близкого человека. Если тетя брала ее на время, она могла накопить злобу, что не берет к себе навсегда, ведь неизвестно, как ей жилось в лесной школе, которую, кстати, до сих пор не удалось найти и при любом упоминании о которой Люся замолкала надолго, прекращала отвечать на вопросы. Возможно, Люсе было там очень плохо, ее дразнили, над ней издевались более здоровые и сильные дети, и тетя была для нее единственным человеком, способным изменить это. Не исключено, что поводом к агрессии послужил какой-нибудь резкий разговор. Люся требовала забрать ее совсем, не хотела возвращаться в казенное заведение, но тетя отказала ей, и девочка впала в ярость. Но могла и просто так убить, без предварительного разговора, без повода и внутренних мотиваций. Что-то там сдвинулось в ее больном мозгу, и она схватила нож, а потом испугалась и легко призналась в убийстве. Она дебилка, от нее всего можно ожидать.
Ну да, просто и логично. Именно так рассуждал убийца, убеждая или вынуждая Люсю взять вину на себя.
Экспертная комиссия, возглавляемая Евгенией Михайловной, до сих пор не имела возможности ознакомиться с историей болезни Люси, и ребенок, подозреваемый в зверском убийстве, предстал перед врачами как бы голышом, без сопроводительных документов. Не нашлось пока ни одной бумажки, кроме свидетельства о рождении, и не было ни одного взрослого, который мог бы сообщить о Люсе Коломеец хоть что-то внятное. Опытные подростковые психиатры пребывали в некоторой растерянности. Они не имели анамнеза, то есть не могли опереться на мнение коллег, наблюдавших девочку с рождения, и должны были начинать с нуля.
Перед ними был толстый, испуганный, тихий подросток женского пола в спелых прыщиках. Бросалась в глаза общая нескладность, некрасивость, связанная с переходным возрастом, но никаких явных физических уродств обнаружено не было. Нормальная форма и размер черепа, пропорциональное телосложение, внятная, осмысленная речь. То есть без анамнеза, что называется, на глазок, трудно было с уверенностью утверждать, что девочка страдает врожденным слабоумием. Диагноз «олигофрения в стадии дебильности», возникший сам по себе, брошенный врачом психиатрической «скорой», вдруг стал таять, испаряться, вызывать серьезные сомнения. Нет изначального медицинского приговора, значит, и болезни, возможно, нет. Люсю проверяли по специально разработанной системе тестов, и картина получалась довольно странная. По результатам тестирования выходило, что Люся нормальный ребенок, способный мыслить абстрактно и образно. Для олигофренов это исключено.
Конечно, девочка отставала в развитии. В свои пятнадцать лет она читала медленно, по слогам, как первоклашка, однако это могло быть результатом педагогической запущенности, плохого, недобросовестного обучения. На вопрос, кто учил ее читать, она ответила не задумываясь: «Тетя Лиля».
– Кто еще?
– Теперь никто.
– А раньше?
– Не помню.
– Ну хорошо, а в школе ты учишься?
– Иногда.
– Расскажи, как ты учишься?
– Плохо.
– Почему? Тебе не нравится учиться?
– Я бестолковая. У меня такая болезнь.
– Какая у тебя болезнь?
– Врожденная.
– Откуда ты знаешь, что у тебя врожденная болезнь?
– Ну, потому, что мне уколы делают, и вообще…
– Кто тебе делает уколы?
– Никто. Врачи. Они злые. Им нравится делать больно.
– Где это было? В больнице?
В ответ тишина. Люся быстро моргала, открывала рот, пытаясь сказать что-то, но вместо слов звучало только частое, хриплое дыхание.
– А мама Зоя делает тебе уколы?
Доктор Руденко несколько раз пробовала по просьбе следователя Бородина осторожно повернуть разговор в сторону загадочной «мамы Зои», но эти два слова вызывали у Люси эмоциональный ступор. Она замолкала, принималась что-нибудь нервно теребить в руках, низко опускала голову, избегала взглядов. Разговаривать дальше было бесполезно.
За время, прошедшее после убийства, ничего не прояснилось, наоборот, все запуталось еще больше, и путаница казалась Евгении Михайловне чрезвычайно опасной.
Бородин издалека заметил одинокую фигурку на лавочке и ускорил шаг. Солнце еще не село, но спряталось за высокие дома, и в бархатном закатном свете женский силуэт выглядел загадочно, романтично, замечательно выглядел. Илья Никитич отрепетировал про себя первую фразу, которую скажет, когда подойдет ближе: «Вы замечательно выглядите, Евгения Михайловна», и тут же огорчился, потому что прозвучит это как пошлейший, глупейший, никому не нужный комплимент.
«Я просто поздороваюсь и пожму руку, – сердито сообщил он самому себе. – Добрый вечер, Евгения Михайловна. Извините, я опоздал немного… Нет, ерунда, я совершенно не опоздал. Я вообще никогда не опаздываю. Это она пришла раньше. Интересно, почему? Да потому, старый идиот, что ей идти от своего института до этого сквера десять минут, рабочий день у нее кончился час назад, и вместо того, чтобы оставаться лишние пятьдесят минут в своем печальном заведении, она вышла пораньше, посидеть в сквере, отдохнуть, подышать воздухом. Такой чудесный вечер, ну как же не подышать? А ты что подумал? Она примчалась потому, что ей не терпелось тебя увидеть? Дурак, ну, дурак! Между прочим, ты даже не знаешь, замужем она или нет. Кольца не носит, но это ни о чем не говорит. И вообще, опомнись, посмотри на себя со стороны. Старый, толстый, нелепый, замшелый какой-то. Это просто смешно».
Евгения Михайловна между тем взглянула на часы, достала из сумочки сигареты, закурила. Она еще не видела его, и ему вдруг захотелось остановиться и немного полюбоваться ее плавным профилем, длинной шеей, гладкими светло-русыми волосами, подстриженными не очень коротко, идеально ровно. Передние пряди загибались внутрь, от этого ее лицо было как бы заключено в круглые скобки.
«Слишком строгое лицо, слишком строгая прическа. Остриженные ногти без лака. Она много работает и думает исключительно о работе. Отличный специалист. Говорят, лучший в подростковой психиатрии. Она, разумеется, замужем, – беспощадно сообщил себе Илья Никитич, – одинокие женщины в ее возрасте ведут себя иначе. Взгляд у них либо жадный, либо обиженный, а чаще и то и другое. Они демонстративно ярко красятся, взбивают волосы, как безе, либо вообще не следят за собой, впрочем, тоже демонстративно. Одинокие женщины после сорока предпочитают крайности и теряют чувство гармонии, как и одинокие мужчины, как я, например. А в ней нет никаких крайностей, стало быть, она все-таки замужем. Нет, хватит, это действительно смешно. Я ведь не на свидание пришел, и вообще, она курит, а я не выношу табачного дыма».
Приблизившись, наконец, к Евгении Михайловне, он подумал, что не так уж это и смешно, не такой уж он старый, не такой толстый, а сигареты у нее совсем мягкие, и дым пахнет даже приятно, и вообще, изумительная погода, самое любимое его время дня, сумерки, и самое любимое время года, лето, а доктор Руденко не просто красивая дама, а очень красивая, к тому же умная, и голос у нее глубокий, тихий, и волосы она не красит, и глаза не подводит. Строгое лицо и строгая прическа говорят прежде всего о хорошем вкусе, об уме и здравом смысле, а вовсе не о том, что она замужем. В конце концов, какое это имеет значение? Он ведь разумный человек, трезво оценивает себя и отлично понимает, что красавица никогда не обратит внимание на такое замшелое чудовище, как старший следователь Бородин.
– Добрый вечер, Евгения Михайловна, – он неловко взял ее за руку, за левую, потому, что в правой была сигарета, хотел поцеловать, но не решился, получилось торжественное рукопожатие, и он покраснел, в который раз за сегодняшний вечер назвав себя старым идиотом.








