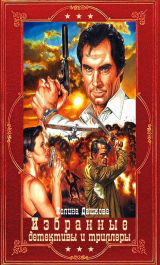
Текст книги "Избранные детективы и триллеры. Компиляция. Книги 1-22 (СИ)"
Автор книги: Полина Дашкова
Жанры:
Крутой детектив
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 72 (всего у книги 329 страниц)
Рука была синеватая, иссохшая, в узлах вздутых вен. Жёлтые ногти аккуратно подстрижены, только на мизинце, украшенном перстнем с чёрным камнем, ноготь длинный и загнутый вниз, как коготь хищной птицы.
Соня села.
– Почему вы так долго не приходили, не звонили? – спросил старик.
– Я не знаю, – удивилась Соня, – я хотела, но Борис Иванович сказал, гости вас слишком утомляют.
– Вранье. Я только и делаю, что отдыхаю. Никто меня не утомляет, – сердито проворчал Агапкин.
За стеной слышались тяжёлые шаги, шорох. Громко звякнуло стекло. Старик вздрогнул, пудель тоже вздрогнул, навострил уши и тявкнул. Хозяин взял в руку какой-то маленький прибор вроде переговорного устройства, нажал кнопку и громко произнёс:
– Если ты, болван, разбил ещё один из моих богемских бокалов, то молись своему уголовному богу, ибо скоро ты пожалеешь, что родился на свет. Как слышно? Приём!
Пудель сел и протявкал несколько раз, как будто повторяя грозную речь хозяина на своём языке. Даже интонации и тембр голоса были похожи.
– Это не бокал, а вазочка, – ответило устройство виноватым тенором, – вы просили мороженое, я стал накладывать, и, короче, это, вазочка выскользнула, но она не из сервиза.
– Почему не из сервиза? Ты решил подать мне мороженое в собачьей миске или в блюдце из-под цветочного горошка? Как слышно? Приём!
Устройство пискнуло. Лысый появился в гостиной.
– Федор Фёдорович, я, короче, извиняюсь, я взял миску из того набора, который вам на Пасху от Совета ветеранов подарили.
– Сколько раз повторять, я для тебя не Федор Фёдорович, а товарищ генерал. Ветеранский подарок можешь отнести своей маме, в моём доме никакого «гжеля». И никакого «короче». Следи за речью. Мороженое в хрустале подашь. Понял?
– Так точно, товарищ генерал!
Лысый удалился, пятясь задом.
– Присылают всякую уголовную шваль, – проворчал Агапкин, – ну, я вас слушаю, Софья Дмитриевна.
– Федор Фёдорович, а вы правда генерал? – спросила Соня. – Я думала, вы были только врачом, работали в Институте экспериментальной медицины, в лаборатории специальной психофизиологии.
– Одно другому не мешает. – Лиловые губы Агапкина перестали жевать и растянулись в улыбке. Белые блестящие зубы вставной челюсти выглядели жутко.
«Мумия улыбается», – вдруг подумала Соня.
– А каких войск вы генерал? – она старалась смотреть в сторону, на собаку, на кактусы.
– Невидимых, – ответил Агапкин и глухо рассмеялся.
Смех перешёл в кашель. Старик затрясся, глаза вылезли из орбит, жилы страшно вздулись на лбу. Пёс забеспокоился, заскулил, тяжело взгромоздил передние лапы на колени хозяина и лизнул его в лицо.
– Может, воды принести? – спросила Соня.
Старик помотал головой, ещё несколько раз кашлянул и успокоился, словно выключился внутри него какой-то квакающий ржавый аппарат. Пёс тоже успокоился, вздохнул и улёгся у его ног. Жилы на лбу старика опали, лицо из багрового опять сделалось желтоватым, как пергамент.
– Под невидимыми войсками я разумею вполне конкретную осязаемую субстанцию, – сказал старик, – у неё много имён. ВЧК, ОГПУ, НКВД, КГБ, ФСБ. Впрочем, последние три буквы меня лично уже не касаются. Я ушёл в отставку в восьмидесятом году прошлого века. Показывайте ваши фотографии.
Соня открыла папин портфель, достала конверт и вложила его в трясущуюся руку. Старик не успел достать снимки. В гостиную вошёл лысый, толкая перед собой стеклянный столик на колёсиках. На нём стояла хрустальная вазочка на тонкой высокой ноге, в вазочке три разноцветных шарика мороженого. Сверху дольки фруктов, орехи, взбитые сливки. Лысый подкатил столик к коленям старика и ушёл.
Старик спрятал конверт под свой плед, даже не раскрыв его, и сказал, пристально глядя на Соню:
– Угощайтесь.
– Спасибо, но мне нельзя.
– Ешьте! – Агапкин повысил голос.
– Федор Фёдорович, но это же вы хотели мороженого, а мне правда нельзя.
– Пожалуйста, прошу вас, я очень хочу мороженого.
– Ну, так и съешьте его сами! – Соня слегка разозлилась. – Я здесь при чём?
– Не понимаете? – он печально покачал головой. – Ладно, я скажу вам. Мне давно нельзя этого. Я питаюсь всякой гадостью. Мне можно жидкую овсянку, протёртые пресные супчики, варёные овощи без соли. Но я научился получать удовольствие, наблюдая, как едят другие. Не все, конечно. Например, если на моих глазах мороженое сожрёт эта тупая свинья, – старик понизил голос и кивнул в сторону кухни, – я ничего, кроме жалости к продукту, не почувствую.
– Отдайте Адаму, – предложила Соня, – видите, он смотрит и облизывается.
Пёс отлично её понял, заулыбался, замахал хвостом, положил морду к ней на колени.
– Ему тоже нельзя, – сказал хозяин, – по собачьему летоисчислению ему почти столько, сколько мне. Строжайшая диета. От сладкого у него гноятся глаза, от холодного он кашляет. Съешьте вы. А мы с ним посмотрим.
– Федор Фёдорович, я бы с удовольствием, тем более я люблю мороженое, но я так тяжело болела, и я боюсь.
– Чем болели?
– Ангиной. И ещё было воспаление среднего уха.
– Горло слабое, понятно. Значит, мороженого вам нельзя. Тогда пусть оно растает и не достанется никому. – Агапкин пожевал губами. – Ну, что там у вас за снимки?
Он извлёк конверт из-под пледа, раскрыл его, долго, молча перебирал фотографии, раскладывал их на коленях, брал в руки, близко подносил к глазам, даже нюхал, трогал длинным ногтем какое-нибудь лицо, как будто хотел выцарапать, выковырять его, открывал и закрывал рот, облизывал губы. Слышно было, как он часто, возбуждённо сопит. Соня обратила внимание, что он не стал надевать очки, не взял лупу, только включил торшер. Глаза у него были удивительно зоркими, он слегка щурился.
Соня терпеливо ждала и следила за его лицом. Тонкая кожа так плотно обтягивала скулы и лоб, что было больно смотреть: вот сейчас треснет, лопнет. Под глазами, когда-то большими, карими, теперь рыжими и запавшими, висели тяжёлые лиловые мешки. Ресницы и брови давно осыпались. Остались ли волосы на голове, понять было нельзя. Сейчас, как и тогда, старик не снимал чёрной шапочки.
Молчание, сопение, жевание губами длилось бесконечно. Соня пыталась уловить хотя бы тень каких-нибудь чувств на этом лице и не могла.
– Я не помню, – произнёс наконец старик.
– Что? – спросила она, привстав в кресле.
– Не помню, чтобы Таня носила блузки с высоким воротом. У неё была красивая шея, и она открывала её всегда. Вы похожи на неё, но знаете, в чём разница? Татьяна Михайловна осознавала свою прелесть, а вы, Софья Дмитриевна, самой себе безразличны. Однако внешнее сходство поразительное. Глаза, нос, рот, овал лица, даже мимика её, голос. Правда, мне сложно представить Таню в таком безобразном свитере, неухоженную и сутулую, в таких унылых тапках.
– Ну, допустим, тапки выдал мне ваш этот, лысый, – заметила Соня.
– А вы бы отказались! Даже в разруху и голод, с восемнадцатого по двадцать второй, Таня умудрялась одеваться и выглядеть приличней, чем вы сейчас. Вы, Софья Дмитриевна, держите спину, не сутультесь, и волосы не стригите так коротко. Кстати, они у вас немного светлей, чем были у Тани.
– Хорошо, я постараюсь. – Соня машинально распрямила плечи, поправила волосы. – В прошлый раз вы тоже говорили, что я похожа на дочь Свешникова. Наверное, вам показалось. Я не видела её портретов, но читала, что она была красавица, а я вовсе нет.
– Где читали?
– В мемуарах Любови Жарской.
– Много вранья, но о Тане – правда. Портреты вы видели, вы их сами мне принесли, да и в зеркало, наверное, смотритесь иногда?
– При чём здесь зеркало? А фотографии… Я понятия не имела, что это она. Кроме Свешникова, я здесь вообще никого не знаю.
– Знаете! Я тут, перед вами, и вот – на снимках. Но есть ещё люди, которые вам известны. Ваша бабушка по отцовской линии, разведчица Вера, Герой Советского Союза. Она погибла задолго до вашего рождения. Ваш отец, Данилов Дмитрий Михайлович, младенец.
– Вот уж нет. Бабушку правда звали Вера. Но отца моего зовут Дмитрий Николаевич Лукьянов.
– Да, конечно.
«Он просто оговорился, – решила Соня, – в прошлый раз он подробно расспрашивал меня о моих родителях, о бабушке. Надо же, все запомнил, только папино отчество перепутал и фамилию».
– Федор Фёдорович, может, вы знаете, кто держит на руках моего маленького папу? Человек в форме лейтенанта СС, кто он?
У старика мелко затряслась голова, он вытянул вперёд руку.
– Не кричите. Я не выношу этого.
– Я вовсе не кричу, – удивилась Сеня, – но, если вам так показалось, извините.
– Где вы взяли снимки?
– Папа привёз их из Германии.
– Дмитрий? Привёз из Германии? – Агапкин опять принялся жевать губами. – Зачем же вы явились с ними ко мне? Спросите у него.
– Не могу.
– Почему?
– Он умер.
Лицо Агапкина задвигалось, сморщилось, рот открылся, и мелко, быстро задрожал подбородок. Соне показалось, что глаза его покраснели и в них блеснула слёзная влага.
– Когда? – спросил он глухо.
– Одиннадцать дней назад.
– Как это произошло?
– Он вернулся из Германии. Он был немного странный, мрачный. Но на сердце не жаловался, он вообще был здоровым человеком. Все последнее время, до поездки, и потом, он с кем-то встречался. Накануне кто-то пригласил его в ресторан, он позвонил мне поздно вечером, попросил, чтобы я забрала его на машине. Он ждал на улице, возле ресторана. Пообещал утром рассказать нечто важное. А ночью умер. Врачи сказали, острая сердечная недостаточность, – Соня говорила очень быстро и сама не понимала, зачем выкладывает ему все это.
Старик смотрел мимо неё, взгляд был напряжённый и испуганный, словно он видел кого-то у неё за спиной. Подбородок продолжал дрожать, губы двигались, жевали, бормотали что-то, и вдруг Соня отчётливо расслышала:
– Умер. Стало быть, не уговорили.
– Что? Кто не уговорил? – Соня почувствовала такой холод в животе, как будто всё-таки съела это несчастное мороженое, и не одну порцию, а десять.
Старик молчал. Глаза его стали красными, мокрыми.
– Федор Фёдорович, вам нехорошо?
Он ничего не ответил, не шевельнулся. Она ещё раз окликнула его встала, тронула за плечо. Он как будто проснулся. Взгляд его стал осмысленным.
– Идите. Я устал. – Он дрожащими руками сложил снимки и протянул ей конверт.
– Вы должны мне объяснить. Так нельзя. Я не могу уйти, пожалуйста, не молчите!
Но он как будто больше не слышал её, пальцы принялись перебирать, комкать клетчатую шерсть пледа. Пудель Адам проснулся и тихо, жалобно заскулил.
– Федор Фёдорович, пожалуйста, ответьте мне, скажите хоть что-нибудь.
– Не могу. Простите меня. Сами все узнаете, там, в Германии. Этим не верьте, – голос задребезжал, заскрипел, как машинка, которая вот-вот сломается. – Они станут вас обрабатывать, они уже вас обрабатывают. Не верьте! Думайте сами. Только вам дано решать, только вам.
– Объясните, о чём вы? Если вы хотите меня предупредить… – Соня осеклась на полуслове, резко оглянулась.
Прямо у неё за спиной стоял лысый.
– Иди, иди, видишь, дед не в себе, – сказал он и взял Соню за локоть.
– Нет, подождите, мы не договорили, – Соня вырвала руку. – Федор Фёдорович, откуда вы знаете, что я лечу в Германию? Что вам известно о моём отце? Кому – этим – не верить?
Она ужасно занервничала, во рту пересохло, сердце заколотилось, стало тяжело дышать, и началась дикая стрельба в ухе. Лысый поволок её к двери. Адам засеменил следом, тихо поскуливая.
– Простите меня, и ему передайте, чтобы простил, будьте осторожны, прошу вас. – Голос старика долетел как эхо, потом раздались странные, булькающие звуки, и Соне почудилось, что несколько раз старик повторил: Дмитрий. Она хотела вернуться, но лысый уже закрыл дверь в комнату, заслонил своей мощной спиной.
Больше Соня не услышала ни слова, только пудель Адам тявкнул и лизнул её в лицо, когда она наклонилась, чтобы надеть сапоги.
Москва, 1916
Наталья Владимировна, сестра профессора, была замужем за крупным чиновником военного министерства графом Руттером Иваном Евгеньевичем. Три года назад случилось несчастье. Единственный их сын Николай, замкнутый болезненный мальчик, застрелился. Ему едва исполнилось восемнадцать. Он читал Ницше, сочинял сумрачные непонятные стихи в декадентском духе и был влюблён в актрису ялтинского театра, вдвое старше него.
Однажды вечером, вернувшись с её бенефиса, он зашёл в отцовский кабинет, взломал ящик, в котором хранился револьвер, нацарапал записку:
«Нет любви. Все ложь и грязь. Мне стыдно участвовать в пошлом фарсе, который вы именуете жизнью!»
– и выстрелил себе в сердце.
Наталья Владимировна стала седой за три дня, слегла с тяжёлым нервным расстройством и только в последние полгода более или менее оправилась.
В конце июля она прислала письмо брату, просила оставить у неё Осю. Морской воздух действует на мальчика целительно. Чем бы ни болел он прежде, теперь совершенно здоров.
«Тётушка хочет Осю усыновить,
– писала Таня, —
кажется, он тоже не против, хотя, конечно, скучает по тебе и с трудом представляет, как расстанется со мной и с Андрюшей. Но в тётушке он видит товарища по несчастью, мне сказал: она такая же сирота, как я».
Граф Руттер, человек жёсткий, молчаливый, скупой на проявления чувств, также прислал письмо, что само по себе было для Михаила Владимировича полнейшей неожиданностью.
Руттер писал, что Наташа, благодаря появлению в доме этого ребёнка, ожила, повеселела, душевная рана стала наконец затягиваться.
«Его нам как будто Господь послал. У тебя, Миша, трое детей. Мы с Наташей одиноки. Насколько мне известно, тебе до сих пор не удалось оформить опекунство. Я же, в свою очередь, уже навёл все необходимые справки. Ты знаешь, у меня обширные связи. Мы с Наташей готовы усыновить Осю. Кажется, он к нам тоже успел привязаться. Единственное, что его беспокоит, – как ты к этому отнесёшься».
Михаил Владимирович ответил, что весьма рад.
– Вам удалось спасти не одну, а три жизни, – сказал Агапкин после того, как профессор поделился с ним новостью. – Вы вернули с того света ребёнка. Он стал утешением для вашей сестры и её мужа. Вам не кажется, что это – божественный знак? Вы просто обязаны продолжать опыты. Это ваш долг перед Богом и людьми. Вам дан великий дар, и вы не вправе пренебрегать им. Совершенно очевидно, что ваша работа несёт добро и свет.
Михаила Владимировича все больше раздражал возвышенный стиль Агапкина, он морщился и просил выражаться проще. Что касается опытов, то в любом случае нужна была пауза. Достаточное количество животных получили дозу препарата, осталось просто наблюдать.
Григорий Третий окончательно пришёл в себя, задвигал задними лапками. Конечно, такого поразительного эффекта омоложения уже не возникло. Проплешины не заросли новой шерстью, рефлексы были замедленными. Григорий ел мало, самками не интересовался вовсе, большую часть времени проводил, сидя в углу клетки и равнодушно глядя на своих собратьев.
Они его как будто не замечали, сторонились, никто в контакт с ним не вступал.
Наблюдая, как крысы в клетке сбиваются в кучу, подальше от Григория, Михаил Владимирович думал, что зверёк, живущий вторую или даже третью жизнь, стал для своих собратьев призраком.
«Одиночество, вот расплата. Крысы невероятно мудрые и чуткие твари. От одного только присутствия Григория на них как будто веет потусторонним холодком».
Однажды вечером явился полицейский следователь. Почтительно извинившись, он уселся на краешек стула в гостиной, положил перед собой на стол тонкую папку и спросил:
– Когда вы в последний раз видели господина Грибко?
– Как вы сказали? Грибко? – удивился профессор. – Не имею чести знать такого.
– Ах, да, конечно, прошу прощения. Вам этот господин, вероятно, известен по его псевдониму. Вивариум.
– Бульварный репортёр? В последний раз я видел его около месяца назад. А что случилось?
– Третьего дня его нашли убитым в номерах Поликарпова на Пресне.
– Ничего удивительного, – нервно хмыкнул Володя, сидевший тут же, в кресле, – там кабак, дом терпимости, место грязное и опасное. Постоянно кого-то режут.
– Откуда вам известно, что Грибко зарезали? – быстро спросил следователь и уставился на Володю.
– А его зарезали? – Володя удивлённо вскинул брови. – Нет, мне ничего не известно. Я вообще не знаком с этим господином.
– Разве? А вот свидетели утверждают, будто между вами произошло резкое объяснение. В инциденте также участвовал некто доктор Агапкин Федор Фёдорович.
– Видите ли, – вмешался профессор, – господин Грибко вёл себя не совсем вежливо, он пытался войти в квартиру без приглашения, и мой сын вместе с моим ассистентом попросили его удалиться. Это было примерно в середине мая.
– Свидетели утверждают, что господин Грибко был спущен с лестницы. Доктор Агапкин нанёс ему удар в челюсть и открыто угрожал убить его.
Разговор принимал всё более неприятный оборот. Продолжился он на следующий день в участке. Выяснилось, что Агапкина уже допрашивали дважды. И только когда профессор дал официальные показания, что в вечер убийства репортёра Федор Фёдорович находился с ним лаборатории, Агапкина отпустили.
– Благодарю вас. Я ваш должник на всю жизнь, – сказал Агапкин, когда они вышли из участка и зашли в кондитерскую возле Тверского бульвара. – Они бы с удовольствием повесили на меня это убийство, других подозреваемых, вероятно, нет, а я вот он, под рукой.
– Да, лгать было неприятно, – вздохнул профессор, – но я ведь знаю вас достаточно хорошо. Вы зарезать человека не способны. А теперь скажите, где вы на самом деле провели тот вечер?
– Мы были в кинематографе, потом зашли в ресторан, – быстро ответил за Агапкина Володя.
Михаил Владимирович вскинул на него глаза, смотрел несколько мгновений и вдруг произнёс чуть слышно:
– Разумеется, вы не убивали. Ни ты, ни Федор.
– Папа, – Володя укоризненно покачал головой, – ну что ты такое говоришь? Разумеется, нет.
– Я говорю всего лишь, что вы не убивали.
– Ты так это говоришь и так смотришь, будто подозреваешь нас. Признайся честно, о чём ты сейчас думаешь? Что тебя беспокоит? Да, мы спустили наглеца с лестницы. Он ломился к нам в дом. Его смерть не особенно нас опечалила. Но ведь и тебя тоже. Из всего этого разве следует, что мы с Фёдором пробрались в номера Поликарпова и перерезали ему горло?
– Нет. Конечно же, нет, – Михаил Владимирович тяжело вздохнул и подозвал официанта, чтобы сделать заказ.
В конце августа Таня и Андрюша вернулись в Москву. Андрюша пошёл в шестой класс. У Тани начался последний учебный год в гимназии, все свободное время она опять проводила в госпитале.
В октябре полковник Данилов получил короткий отпуск из-за лёгкого ранения. Он появился, как всегда, неожиданно, с перевязанной ногой, на костылях.
– Самое обидное, – рассказывал он, – что это не в бою, это отстреливался пьяный дезертир. Впрочем, мне повезло, был бы он трезв, попал бы в голову. А так рана пустяковая, кость не задета.
Неделю они с Таней виделись каждый день, дважды были в театре, ездили гулять в Сокольники. Наступила золотая осень, холодная и тихая. Небо стало таким глубоким, что казалось, если долго глядеть, можно увидеть звезды в полдень. Таня и Павел Николаевич могли часами молчать и смотреть, питаться этой красотой, словно хотели запомнить огненные клёны, прозрачно-жёлтые, с тёплым румянцем осины, рыжие, матовые, как будто замшевые, дубы. Данилов сменил костыли на трость, сильно хромал. Таня привыкла ходить быстро, обгоняла его, ждала на аллее, подняв голову кверху, щурясь на бьющий сквозь листья солнечный свет. Когда он подходил, она целовала его в щёки, в шершавый подбородок, в краешек рта, медленно скользила пальцами по его лицу, закрыв глаза, как слепая, чтобы запомнить не только зрением, но кожей.
Дни летели, будто кто-то нарочно переводил стрелки. Вечером было нестерпимо трудно расстаться. Однажды они ужинали в ресторане на Арбате, вышли, и она сказала:
– Не надо извозчика. Дойдём пешком.
– Танечка, но до Второй Тверской я вряд ли доковыляю.
– Зачем до Тверской? Сивцев совсем близко, только улицу перейти и свернуть за угол. Разве не сможете? Ну что вы так смотрите на меня? Я хочу к вам, я хочу остаться до утра. Папе телефонирую, он волноваться не будет.
– Танечка…
– Что? Я не маленькая. Вы уезжаете на фронт послезавтра. Обвенчаться всё равно не успеем, нет времени, и платья подвенечного нет. Вряд ли вы способны обесчестить и бросить меня.
Во дворе у дома в Сивцевом стоял автомобиль, но они не заметили его, вошли в подъезд, поднялись на третий этаж. Дверь открыл денщик. В гостиной сидел посыльный с депешей от командующего фронтом. Данилов прочитал бумагу.
– Господин полковник, поезд через два часа, автомобиль ждёт внизу, – сказал посыльный.
Москва, 2006
Хорошо, что Соня отправилась на Брестскую на метро. Вряд ли ей удалось бы вести машину. Из дома она вышла шатаясь, как пьяная. Стемнело. Падал редкий крупный снег. Соня побрела по Тверской-Ямской к центру.
Как же хотелось сказать себе: «У бедняги старческий маразм, глупо придавать значение его словам, он бредит. Он не может знать, что я еду в Германию, он просто так пробормотал, ему сто шестнадцать лет. Люди столько не живут».
Она шла медленно, у неё кружилась голова. Она чувствовала себя одинокой, беспомощной и такой же старой, как Агапкин. Ей вдруг стало казаться, что она живёт чудовищно долго, не тридцать, а сто тридцать лет, или триста пятьдесят, или ещё чёрт знает сколько, и не чья-то чужая, а её собственная бесконечная жизнь запечатлена на снимках, которые лежат в портфеле.
Она так и не нашла перчатки. Левую руку сжала в кулак, спрятала в рукав дублёнки и кое-как согрела. В правой был портфель. Рука задеревенела, холод от неё полз вверх, к плечу, и дальше по всем телу.
Впереди, в нескольких шагах, светились окна кофейни. Соня зашла, села за столик в углу, заказала двойной кофе и горячий бутерброд.
Играла музыка, спокойный старый джаз. За соседним столиком сидели двое мужчин, молодой и пожилой, тихо беседовали, улыбались, хмурились. Сквозь сиплое соло саксофона Соне вдруг послышалось, что пожилой сказал:
– Умер. Стало быть, не уговорили.
Потом странным образом несколько раз прозвучала фамилия «Данилов». Конечно, это были всего лишь слуховые галлюцинации. С Соней такое случалось довольно часто. Собственные мысли вдруг начинали звучать извне, сплетаться из окружающих звуков, оформляться в слова, в предложения.
– Нет, – прошептала Соня и зажмурилась, – нет!
Следовало срочно убедить себя, что старик Агапкин в маразме и нёс чушь. Ничего он не знает, ничего не помнит. Лучше бы вообще не звонить и не ходить к нему. Теперь всё стало ещё непонятнее.
«Но если он в маразме, почему же меня так колотит после этого разговора? Дело не в нём, а во мне. Умер папа, времени прошло слишком мало. У Агапкина ясная голова и отличная память. Он сказал, что я сама все узнаю в Германии, ну и нечего дёргаться. Всё равно не выбраться из круга собственных догадок, предположений, страхов и слуховых галлюцинаций».
Раньше, когда они с Бимом приходили к старцу в гости, он говорил много и интересно. Он помнил профессора Свешникова, трёх его детей, Володю, Таню, Андрюшу, даже древнюю няньку, которая каждый год дарила Тане на именины одну и ту же куклу. Но он ни разу, ни слова не сказал об опытах профессора. Когда Соня задавала вопросы, он тут же менял тему.
– Не приставай к нему с этим, – предупредил Бим, – не исключено, что он испытывал препарат на себе, но неудачно.
– Как же неудачно, если он жив до сих пор? – удивилась Соня.
– Разве это жизнь? У него парализованы ноги, он беспомощен, как младенец.
– Но голова работает отлично, память феноменальная.
– Маразм или даже смерть были бы для него благом, спасением. Думаю, дело не в препарате. Я вообще не уверен, что Свешников изобрёл что-либо существенное. Долгожительство Федора Фёдоровича не такой уж уникальный случай. В горах Абхазии есть люди, которым сто пятьдесят.
– Так то горы, другой воздух, вода, еда, генотип особенный.
Вот именно. Генотип. Всё дело в геноме, в стволовых клетках, а Свешников терзал несчастную шишковидную железу. Её пять тысяч лет терзали, египтяне, индийские йоги, буддистские ламы. Нужен совсем другой путь.
Михаил Владимирович Свешников все никак не давал Биму покоя. Он постоянно пытался доказать, что затерянное открытие Свешникова – пустой миф.
Зачем так страстно доказывать то, с чем никто не спорит? Как можно опровергнуть то, что никому неизвестно? Старика Агапкина Бим нашёл потому, что его болезненно волнует всё, что связано со Свешниковым. Но старик ни разу ничего не сказал об опытах по омоложению. Забыл? Не знал? Или не хотел?
Соня ясно вспомнила тот сентябрьский вечер, чуть больше года назад. Они шли с Бимом пешком от Агапкина. Моросил мелкий дождь. Они зашли в эту же кофейню.
– А почему Агапкин не пишет мемуары? Он столько всего помнит, – спросила Соня.
– Восемьдесят процентов из того, что он помнит, до сих пор является государственной тайной.
– Да ладно! Сейчас уже все архивы открыты.
– Ты откуда знаешь? Ну-ка, скажи, что за шапочка у него на голове?
– Понятия не имею. Просто шапочка, чтобы голова не мёрзла.
– Вот и не просто. Это калетка. Ритуальная шапочка мастера масонской ложи. Не знаю, какая там у него ступень посвящения, но он очень крепко повязан с этими делами.
– Он что, масон?
– А то нет! – Бим перешёл на шёпот. – И нечего улыбаться. Ты даже представить не можешь, насколько это серьёзно.
– Ага, жутко серьёзно. Мировой заговор таинственных злодеев опутал незримой паутиной все сферы нашей жизни. Вам не кажется, что это слишком удобно, чтобы быть правдой? Нет подлецов, воров, психов, бездельников, пьяниц. Нет жадности, зависти. Есть масоны, они во всём виноваты. Войны, революции, экологические катастрофы – их рук дело. Причём кто они такие и зачем им всё это нужно, никто толком не знает. Но самолёты из-за них падают, и канализация у нас в институте засоряется из-за них.
– Да, канализация, грибок на стенах, отсутствие оборудования, слишком частые случаи, когда меня по недоразумению забывают пригласить на важные международные конференции.
– Борис Иванович, но вы в последнее время довольно часто летаете за границу, – осторожно возразила Соня.
– Ты хочешь меня убедить, будто все отлично? – Бим закричал так громко, что стали оборачиваться с соседних столиков. Он опомнился и перешёл на шёпот. – Нет, моя милая, все плохо, все ужасно, и за всем стоят их козни. Они мне постоянно мешают, они не дают мне раскрутиться.
– Борис Иванович, но вы же не эстрадная звезда, чтобы раскручиваться.
Он не услышал её. Он продолжал возбуждённо говорить, глаза за стёклами очков метались, пальцы в прах истерзали бумажную салфетку.
– Они не дают мне раскрутиться, знаешь почему? Потому что я хочу, чтобы продление жизни стало доступно для всех желающих. А они хотят этого только для себя. И ещё потому, что я русский. Они всегда ненавидели Россию и русских.
Тогда, год назад, Соне так хотелось думать, что Бим шутит. Но он вовсе не шутил. Он начитался каких-то научно-популярных книжек и зачислил себя в почётные ряды жертв злодейского заговора мирового масштаба. Соне стало грустно и ужасно жаль Бима. Она знала его с детства, он был талантливый учёный, неглупый человек. О старике Агапкине они больше не говорили, ни тогда, ни потом. Бим в последнее время вообще мог говорить исключительно о себе и о деньгах, которые нужны ему, чтобы раскрутиться. И ещё – о профессоре Свешникове.
Соне принесли кофе и бутерброд. Она наконец согрелась и немного успокоилась. В самом деле, разве можно поверить, что все последние события – внезапная смерть папы и такое же внезапное предложение блестящей, перспективной работы в Германии – имеют между собой какую-то внутреннюю зловещую связь? И старец ста шестнадцати лет, генерал «невидимых войск» в ритуальной шапочке-калетке на жёлтом черепе – звено этой странной цепи?
Папа умер от острой сердечной недостаточности. В Германию Соня летит потому, что ей выпал такой счастливый шанс. Она неплохой биолог, она много работает. Что у неё есть, кроме работы? Ни семьи, ни детей, никакой личной жизни. Тоска по папе. Обида и пустота после шоколадной женитьбы Пети. Ничего её в Москве не держит. Мама всё равно улетит в Сидней. Нолик? Как-нибудь переживёт, в конце концов, он ей не муж и не сын.
Наконец она побывает за границей, станет работать в удобной, чистой лаборатории, с отличным новым оборудованием, получать за это достойные деньги. Все правильно. Заслужила.
«Они станут вас обрабатывать, они уже вас обрабатывают. Не верьте! Думайте сами. Только вам дано решать, только вам».








