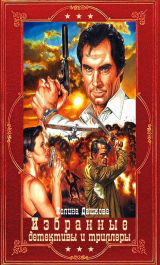
Текст книги "Избранные детективы и триллеры. Компиляция. Книги 1-22 (СИ)"
Автор книги: Полина Дашкова
Жанры:
Крутой детектив
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 113 (всего у книги 329 страниц)
Глава двадцать четвертая
Москва, 1918
Вождь поздоровел, повеселел. Сломанная левая рука отлично срасталась и почти не беспокоила его. Головные боли отпустили, он засыпал легко, просыпался бодрый и свежий, хохотал, читая медицинские бюллетени, приветственные послания трудящихся, гневные проклятия врагам пролетариата, покусившимся на священную жизнь вождя, возвышенные панегирики в свой адрес.
Соратники старались перещеголять друг друга. Миллионными тиражами печатались брошюры Троцкого, Каменева, Зиновьева, Бухарина. Ильича называли воскресшим из мертвых вождем «божьей милостью», «апостолом мирового коммунизма».
Воображаемые пули открыли вождю дорогу к бессмертию. Миф о чудесном воскрешении из мертвых действовал на темные голодные массы сильнее лозунгов и воззваний. Мудреные слова «социализм», «классовая борьба», «диктатура пролетариата» были непонятны и чужды простому человеку. Миф оказался убедительней слов и самой реальности. Расчет был точен. Воскресшего вождя полюбили, ему поверили, ему стали поклоняться как божеству.
2 сентября ВЦИК поставил и решил вопрос о красном терроре. «Расстреливать всех контрреволюционеров. Предоставить районам право самостоятельно расстреливать. Устроить в районах маленькие концентрационные лагеря. Принять меры, чтобы трупы не попадали в нежелательные руки. Ответственным товарищам в ВЧК и районных ЧК присутствовать при крупных расстрелах. Поручить всем районным ЧК к следующему заседанию предоставить проект решения вопроса о трупах».
5 сентября постановление о красном терроре было принято Совнаркомом.
«Предписывается всем Советам немедленно произвести аресты правых эсеров, представителей крупной буржуазии и офицерства. Подлежат расстрелу все лица, прикосновенные к белогвардейским организациям, заговорам и мятежам. Нам необходимо немедленно, раз и навсегда, очистить наш тыл от белогвардейской сволочи. Ни малейшего промедления! Не око за око, а тысячу глаз за один. Тысячу жизней буржуазии за жизнь вождя! Да здравствует красный террор!»
Под постановлением подписались нарком юстиции Курский и нарком внутренних дел Петровский. Ни Свердлов, ни Ленин своих автографов под этим документом не оставили.
Свердлов явился в кабинет вождя со стопкой бумаг, как обычно, зло блеснул своими пенсне на Федора.
– У меня есть уважительная причина, я ранен, – ехидно заметил вождь, пробежав глазами машинописный текст, – а вы, Яков, могли бы и расписаться, для истории. Вы принесли, наконец, дело Каплан?
Свердлов ничего не ответил, шлепнул на стол папку. Вождь несколько минут молча листал, читал, качал головой.
– Яков, вы понимаете, что это никуда не годится? Чушь, полнейшая чушь! Курам на смех! Где протоколы допросов? Где показания свидетелей?
– Владимир Ильич, все тут, перед вами.
– Тут передо мной чушь! Женская рука с браунингом! Один говорит, она целилась в спину, другой говорит, она целилась в грудь. У нас какое официальное время покушения? Семь с половиной вечера. А в показаниях Гиля он меня только в десять привез к Михельсону, плюс еще час я выступал. Яков, вам не приходило в голову, что в одиннадцать уже тьма кромешная и никакой женской руки с браунингом никто не разглядит?
– Что касается времени, так тут у нас есть пространство для маневра, – спокойно заметил Свердлов, – по-старому одиннадцать вечера, а по-новому восемь. Владимир Ильич, это только черновики, товарищи не успели отредактировать. Вы же потребовали срочно принести.
– Тут не редактировать, тут все заново переписывать надо! Яков, скажите честно, вы сами потрудились прочитать? Нет? Ну, так хотя бы послушайте!
Вождь стал читать нарочито театрально, видно, спектакль продолжал забавлять его.
– «Подойдя к автомобилю, я услышал три резких звука, которые я принял не за револьверные выстрелы, а за обыкновенные моторные звуки. Вслед за этими звуками я увидел толпу народа, разбегавшуюся в разные стороны. Человека, стрелявшего в Ленина, я не видел. Я не растерялся и закричал: „Держите убийцу тов. Ленина!“ – и с этими криками побежал на Серпуховку, по которой в одиночном порядке и группами бежали в различном направлении перепуганные выстрелами и общей сумятицей люди».
– Ну и что? – Свердлов невозмутимо повел кожаным плечом. – Я лично не нахожу пока никаких несоответствий.
– Не находите? Ладно, читаем дальше!
«Я увидел бежавших двух девушек, которые, по моему глубокому убеждению, бежали по той причине, что позади них бежали другие люди, и которых я отказался преследовать. В это время позади себя, около дерева, я увидел с портфелем и зонтиком в руках женщину, которая своим странным видом остановила мое внимание. Она имела вид человека, спасающегося от преследования, запуганного и затравленного. Я спросил ее, зачем она сюда попала. На эти слова она ответила: „А зачем вам это нужно знать?“, что меня окончательно убедило в покушении этой женщины на тов. Ленина.
На Серпуховке кто-то из толпы в этой женщине узнал человека, стрелявшего в Ленина. После этого я еще раз спросил: «Вы стреляли в тов. Ленина?», на что она утвердительно ответила, отказавшись указать партию, по поручению которой стреляла. В военном комиссариате Замоскворецкого района эта задержанная мной женщина на допросе назвала себя Каплан и призналась в покушении на жизнь Ленина».
– Владимир Ильич, я же сказал, это черновики, – еще раз повторил Свердлов и нервно закурил.
– Яков, знаете, как это называется? Халтура! В одной руке зонтик, в другой портфель. А оружие она во рту держала? И дальше, там про какие-то гвозди, стельки. Ну что вы дымите и молчите? Объясните мне, главному персонажу сей исторической драмы, почему у опытной матерой террористки, которая от лица партии правых эсеров пришла меня шлепнуть, в ботинках были гвозди?
– Владимир Ильич, видите ли, когда ее привели в районный комиссариат, она сразу разулась, попросила что-нибудь положить в ботинки, пожаловалась, что изранила ноги гвоздями. Ну и какой-то красноармеец дал ей несколько бланков вместо стелек. А потом при повторном обыске на Лубянке нашли эти стельки и арестовали всех сотрудников комиссариата.
– Молодцы! Отличная работа! И что, сотрудники так и сидят? Или их уже выпустили?
– Конечно, Владимир Ильич, всех выпустили.
Ленин хмыкнул и опять уставился в бумаги.
– Всех. Замечательно. И лиц, задержанных на квартире номер пять, в доме десять по Большой Садовой, тоже выпустили? Ну, да, я вижу. «Давид Савельевич Пигит, беспартийный марксист и интернационалист. Имеет обыкновение после каждого незначительного акта против Совнаркома быть арестованным. Так, он был арестован после убийства графа Мирбаха и освобожден по просьбе ряда коммунистов. Ныне предлагаю освободить его без таковых ходатайств… Засаду с квартиры снять. Кингисепп, Петерс, Аванесов».
Он захлопнул папку и раздраженно отбросил ее прочь.
– Архиглупо, архинебрежно! Запомните, Яков, этой безобразной халтуры я никогда не читал, в глаза не видел! «Имеет обыкновение быть арестованным»! Умственные недоноски!
Свердлов хотел сказать еще что-то, но не успел. Ленин опять захохотал, замахал рукой.
– Все, идите, Яков, унесите это от меня подальше, иначе помру от смеха!
Свердлов взял папку со стола, сверкнул своими пенсне.
«Да, я знаю, меня здесь не должно быть», – хотел сказать Федор, но, разумеется, промолчал.
– Ушел, сволочь, – пробормотал Ленин, когда закрылась дверь, – и не куда-нибудь, а в мой кабинет. Засел там, как у себя дома, устроился основательно, с комфортом, распоряжается, руководит в свое удовольствие, Бончу сказал: видите, и без Ильича отлично справляемся. А Бонч, верный мой дружок, конечно, прибежал мне об этом доложить, чтоб поднять настроение. Троцкий заигрывает с англичанами, с американцами, у него своя отдельная игра, хитрая, умная. Соломку подстилает, чтоб мягче падать.
Он снова засмеялся, громко, на высоких нотах. Смех был похож на истерику. Но стих через минуту, когда в комнату вошла Крупская.
– Володя, что? Что опять случилось?
– Ничего, Надюша. Все в порядке.
Федор не знал, был ли между ними разговор о расстреле Фанни Каплан. Больше речи об этом не заходило. Вероятно, вождь легко убедил жену, что поспешная казнь – недоразумение, в котором виноват Свердлов.
– Ты же знаешь Якова, он человек решительный и жесткий. От ошибок никто не застрахован.
Надежда Константиновна сразу поверила и не стала задавать лишних вопросов. К тому же значительно более, чем судьба бедной слепой Фанни, ее волновали участившиеся визиты к вождю красавицы Инессы. В связи с нездоровьем и вынужденным заточением Ильич желал видеть «дорогого друга» почти каждый вечер.
Товарищ Инесса казалась бледной прекрасной тенью прошлого, разрушенного мира. В ней вопреки всему сохранилась отнюдь не большевистская женственность. Ее густые золотисто-каштановые волосы блестели. Улыбка открывала безупречные белые зубы. Родив пятерых детей, она умудрилась остаться легкой и стройной, как девочка. Ее тонкое, чистое, чуть ассиметричное лицо притягивало взгляд. Трудно было поверить, что это изысканное большеглазое создание имеет за плечами три тюремных заключения, полтора года ссылки в отдаленную глушь Архангельской губернии и побег из ссылки.
Рядом с Инессой хотелось пить маленькими глотками ледяное шампанское и бойко болтать о пустяках по-французски. Она была аристократически приветлива со всеми, включая охрану и прислугу. Она садилась за фортепиано, играла Бетховена, Шопена, Шуберта. Вождь слушал хмуро и напряженно, прикрыв лицо ладонью, как бы отгородившись от всех и от себя самого. Надежда Константиновна вздыхала, беспокойно ерзала в кресле. Мария Ильинична покачивала головой, поджимала губы, косилась на Крупскую то злорадно, то сочувственно.
Инесса играла великолепно.
Федор, скромно сидя на подоконнике, старался ни о чем не думать, просто отдыхал и наслаждался живой музыкой. Ее все меньше оставалось, наверное, скоро она совсем исчезнет под напором революционных маршей и пьяных частушек.
За последним аккордом следовала долгая пауза, глубокая, странная тишина. Инесса бессильно роняла руки на колени, поворачивалась лицом к вождю, и взгляд ее был беззвучным продолжением музыки. Она смотрела на вождя с такой любовью и преданностью, он любовался ею так откровенно, что у бедняги Крупской багровели щеки, на лбу выступали капельки пота, а Мария Ильинична начинала тактично покашливать.
Трагическим апогеем вечера становились бесконечные полчаса, которые проводила товарищ Инесса наедине с вождем. Дверь в кабинет мягко закрывалась. Крупская преувеличенно громко топала по коридору мимо этой двери, сновала туда-сюда без всякой уважительной причины.
– Надя, уже поздно, тебе надо готовиться к завтрашней лекции, – раздраженно замечала Мария Ильинична.
– Боишься, стану подсматривать в замочную скважину? – зло огрызалась Крупская.
– Подсматривай на здоровье, только успей отойти, иначе получишь дверной ручкой по лбу.
Легкая склока двух пожилых некрасивых женщин всегда заканчивалась примирением. И обе они всегда очень тепло прощались с товарищем Инессой. После ее ухода в квартире витал едва уловимый аромат дорогих духов, но это только казалось, это было еще одной иллюзией. Духами товарищ Инесса давно уж не пользовалась.
* * *
Северное море, 2007
«Мне вовсе не холодно и не мокро. Я лежу в теплой постели в своей маленькой парижской квартирке. Горит огонь в камине. Только что я принял горячую ванну, выпил молока с медом, надел пижаму и шерстяные носки. Пожалуй, стоит обмотать шею шарфом. Тогда мне точно не угрожает никакая простуда. Я засну и проснусь совершенно здоровым.
Я живу высоко, в мансарде старого доходного дома, в Латинском квартале, неподалеку от Сорбонны. Надо мной косой потолок, окно смотрит в небо.
Квартирка у меня удивительно уютная. Целых две комнаты. В ванной газовая колонка. Кухни нет, но в гостиной стоит электрическая плитка, на ней я варю себе кофе, кипячу молоко, иногда жарю яичницу.
Сплю я в кабинете, на диване. Каждый раз, когда я укладываюсь на него, он ворчит, скрипит, норовит ткнуть меня в бок пружиной. Ему не нравится, что я стелю свои плебейские простыни на изысканный темно-вишневый бархат его обивки. Пухлые валики возмущенно трясутся, когда на один я кладу подушку и голову, а на другой ноги. Подозреваю, что дивану не так неприятен я, как постоянное близкое соседство дубового чудовища, письменного стола.
Стол конторский. Его списали по старости из какого-то казенного учреждения. Столешница заляпана чернилами, отшлифована сатиновыми нарукавниками мелких чиновников, из ящиков до сих пор пахнет клопами, казеиновым клеем, штемпельной краской. Я сам терпеть не могу этого унылого бюрократа. Только присутствие мадемуазель Ундервуд мирит меня с ним.
Мадемуазель – ангел. Должен признаться, это пока единственное существо женского пола, у которого хватает терпения жить со мной под одной крышей так долго. Она немолода, ее не назовешь красавицей, однако у нее легкий характер. Она всегда улыбается. Ей ничего не нужно, кроме войлочной подстилки, новой ленты раз в три месяца и нескольких капель машинного масла раз в полгода. Ее трескотня звучит для меня как музыка.
Мадемуазель свободно владеет всеми европейскими языками. У нее универсальный латинский шрифт. На ней я печатаю по-французски статьи, репортажи, гороскопы и юморески для последних страниц дамских журналов, прочую ерунду, которая приносит мне неплохой доход.
По-русски я пишу то, что никакого дохода не приносит и никому, кроме меня, не нужно. По-русски я пишу от руки, вечным пером, в толстых тетрадях. Мадемуазель Ундервуд в этом не участвует, отдыхает на полу, возле книжного шкафа, в элегантном дерматиновом футляре.
Свой странный монолог я произносил вслух. По выражению лица бобренка было видно, что он внимательно меня слушает. Чтобы не замерзнуть, мне надо было как-то двигаться, шевелиться, но шевелить я мог только языком, а потому болтал без умолку.
Я так увлекся, что не сразу услышал шаги. Некто приближался к моему убежищу, и вряд ли этот некто был бобром. Я замолчал и уставился на бобренка. Но он вдруг потерял ко мне всякий интерес, резво завертелся, шлепнул меня хвостом по носу и покинул хатку.
Шаги затихли. Мгновение тишины показалось мне вечностью. Наконец женский голос отчетливо произнес:
– Привет, малыш. Извини, я взяла для тебя яблоко, но нечаянно съела его по дороге. Если хочешь, могу дать немного орешков. Ну, что ты так смотришь? Я знаю, что ты не белка. Попробуй, это вкусно.
Я решил, что сошел с ума. Здесь никто не мог говорить по-русски. Население острова пользуется только английским. Среди имхотепов в ходу латынь. Прочие языки здесь попросту запрещены. Тем не менее я слышал чистейшую русскую речь, без всякого акцента. И голос показался мне смутно знакомым.
«Стой! Это ловушка! – сказал я себе. – Ты ждал, что тебя будут искать свирепые солдаты охраны, с автоматами, дубинками и кинжалами. Ты недооцениваешь имхотепов. Разве не знаешь, что главное их оружие – обман, подмена, глумление над живыми чувствами, которые им самим недоступны?»
Я попытался приподняться, хотя бы краем глаза сквозь просветы между ветками взглянуть на существо женского пола, которое говорило по-русски. Мне удалось увидеть пару ног, обутых в высокие кожаные ботинки, ноги были маленькие, ботинки явно промокли. Больше я не разглядел ничего. Я настолько ослаб, что не сумел удержаться в приподнятом состоянии и свалился, задев несколько веток и больно подвернув руку, на которую опирался.
Треск и собственный сдавленный стон показались мне оглушительными.
– Там кто-то есть? – тревожно спросил женский голос.
Я не ответил, я стиснул зубы и старался не дышать. Но это не помогло. Крыша бобровой хатки громко зашуршала, я увидел руку, которая отодвигала ветки. Я зажмурился и стал про себя молиться.
– Эй, как вы сюда попали? Что с вами случилось? Вы живы?
Вопросы были заданы по-английски. Я открыл глаза, но ничего не мог разглядеть из-за слез. Я поверил, что никакая это не ловушка. Имхотепка непременно продолжила бы игру, обратилась ко мне по-русски. Им известно, что русский для меня родной, и я могу пойти на его звук бездумно, как крыса на мелодию флейты крысолова.
Теплая ладонь дотронулась до моей щеки.
– Это вас ищут? Тут такой переполох.
Я смутно разглядел милое женское лицо. Большие голубые глаза смотрели на меня из-под низко надвинутой черной шляпы. Они показались мне еще более знакомыми, чем голос. Но это, конечно, была иллюзия, галлюцинация. Мне часто снятся люди, которых очень хотелось бы увидеть. В нынешнем моем состоянии кто-то из них мог померещиться мне наяву.
– Если найдут, я погиб, – прошептал я.
– О, Боже, вы говорите по-русски! Кто вы? Впрочем, это потом. Послушайте, сейчас вам вылезать не стоит. Надо дождаться темноты. Но вы промокли вдрызг, что же мне с вами делать? Погодите, одну минуту.
Ее не было довольно долго, я слышал рядом треск и шорох. У меня появилась слабая надежда когда-нибудь вернуться в Латинский квартал, в мою мансарду, принять горячую ванну, вскипятить молоко на плитке.
– Повернитесь. Осторожно, тут ужасно неудобно. Я подстелю вам сухих веток и накрою вас своим плащом, так будет хоть немного теплей. Все, лежите тихо. Они почти уверены, что вы утонули в озере, и скоро искать перестанут.
Она исчезла так же внезапно, как появилась. Я опять услышал шорох над головой. Она поправляла крышу бобровой хатки. На сухом ельнике, под ее плащом, я быстро согрелся и стал засыпать. Вернулся бобренок, обнюхал плащ, бесцеремонно полез носом в карман. Там остались еще орешки. Он съел их, повозился и улегся ко мне под мышку.
Я бы заснул так же спокойно и крепко, как сплю только у себя в мансарде на диване. Я уже стал видеть какой-то интересный сон, но тут издали донеслись голоса.
– Добрый день, мисс Денни, как поживаете?
– А, офицер Освальд. Хорошо, что я вас встретила. Идемте, кое-что покажу.
«Вот и все», – подумал я со странным спокойствием.
Кровь заледенела в моих жилах. Ничего я больше не чувствовал. Если бы меня схватили, сковали руки, бросили в темницу, били, мучили голодом и бессонницей, я бы держался до последнего вздоха и не считал себя побежденным. Даже фокусы с гипнозом были мне нипочем. Но когда я услышал русскую речь, когда меня укрыли плащом и дали надежду, я сломался. Я им поверил, стало быть, проиграл, и нет мне спасения».
Соня решительно захлопнула тетрадь и спрятала под подушку. Она приучила себя останавливаться на самом интересном месте. Рукопись незаконченного романа спасала ее от одиночества и стала чем-то вроде последнего запаса чистой воды в пустыне. Она экономила, пила маленькими глотками. Ей хотелось как можно дальше оттянуть момент, когда перевернется последняя исписанная страница.
Каюту больше не запирали. Соне разрешено было гулять по яхте сколько душе угодно. Правда, гулять оказалось негде. Коридор, палуба, капитанский мостик, крошечная библиотека, вот и все. Она могла также заходить в кают-компанию, на кухню, которую называли камбуз, и в лазарет, то есть в кабинет доктора Макса. Но там делать было совершенно нечего.
Почти целый день Соня провела в библиотеке, с любопытством пролистывала толстые немецкие и английские издания. Их было немного, в основном современные, дешевые. Труды по семиотике, по истории алхимии и тайных обществ. Сборники трактатов Фомы Аквинского и Парацельса в современной обработке. Маленькие изящные томики Платона и Сенеки. Полные собрания сочинений Сен-Симона, Вольтера, Дидро. Отдельную полку занимали тома Маркса, Ленина, Муссолини. Там же стояло шикарное, в черной с золотом обложке, издание «Майн кампф» Гитлера. Имелись «Книги мертвых», древнеегипетская и тибетская, с комментариями Юнга. «Святейшая тринософия» Сен-Жермена, «Теософия» Елены Блавацкой, «Антропософия» Рудольфа Штейнера. Именно в этом ряду Соня обнаружила произведение, автором которого значился сам Эммануил Хот, на внутренней стороне обложки красовалась его фотография, довольно сильно отретушированная.
Книга называлась «Звезда и свастика». Издана была в Берлине пятнадцать лет назад. Пролистав ее, Соня поняла, что это довольно нудное наукообразное исследование о влиянии древних символов на психологию современного человека.
Именно в тот момент, когда, стоя возле полок, она разглядывала цветные иллюстрации, раздался голос Хота:
– Не самый лучший мой труд. На яхте я не держу по-настоящему ценных книг.
Он подошел, как всегда, бесшумно и встал у нее за спиной.
– Почему же? Очень любопытно, – ответила Соня с вежливой улыбкой.
– Идею этой работы подсказал мне ваш дед, вернее, несколько его статей. Жаль, здесь нет трудов Михаила Данилова. Он написал мало, однако каждая его статья и книга – событие. Есть великолепный учебник истории военной авиации, трехтомник по истории русской эмиграции и Белого движения. Самый знаменитый его труд посвящен разведкам сталинской России и Третьего рейха. Называется он, если мне память не изменяет, «Магия шпионажа».
– Скажите, а зачем вам тут Маркс и Ленин? – спросила Соня, чтобы сменить тему.
Ей неприятно было говорить с Хотом о дедушке.
– Как зачем? Иногда я читаю их. Это весьма полезно и поучительно. Мне интересны люди, которые влияли на ход истории. Кстати, Михаил Данилов давно замыслил книгу о Ленине. Историко-психологическое исследование. Не знаю, удастся ли ему осуществить свой замысел. Будет обидно, если он не успеет. Впрочем, все зависит от вас, Софи.
Он уставился на нее своими тусклыми гляделками. Он ждал от нее вопросов или хотя бы эмоций. Она молча, сосредоточенно разглядывала книжные корешки.
– Ну, не стану вам мешать, – сказал он, ничего не дождавшись. – Ужин через полтора часа.
Он удалился так же бесшумно, как вошел. Соня вздохнула с облегчением. Ей захотелось вернуться в каюту. Каждый раз после разговора с Хотом, даже такого, короткого и невинного, ее как будто окатывало ледяной волной. Она потом долго не могла согреться. Как и Фриц Радел, он казался ей не совсем живым. Не гомо сапиенс, а мортинс сапиенс. Мертвец разумный.
Мертвец, утверждающий, что живет много тысяч лет. Сколько именно, неизвестно. В общем, всегда. То он был ребенком в 1835 году и переболел черной оспой. То лично присутствовал при сожжении великого магистра ордена тамплиеров Жака де Моле в 1314 году. Бросал вскользь, между прочим: «Великий магистр никого не проклинал, он только призвал папу Климента Пятого и короля Филиппа Красивого явиться на суд Божий до окончания этого года. Они последовали призыву. Папа умер в апреле, ровно через месяц. Филипп в ноябре».
Затем Хот скромно добавлял, что предсмертную речь магистра слышал собственными ушами.
Соня попыталась выяснить подробности, ей хотелось узнать, например, в каком качестве господин Хот присутствовал при казни, кем вообще он был во Франции 1314 года.
– Самим собой, – отвечал Хот с невозмутимой улыбкой, – я всегда остаюсь только самим собой.
– А черной оспой к этому времени вы уже переболели? – спросила Соня.
– Конечно. Ведь это несчастье случилась со мной в детстве.
– В Марбурге, в 1835 году?
– Да. Именно.
– Но четырнадцатый век был раньше девятнадцатого.
– Откуда вам это известно?
– Это известно всем и вам тоже. Это истина, которая не нуждается в доказательствах.
За столом переглядывались и хихикали, словно Соня ляпнула несусветную глупость. Доктор всякий раз утешительно гладил ее по руке и шептал:
– Ничего, не огорчайтесь, привыкнете.
Ей хотелось поговорить с доктором Максом, из всех обитателей яхты он казался единственным нормальным человеком. Во всяком случае, тухлой рыбой от него не воняло и о своей жизни в разных веках до и после нашей эры он не рассказывал. Правда, у него был другой недостаток. Он постоянно трогал Соню, считал пульс, заглядывал в глаза, бесцеремонно приподнимал пальцем то одно, то другое веко. Наблюдение за состоянием ее здоровья было его обязанностью. Он объяснил ей, что она получила большую дозу наркотиков и транквилизаторов и реакция ее организма оказалась неадекватной, чрезмерной.
– Вы проспали на десять часов больше, чем предполагалось. Что-то вроде легкой летаргии. Мне пришлось ввести вам несколько доз биостимулятора.
– Что именно вы мне вводили? – спросила Соня.
– К сожалению, пока я не могу вам сказать. Поверьте, это отличные препараты, вы сами видите, они принесли вам только пользу. Вы благополучно проснулись, отлично выглядите и чувствуете себя вполне здоровой.
Больше она не сумела ничего добиться. Доктор Макс молчал и улыбался. Дважды приводил ее в лазарет, измерял давление, светил фонариком в глаза, стучал молоточком по коленям.
Перед тем как вернуться в каюту, Соня решила постоять на палубе, выкурить сигарету. Ветер утих, небо расчистилось, солнце коснулась кромки воды.
– Я тоже люблю смотреть, как заходит солнце, – произнес приятный низкий голос доктора Макса.
Соня вздрогнула. Только что на палубе не было ни души. Он возник неизвестно откуда, словно специально следил за ней.
– Вижу, вы почти освоились у нас, Софи. Ничего не приглянулось вам в библиотеке?
– Нет. Макс, скажите, какой сегодня день?
– Пятница.
– А вчера?
– Четверг.
– Почему не вторник?
Он широко улыбнулся, положил ей руку на плечо и сказал очень тихо, по-русски:
– Хотите поговорить? Я давно жду этого.
* * *
Москва, 1918
Невозможно было избежать прямого разговора. Бокий, Петерс и сам вождь требовали ответа от Михаила Владимировича. Федору ясно дали понять, что несогласие служить новой власти будет значить неминуемую гибель всех, включая маленького Мишу.
– Конечно, младенцев мы не расстреливаем, – мягко объяснил Бокий, – но без матери, в приюте, у ребенка мало шансов выжить.
Федор отправился в госпиталь, зашел в приемное отделение и сразу столкнулся с Таней. Она выглядела ужасно. Бледная, худющая, почти прозрачная, с ввалившимися щеками. Под глазами глубокие темные тени.
– Вы пришли за папой? Он в операционной. Освободится через час.
– Танечка, у вас дистрофия. – Он прижал к губам ее руку, почувствовал, что кожа стала совсем сухой, шершавой. – На вас смотреть больно.
– Так и не смотрите, – она отдернула руку, – вы свой выбор сделали.
– У меня не было выбора. Осуждаете меня, что я повез Михаила Владимировича в Кремль?
– Никого я не осуждаю. Каждый выживает, как умеет.
– Я не хочу оправдываться, просто вы должны знать. Если бы я не сделал этого, вас бы арестовали.
– За что?
Федор хотел спросить ее о есауле, но не решился.
– Не за что, а почему. Потому, Танечка, что время такое. Нет выбора, у меня, у вас, у Михаила Владимировича. Нет, и все. Они пришли надолго. Одолеть их некому.
– Как же некому, когда идет война?
– Она скоро закончится, они победят.
– Конечно, победят, если все перейдут на их сторону. Вы уже перешли, теперь очередь за папой, да? Зачем вы его втягиваете? Неужели нельзя пощадить?
Голос ее звучал глухо, безнадежно. Федору не удавалось поймать ее взгляд, она смотрела в пол. Казалось, еще немного, и она потеряет сознание. Он понимал, что дело не в голоде. Семья питалась скудно, но все-таки благодаря его стараниям не голодала. Таню сжигала изнутри тоска. Все в этой новой жизни было ей противно, и в свои двадцать лет она не видела для себя никакого приемлемого будущего. Он обнял ее и зашептал на ухо:
– Танечка, потерпите, ради Миши, ради папы, Андрюши.
Она не пыталась вырваться из его рук, наоборот, уткнулась лицом ему в плечо и забормотала сквозь слезы:
– Федя, я не могу больше, мне страшно, тошно, противно жить. Я понимаю, вы делаете для нас все, что можете, простите меня.
– Вы ни в чем не виноваты, Танечка, держитесь, прошу вас, я придумаю что-нибудь, только дайте мне время. И папу не осуждайте, ему и так тяжело.
Скрипнула дверь, послышались вкрадчивые шаги. Таня вздрогнула, отстранилась. Федор оглянулся. За спиной у него стоял Смирнов.
– Товарищ Агапкин, мое почтение. – Круглая физиономия расплылась в лакейской улыбке. – Еле нашел вас. Мне доложили о вашем приходе. Милости прошу ко мне в кабинет. Как Владимир Ильич себя чувствует?
– Лучше. Значительно лучше. Разве вы газет не читаете?
– Разумеется, читаю, однако хотелось бы знать, так сказать, из первых рук. Чайку не желаете ли? Товарищ Данилова, вас тоже, милости прошу.
Именно от Смирнова исходили так называемые сигналы, доносы на Таню, о которых говорил Бокий. Но не только от Смирнова. Доносов было много, кольцо сжималось.
Разумеется, перед товарищем Агапкиным главный врач юлил, вилял хвостом. От Федора пахло властью. Смирнов заметил, как они с Таней стояли обнявшись, теперь он и на Таню смотрел особенным взглядом, снизу вверх, хотя был выше ее на голову.
Федор однажды уже пытался говорить с Семашко об этом Смирнове. Известно было, что он вовсю спекулирует госпитальным имуществом, медикаментами, бельем, дровами. Семашко небрежно бросил: разберемся. Но ничего не изменилось. Смирнов все так же руководил лазаретом, занимал кабинет Михаила Владимировича и отлично себя чувствовал.
– Ну, так как же насчет чайку? И сахарок есть настоящий, и сальце украинское, – Смирнов подмигнул, оскалил в улыбке золотые клыки.
– Спасибо. У меня мало времени. – Федор взял Таню за руку и вывел из приемного отделения.
– Так все равно товарищ Свешников оперирует, вам ждать придется. Или, может, вызвать его, если времени нет? – прозвучал позади голос Смирнова.
Федор ничего не ответил. Вместе с Таней они вышли в госпитальный двор.
– Конечно, еще бы не тошно под началом такой скотины, – сказал Федор и закурил. – Не надо вам больше здесь работать.
– А что же делать?
– Жить, Танечка. Учиться в университете, растить Мишу. Я уже сказал вам, выбора нет. Пока, во всяком случае.
– Федя, я боюсь задавать вам вопросы, но хотя бы можете сказать – им папа нужен как врач или они знают о препарате?
– Врачи им позарез нужны. Для себя они хотят настоящих врачей, профессионалов. О препарате они знают и весьма им интересуются. Честно говоря, если бы не препарат, вряд ли мы все были бы живы сейчас.
– Ого! Даже так?
– Именно так. Но только вы сразу, сию минуту, забудьте то, что я сказал, хорошо?
– Конечно. Я понимаю. Тем более что препарата все равно уж нет больше. Комиссар Шевцов всех крыс перестрелял, склянки побил.
– Да, я знаю. Препарата нет, однако миф остался, и вряд ли стоит разрушать его.
– Вы думаете? – Таня быстро, странно взглянула на него и отвернулась – Стало быть, эти товарищи убивают всех вокруг, а сами желают жить вечно? А, вот и папа.
Михаил Владимирович шел по аллее, подволакивая ноги, низко опустив голову. Федор знал эту его особенную походку. Когда профессор терял больного, он как будто старел сразу лет на десять. Не сказав ни слова, он взял у Федора папиросу, глубоко затянулся.








