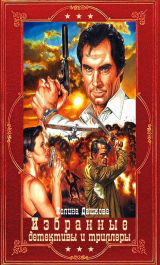
Текст книги "Избранные детективы и триллеры. Компиляция. Книги 1-22 (СИ)"
Автор книги: Полина Дашкова
Жанры:
Крутой детектив
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 280 (всего у книги 329 страниц)
– Ну, и сколько ты хочешь за свои жалкие цацки? – презрительно спросил бородатый мужик, взвесив на ладони горстку ювелирных украшений.
– Ни хрена себе, жалкие! – обиделся Вова Мухин. – Давай все назад, я на Арбате за один только перстень возьму полтора куска зеленью.
– Да, конечно! Размечтался! Лопух ты, парень, тебе за все вместе нигде больше пятисот не дадут.
На самом деле Вова уже побывал на Арбате, обошел нескольких уличных скупщиков, и действительно, нигде больше пятисот не давали. Вова был искренне возмущен. В ювелирном магазине точно такие сережки с изумрудами стоили семьсот пятьдесят баксов.
Конечно, магазин – это другое дело, однако обидно ведь. Тем более обидно за перстень. Он старинный, камень в нем здоровый, настоящий изумруд, к тому же вокруг мелкие алмазы, и золото семьсот пятидесятой пробы, он специально дома в лупу разглядел. А если еще учесть браслет золотой с эмалью, цепочку золотую, то пятьсот за все это жутко мало.
Однако крутиться с этой ювелиркой тоже нельзя. Надо сбыть поскорей, и все дела.
– Ладно, давай назад мою ювелирку, и я пошел, – буркнул Вова, надеясь, что мужик накинет хотя бы полсотни.
– Твою? – хитро прищурился бородатый.
– А чью же, блин? – возмутился Мухин.
– Ладно, пятьсот, без базара.
– Шестьсот. – Вова чувствовал, хватит уже торговаться. Этот мужик в заледенелом «жигуленке» на площади у Белорусского вокзала может сейчас запросто сдать его в ментовку, и тогда полный финиш. Однако жалко было самого себя до слез.
– Вон, видишь, под навесом у метро два лейтенанта чебуреки едят? – Бородатый, зажав украшения в кулаке, высунулся из окошка машины. – Давай их позовем и спросим, на сколько твои цапки потянут, не в смысле баксов, в смысле срока.
«Ну, влип по-черному…» – Вова тоскливо взглянул мужику в глаза и произнес с болью в голосе:
– Пятьсот двадцать пять.
Бородатый молча показал ему пять стодолларовых купюр. Вова, повинуясь инстинкту, протянул руку и взял у мужика деньги. Перед деньгами, даже небольшими, даже до слез маленькими, он никогда не мог устоять.
* * *
Когда у Вовы Мухина было мало денег, он становился вялым и раздражительным, у него болела голова, ныли сразу все зубы и печально урчало в животе. Он не мог смотреть на себя в зеркало, казался себе жирным уродом, впрочем, все другие люди, мужчины, женщины, и даже очень Красивые женщины, тоже казались ему уродами. Когда было мало денег, у – Вовы начиналась депрессия. Ему все время хотелось есть. Вова варил себе макароны, ел т в немыслимом количестве, по две пачки в день, толстел, страдал изжогой, несварением желудка, ненавистью к самому себе и ко всему окружающему миру, однако все равно продолжал есть макароны с кетчупом, кислым майонезом или с дешевым маргарином.
Прогулки на свежем воздухе, солнышко, птичье пенье, кино, музыка, веселые компании с девочками, а также витамины и физкультура – ничего не помогало Вове. От депрессии было только одно лекарство, проверенное, надежное, эффективное на сто процентов. Деньги. Как только у Вовы появлялась в кармане хотя бы тысяча долларов (но не меньше), он становился здоровым, бодрым, забывал о макаронах, ел фрукты и овощи, улыбался до ушей, утром делал зарядку, принимал холодный душ, растирался жестким полотенцем, легко сбрасывал лишние килограммы, распрямлял спину, гулял на свежем воздухе, слушал диски модных групп, смотрел боевики и триллеры, плавал в бассейне, ходил на дискотеки и знакомился там с красивыми девушками.
Продолжалась эта счастливая полоса ровно столько, на сколько хватало наличной суммы. Деньги кончались, Вова наливался тоскливой ненавистью к себе и к миру, толстел, забывал о гимнастике, веселой музыке и красивых девушках, варил себе макароны и в мрачном молчании поедал их, иногда прямо из дуршлага, один на грязной кухне.
Деньги были для Вовы явлением мистическим. Он знал совершенно точно, что появление их в его кармане, как и во всех прочих, чужих карманах, никоим образом не связано с такими скучными и бессмысленными понятиями, как образование, профессионализм, работа. Деньги нельзя заработать. Их можно «сделать».
Человечество, при всем его бесконечном разнообразии, делилось для Вовы на две простые категории, на тех, кто умеет делать деньги, и на всех остальных. Себя самого Вова искренне относил к первой группе, потому что остальным просто не имело смысла жить на свете.
После «черного августа» Вова не вылезал из депрессии. Работа массажиста в оздоровительном комплексе была всего лишь работой, а следовательно, денег не приносила. Зарплаты хватало на макароны и кислый майонез. Вова толстел и совсем не улыбался.
Оздоровительный комплекс оставался престижным заведением, имел постоянных клиентов, среди них попадались и крупные чиновники, и бизнесмены, и просто денежные люди. Но клиенты, которые раньше, не глядя, красивым жестом выкидывали крупные купюры в качестве чаевых, теперь начали аккуратно считать свои деньги. Да и клиентов стало меньше. Цены на услуги оздоровительного комплекса резко подскочили, а количество платежеспособных людей сократилось. Осталась одна надежда: Клим. Таинственный, великодушный и всемогущий Клим.
Всего лишь восемь месяцев назад он возник ниоткуда, как будто по мановению волшебной палочки. Пришел в оздоровительный центр, качался на тренажерах, попарился в сауне, потом лег на массаж. Оказался разговорчивым клиентом, рассказал, что в Москве проездом, живет в Германии, занимается бизнесом. Вова считал, что достаточно хорошо разбирается в людях. Одним из решающих признаков для него было количество чаевых и манера их давать. Бизнесмен из Германии с красивым именем Эрнест Климов дал много, и так небрежно, словно сотня долларов для него вообще не деньги. Из этого Вова сделал вывод, что бизнес его процветает, и постарался продолжить знакомство, дал понять, что у него много разных приятелей, есть и знаменитые, например, журналист Артем Бутейко, так что в принципе если нужна реклама, то можно организовать недорого в разных там газетках-журналах.
На самом деле Вова понятия не имел о том, как делается реклама в газетах и какие имеются возможности у Артема Бутейко, но разве это важно? Главное, заинтересовать хорошего человека своей скромной персоной.
И хороший человек, немецкий бизнесмен Эрнест Климов заинтересовался, зауважал Вову, захотел с ним дружить. Как только он приезжал в Москву из Германии, сразу навещал Вову в оздоровительном центре, делал у него массаж, давал щедрые чаевые, приглашал в дорогие кабаки, посидеть, оттянуться. Платил, разумеется, сам, и не скупился на рассказы о своем успешном бизнесе, о том, как начал с нуля, с нескольких блоков сигарет, а закончил миллионным состоянием. Вове тоже хотелось рассказать в ответ что-нибудь интересное, но про самого себя нечего было, и он развлекал Клима историями про своих приятелей, про Саню Анисимова, про Артема Бутейко. Клим внимательно слушал и никогда не перебивал.
Когда случился августовский кризис, Клима в Москве не было, и Вова ужасно боялся, что больше он не появится. Многие зарубежные фирмы сворачивали свои дела в России. Вова не знал, какие именно у Клима здесь дела, но догадывался, что весьма серьезные. Клим ездил не на джипе, не на «мерсе», а на обыкновенном «жигуле-шестерке», причем с московским номером. Он намекнул Вове, что это такая конспирация. А что касается татуировок, двух перстней на среднем и безымянном пальцах правой руки, так это детская дурь. Хотелось быть крутым в тринадцать лет. Надо бы вывести, да все некогда.
Вова сильно нервничал после – августа, растолстел до невозможности, помрачнел так, что лицо стало свинцовым, как грозовая туча. Связь с Климом была односторонней, оставалось только ждать и надеяться.
И надежды оправдались. Клим появился в конце октября. Вова обрадовался ему, как родному, стал рассказывать, какие новости у его приятелей, у Анисимова и Бутейко. Клим в свою очередь поделился с Вовой планами на ближайшее будущее.
Заварились такие крутые дела, что у Мухина дух захватывало, как на вершине «чертова колеса» в парке Горького. Однако Вова головы не потерял, свет грядущих больших денег не ослепил его. В шкатулке, где лежали патроны, он нашел целую кучу ценной ювелирки и прихватить ее не забыл. Не дурак. Обидно, что деньги получились маленькие, но и они не помешают.
* * *
– Гоэто при собаке, попытаться обмануть?
– Человека вы можете обмануть. Собаку никогда.
– Сколько ей осталось?
– Если не пойдут метастазы, она сможет прожить еще год, при хорошем уходе и два года. Но это будет больная собака, вам придется тратить на нее значительно больше времени и сил, чем раньше, – он закурил, помолчал, глядя в окно, и произнес тусклым, равнодушным голосом:
– Станет тяжело, позвоните, я приеду и сделаю укол.
– Но вы же сказали, я сама смогу ее колоть.
– Нет, этот укол вы сами сделать не сумеете.
В лечебнице, кроме них и Лоты, не было никого, стояла гулкая тишина, и вдруг послышался странный щелкающий звук. Юрий Иванович вскочил, бросился в коридор. По коридору на расползающихся лапах очень медленно шла Лота. Она шаталась и волочила за собой разбитую банку капельницы.
Когда собаку уложили на место, поставили новую капельницу, Лиза заплакала. Впервые в жизни она не сумела сдержаться при постороннем человеке, но никакой неловкости не почувствовала, даже потом, когда совсем успокоилась.
Юрий Иванович приезжал к ней каждый вечер. Она не просила, он сам звонил и приезжал, обрабатывал швы, ставил капельницу. Казалось, при нем Лота чувствовала себя лучше. Услышав звонок в дверь, она ковыляла в прихожую и даже слабо крутила своим хвостом-обрубком. Лиза пыталась дать ему денег, он отказался. Она купила для него бутылку французского коньяка, он заявил, что совсем не пьет.
– Юрий Иванович, вы ставите меня в неловкое положение, – сказала Лиза.
– Чем же? Операцию и медикаменты вы оплатили в кассе лечебницы.
– Но вы тратите столько времени и сил, приезжаете сюда каждый вечер. И потом, я знаю, такая операция стоит значительно дороже.
– Елизавета Павловна, я сейчас сделаю Лоте инъекцию, а вы сварите, пожалуйста, кофе.
На следующий день Лиза позвонила знакомому кинологу, спросила, как ей отблагодарить ветеринара.
– Не берет денег? Странно. Это очень дорогой врач. Да, спиртное он не употребляет совсем. Ну, я не знаю, если вас это так беспокоит, подарите ему хороший одеколон.
Лиза купила дорогую мужскую туалетную воду. Юрий Иванович принял подарок, но на следующий вечер вытащил из сумки и поставил на ее туалетный столик коробочку «Шанель № 19».
– Да вы что, Юрий Иванович… – опешила Лиза.
– Кажется, это ваш запах. И давайте на этом успокоимся.
Лота чувствовала себя все лучше, нос у нее сделался влажным, холодным, она начала понемногу есть, попросилась на улицу, и Лиза стала выходить с ней во двор два раза в день. Помощь ветеринара уже не требовалась, но когда он позвонил и спросил, надо ли приехать, она неожиданно для себя ответила:
– Да, пожалуйста, если вы можете… Они просидели на кухне до рассвета, и разговор у них получался странный. Слова почти ничего не значили. Уютная болтовня двух усталых немолодых людей, которые отлично понимают друг друга. Но в паузах повисала тяжелая жаркая тишина от которой у обоих покалывало кончики пальцев.
– Простите, Юрий Иванович, я вас совсем заболтала, – спохватилась она, когда за окном стало светать.
Они не могли назвать друг друга на «ты» и по имени. Воздух вокруг них так сгустился, что казалось, от простого «ты» все взорвется к чертовой матери.
– Меня никто не ждет, – произнес он низким тяжелым голосом.
– Ну все равно. Простите меня. Поздно уже, вернее, рано. Рассвет. Пора спать.
– Да, конечно, – он поднялся, – я доеду. Всего доброго.
Они неловко столкнулись в узком дверном проеме и застыли, глядя друг другу в глаза. Какое-то угрюмое, дикое, совершенно незнакомое чувство медленно закипало у нее внутри, заполняло все пространство ее души, не оставляя ни капли света.
«Совсем сбрендила, старая дура?» – грубо рявкнул разумный внутренний голос.
У нее кружилась голова, ноги стали ватными, но все-таки хватило сил отступить в сторону, ускользнуть от его настойчивых губ, стряхнуть его твердые теплые ладони.
– Лиза, я не могу больше. Я не железный. Я понимаю, ты замужем, но я один, ты знаешь, я не женат, поехали ко мне, – он продолжал смотреть на нее в упор, и только сейчас она заметила, что глаза у него темно-серые, а не черные, как казалось раньше.
– Спокойной ночи, Юрий Иванович. Простите, что заболтала вас. Всего доброго, – хрипло произнесла она, глядя в пол.
Когда за ним закрылась, дверь, Лиза упала на кровать и заплакала, горестно, безутешно, как в детстве из-за плохой оценки. «О, Господи, ну почему? Что в нем такого? Практически, первый встречный, случайный, ничем не примечательный человек. Зачем мне это?» – думала она под собственные судорожные детские всхлипы.
Приковыляла Лота, стала слизывать слезы с ее лица, пытливо, внимательно глядела в глаза, словно спрашивала: «Что с тобой?»
– Мне плохо, Лота. Мне просто отвратительно. Я не знаю, что теперь делать, – бормотала она, гладя собаку, – со мной никогда ничего подобного не было и быть не могло.
Политический обозреватель, кандидат исторических наук, мать двоих детей, верная жена, образец строгости и добропорядочности, Елизавета Павловна сошла с ума, влюбилась, как шестнадцатилетняя девчонка. Впервые в жизни.
На следующий день Лиза отправилась в аэропорт, встречать мужа с детьми. Кончился отпуск, хлопоты с Лотой взяла на себя домработница. Собака после пережитых страданий стала трогательно-тихой и ласковой.
Юрий Иванович звонил каждый вечер, но уже не домой, а на ее сотовый, аккуратно интересовался здоровьем собаки. Она вежливо благодарила, подробно докладывала, как Лота себя ведет, что ест, как спит. Собака чувствовала себя хорошо, и казалось, невозможно было придумать повода для встречи.
– Я должен осмотреть Лоту, – решительно заявил он через неделю по телефону, – когда вам удобно, чтобы я приехал? Лиза, я не могу без тебя, – добавил он быстро, на одном дыхании, совсем другим голосом.
«Никогда! – испуганно выкрикнула про себя Лиза. – Никогда и ни за что!»
Но это было совсем уж глупо. При чем здесь здоровье собаки? Лоту действительно пора было показать врачу.
– Мне бы не хотелось вас затруднять. В общем, все в порядке… Хотя, если не возражаете, я после эфира заеду домой, возьму Лоту и привезу ее к вам в лечебницу.
«Что за чуть ты несешь? Эфир у тебя заканчивается в час ночи…»
– У вас сегодня, кажется, ночной эфир.
– Да, конечно, давайте завтра утром. Хотя… утром у меня запись… Простите, что же я вам голову морочу?
– Правда, Елизавета Павловна, сколько можно морочить голову мне и себе? Записывайте адрес и приезжайте сегодня после эфира ко мне домой. Вместе с Лотой.
Она записала адрес в своем ежедневнике, опять на нее накатило странное головокружение, слабость, почти дурнота. Ей стало страшно выходить в эфир в таком состоянии. Из зеркала в гримерной глядела на нее помолодевшая, восторженно – томная идиотка. Глаза сверкали, брови выгнулись удивленными дугами, линия рта смягчилась, ресницы трепетали, как крылья бабочек. Что-то появилось в ней беспомощное. У нее началось раздвоение личности. Влюбленная романтическая дурочка с фиалковым огнем в глазах и розовым дымом в голове мешала разумной сорокалетней ответственной даме жить и работать. Сыпалось все: карьера, семейное благополучие, она самой себе не нравилась, она себе не доверяла.
Хорошо, что в ночном эфире она беседовала не с какой-нибудь напористой скандальной личностью, а с пожилым интеллигентным финансистом. Двадцать минут разговора тянулись бесконечно, Лиза чувствовала, как светятся у нее глаза, как губы сами собой растягиваются в дурацкой загадочно-счастливой улыбке, которая была совершенно неуместна, ибо речь шла о вещах серьезных и печальных, о нестабильности рубля и дефиците бюджета.
Вместо привычной телестудии, вместо объектива камеры и солидного собеседника за студийным столом она видела перед собой Юрия Ивановича, как он сидит у телевизора, и всей кожей чувствовала, как он на нее смотрит, как ждет, когда закончится эфир.
– Вы были очаровательны, Лиза, – заявил после эфира старый финансист и церемонно поцеловал ей руку, – знаете, в вас появилось что-то совсем новое. Глазки заблестели по-особенному.
Впервые за многие годы к ней обратился по имени совершенно чужой человек, впервые скользнула в интонации игривая снисходительность. Так принято общаться с хорошенькими молоденькими секретаршами. И еще ей показалось, что все, кто находился в павильоне – администратор, операторы, осветители, – уставились на нее с нехорошим любопытством.
Была бы она легкомысленней и хитрей, сумела бы прокрутить этот странный период своей жизни в убыстренном легком ритме тайного романа, как это делают тысячи женщин. При чем здесь муж, дети, работа? Ну да, любовь, страсть, с кем не бывает? Зачем же делать из этого трагедию? Живи и радуйся, только научись врать половчее – мужу, детям, любовнику, себе самой. Разве так уж сложно врать, честно глядя в глаза?
Переступив порог своей квартиры, не снимая плаща, она сказала мужу, что прямо сейчас едет с Лотой в лечебницу, чтобы показать собаку ветеринару. Он равнодушно удивился:
– Ночью?
– Днем там очередь, – ляпнула она в ответ и покраснела.
– Мне казалось, у тебя с этим доктором сложились такие теплые отношения, что он может принять Лоту и без очереди.
– Миша, какие отношения могут быть с ветеринаром? – Руки у нее дрожали, никак не удавалось пристегнуть карабин поводка к ошейнику Лоты. – С чего ты взял, что у меня с ветеринаром могут быть какие-то особенные отношения?
– Да ни с чего я не взял, мне дела нет до ваших отношений, просто я не понимаю, неужели нельзя отвезти собаку на осмотр днем?
– Завтра у меня запись.
– Завтра я могу съездить с Лотой к врачу. Я вижу, ты очень устала, ты даже похудела за это время. Тебе сейчас надо принять душ и лечь спать. Там есть телефон?
– Где?
– В лечебнице.
– Зачем тебе?
– Я позвоню ветеринару и скажу, что ты не приедешь. Договорюсь на завтра.
– Завтра у него нет приема.
– Ладно, Лиза, поступай, как знаешь, – он взял у нее из рук поводок и прицепил карабин к ошейнику, – если тебе приспичило после прямого эфира в третьем часу ночи мчаться в ветеринарную лечебницу, пожалуйста. Я не возражаю. Только не забудь взять ключ. Я буду спать, когда ты вернешься.
Она поцеловала его на прощанье, но лучше бы она не делала этого. От его лица, от гладко выбритой щеки, ощутимо повеяло холодом.
По пустым ночным улицам она доехала по записанному адресу за десять минут. Юрий Иванович ждал ее на улице, у въезда во двор. Она издалека заметила его невысокую коренастую фигуру и в последний раз подумала: «Господи, ну что же в нем такого? Почему именно он?»
Когда он обнял ее, прямо на улице, у машины, ни слова не говоря, стал торопливо, жадно, целовать ее лицо, ей вдруг почудилось, что в кустах за детской горкой вздрогнул белый огонь фотовспышки.
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯК старости графиня Ольга Карловна Порье научилась говорить по-русски. Язык, прежде казавшийся ей варварским, увлек ее богатством смысловых и чувственных оттенков. Русские слова переливались и играли радужными гранями, как драгоценные камни, которые она так любила.
– Старык. Старьичек. Старец. Стар-ри-кашика, – повторяла графиня, раскатисто грассируя, смеялась и хлопала в ладоши, как малое дитя.
В 1880 году графине стукнуло восемьдесят, она была ровесницей века. Память ее угасала, рассудок стал зыбким, как перистые облака перед закатом. Стариком она называла своего покойного супруга – графа Юрия Михайловича и часто, сидя в кресле перед камином, беседовала с ним по-русски. Монолог ее дробился на разные голоса. Тоненький, дрожащий принадлежал ей самой, а скрипучий, хриплый – графу, которого она ясно видела перед собой, в пустом вольтеровском кресле.
– Душа моя, ты помнишь деревенского мальчика, который нашел наш первый камень? – задумчиво спрашивал покойник. – Нехорошо, что мы не приняли участия в его судьбе.
– Я лечила его раны своими руками, я не позволила закопать его живьем в землю, – возражала графиня, – я в его честь назвала лучший алмаз в своей коллекции, и будет с него.
– Ты должна огранить алмаз «Павел», душенька. Я хочу, чтобы он сверкал на твоей груди. Закажи у Ле Вийона брошь в виде цветка орхидеи, пусть вокруг камня будут тонкие платиновые лепестки, на них бледно-голубые прозрачные топазы, как капельки утренней росы, а между ними овальные изумруды, как листья.
– Это манифик, мон амур, это изумительно! – Графиня кокетливо щурилась, обнажала в улыбке вставные зубы. – Но с каким же платьем я надену эту брошь?
– С голубым бархатным. Или вот, с белым, из китайского шелка с фламандскими кружевами. Оно тебе так к лицу, душенька.
– Полно, граф, – Ольга Карловна капризно надувала губы, – эти платья теперь не наденет даже горничная Луша. Рукава а ля жиго давно не носят.
– Неужели? Что же носят?
– О, мой свет, все необычайно изменилось. Победил турнюр, исчезли сборки, в моде костюм-коллан. Исчезло все, что торчит, даже верхняя юбка.
– Душенька, ты хочешь сказать, дамы теперь носят только нижние юбки? – смутился граф.
– Ты всегда понимаешь меня превратно, дорогой. Дамы отказались от кринолина, но победил турнюр.
– Кес ке се турнюр, мой ангел?
– О, это выпуклость сзади, ниже спины, ее поддерживает специальный каркас из китового уса.
– Ты шутишь, душечка?
– Ничуть. Сейчас все дамы носят турнюры. Но больше ничего пышного, напротив, все чрезвычайно узко, тесно. Лиф спустился глубоко на бока, позади длинный шлейф, перед приподнят так, что туфельки видны.
– Прелестно. А что, горничная Луша все так же расторопна?
– Полно, мой свет, она уже старуха. – Графиня снисходительно улыбалась и качала головой. Она не желала напоминать графу, как с этой горничной, румяной быстроглазой девушкой, она застала своего мужа в одной из отдаленных беседок поздним вечером. Но сам покойный граф, вероятно, помнил, как зудели злые уральские комары и как Луша звонко шлепала их своей тяжелой крестьянской ладонью на нежной графской спине.
– Ты, душенька, всегда была склонна к преувеличениям, – печально заметил граф, – ты ревновала меня даже к сиделке, когда я лежал в параличе.
– Ты ошибаешься, мой свет, – вздохнула графиня, – не было ревности в моем сердце. Ревность – мелкое чувство, а я великодушна.
Графиня правда была великодушна. Она все простила покойнику, и эту Лушу, и вереницу прочих, румяных, быстроглазых, среди которых были и гувернантки, и модистки, и актрисы, и даже грязная девка-птичница, которая приглянулась ему, когда он лично отправился на птичий двор узнать, пасутся ли на прииске графские куры.
– Так что ты решила с алмазом «Павел»? – кашлянув, спросил граф. – Он так и будет лежать в потаённой шкатулке?
– Скажи, а почему тебя это так беспокоит? Неужели там это важно?
– Не знаю, душенька, не знаю… Двери распахнулись, в комнату вкатился деревянный конь на колесиках, вслед за конем вбежал пятилетний темноволосый мальчик и, приложив палец к губам, спрятался за креслом графини. Графиня с улыбкой наблюдала, как тает в воздухе печальная тень ее покойного супруга, и только когда не осталось даже слабой дымки, я спросила ласково:
– Что происходит, Мишель?
– Бабушка, спрячь меня, мисс Кларк хочет, чтобы я мазал волосы помадой.
Деревянный конь, проехав еще немного по паркету, остановился. В комнату вплыла полная пожилая девица в клетчатом платье.
– В чем дело, мисс Кларк? – строго спросила графиня по-английски.
– Сейчас явятся гости, ваше сиятельство, княгиня Завадская с дочерьми, и я хотела, чтобы его сиятельство выглядел как подобает маленькому джентльмену, – англичанка присела в глубоком почтительном книксене.
– Идите, Мери, – сказала графиня, – вылезай, баловун, – она протянула руку и погладила темные мягкие локоны любимого правнука.
– Баловник, бабушка, а не баловун, – пятилетний Мишель выскочил из-за кресла только тогда, когда за суровой мисс тихо закрылась дверь.
– Так почему же ты не хочешь быть джентльменом, баловник?
– Мне не нравится липкая помада, я не хочу пахнуть цирюльником. И еще, я не люблю, когда приезжает княгиня со своими дочками. Можно, я посижу с тобой, бабушка?
– Маман будет недовольна. Ты должен выйти к гостям. Будут маленькие княжны.
– С ними скучно, – вздохнул Мишель, – они ломаки. Я хочу побыть с тобой, бабушка. Расскажи мне про куриный камень.
– Я рассказывала много раз, ты знаешь эту историю наизусть; Завтра я вызову ювелира, самого лучшего, самого знаменитого в Москве. Он огранит алмаз, сделает из него брошь в виде цветка орхидеи, с тонкими лепестками из платины. На каждом лепестке, как капельки росы, будут сиять прозрачные нежно-голубые топазы, а между лепестками листья, маленькие продолговатые изумруды. Топазы я прикажу огранить кабошоном.
– Что такое кабошон, бабушка?
– При такой огранке кристалл принимает форму гладкой полусферы, без граней, вроде половинки бильярдного шара. Прозрачные камни не принято так обрабатывать, но я хочу, чтобы топазы были похожи на капли росы. Лепестки закрепят подвижно, на тонких стерженьках-пружинках, как в большом бриллиантовом букете ее величества императрицы.
– Бабушка, а алмаз «Павел» не потеряет свою волшебную силу, если его огранят и вставят в брошку? – спросил мальчик таинственным шепотом. – Ты же раньше говорила, что волшебные камни нельзя гранить.
– Разве? Ах, ну да, конечно, однако жаль, что такая красота лежит в шкатулке.
– Ты приколешь эту брошь к платью и пойдешь на бал?
– Нет, мой ангел. Я слишком стара для такой броши.
– Ты подаришь ее маман?
– Нет. Твоя маман слишком легкомысленна.
– Я понял, бабушка, ты хочешь подарить ее кузине Анете.
– Нет. Я не хочу дарить кузине алмаз «Павел», – графиня поджала губы, как обиженный ребенок, – почему я должна непременно дарить кому-то? Пройдет много лет, настанет новый век, двадцатый век, Мишель. Меня уже не будет на свете, ты станешь взрослым мужчиной. Ты женишься.
– На Долли Заславской? Никогда! Она пищит, как мышь, и чуть что, бежит жаловаться княгине, а княгиня шипит, как угли в камине, если брызнешь водой. Я никогда не женюсь, бабушка.
– Кроме Долли, есть много других девиц, какая-нибудь тебе приглянется. Я думаю, ты женишься как раз в первый год двадцатого века. Раньше не надо. В двадцать пять лет в самый раз, уж поверь мне, мой ангел. Не слишком рано, но и не поздно. А теперь слушай меня внимательно, слушай и запоминай, – она приблизила к правнуку свое сморщенное, сильно набеленное лицо и прошептала:
– Это будет счастливый, разумный век. Люди научатся наконец сначала думать и лишь потом что-то делать, а не наоборот, как это происходит сейчас. Бессовестные устыдятся, безжалостные пожалеют ближнего, рука убийцы окаменеет, из уст лгуна вместо, слов будет раздаваться собачий лай.
– Ой, бабушка, значит, наш буфетчик Федор будет только лаять и ничего не сумеет сказать? Он ведь все время врет, что варенье заплесневело, что сыр высох, а холодная телятина заветрилась.
– Мишель, при чем здесь буфетчик? – поморщилась старуха, и с лица ее на бархатную обивку кресла полетела пыль пересохших свинцовых белил. – Буфетчик здесь совершенно ни при чем. Я говорю о двадцатом веке, о том чудесном, разумном XX веке, в котором тебе, мой ангел, предстоит жить. Ты станешь взрослым мужчиной, в твоем благородном сердце вспыхнет любовь, и я надеюсь, что предмет обожания окажется достойным твоего титула и твоего положения в обществе. Ты женишься…
– Бабушка, что такое предмет обожания? – испуганно прошептал Мишель.
– Будь любезен, не перебивай меня. После венчания ты приколешь на платье своей молодой красавицы жены брошь-орхидею. Платиновые тонкие лепестки с топазовыми каплями росы, листья из удлиненных изумрудов, а в центре будет сиять алмаз «Павел». И красавица жена тебя никогда не разлюбит. Вы будете жить долго и счастливо в разумном, милосердном, прогрессивном двадцатом веке.
* * *
Лиза приняла душ, закуталась в теплый гостиничный халат и наконец согрелась. Она включила приемник, нашла спокойную классическую музыку, расчесала волосы и не сразу услышала стук в дверь.
Стучали тихо и настойчиво, потом раздался знакомый голос:
– Елизавета Павловна, простите, откройте, пожалуйста, на минутку.
– В чем дело? – громко спросила Лиза.
– Откройте, я не могу кричать, – ответил из-за двери Красавченко.
– Извините, Анатолий Григорьевич, но я уже сплю.
– Я всего на одну минуту, это очень важно. Мне надо кое-что вам передать, а завтра рано утром я улетаю.
«Да что я, в самом деле, боюсь его?» – раздраженно подумала Лиза.
– Хорошо, Анатолий Григорьевич, подождите, я сейчас открою. Она надела джинсы и футболку, прошла босиком по ковру и распахнула дверь.
– Еще раз извините, – Красавченко шагнул в номер, – я возвращался к лифту, заметил на полу вот это, – он протянул ей твердый белый прямоугольник, – я подумал, может, вы обронили, когда бежали к телефону? Может, это вам нужно?
В маленьком коридоре было темно. Лиза поднесла картонку к глазам. Это была визитная карточка антикварной лавки, возможно той, в которой она вчера покупала мужу музыкальную шкатулку.
– Нет, это мне совершенно не нужно. Не стоило беспокоиться. Спасибо и спокойной ночи, Анатолий Григорьевич.
– Но карточку вы обронили? Или кто-то другой?
– Какая разница? Это всего лишь визитка магазина.
– Между прочим, отличная антикварная лавка, – Красавченко взял карточку у нее из рук, – я ведь тоже ходил вчера по торговому центру. У этого антиквара чудный выбор ювелирных украшений. Вас интересуют драгоценности, Лиза?
– Не очень.
– А мне почему-то показалось, что интересуют. У вас красивые сережки. Я давно обратил внимание. Аметист, если не ошибаюсь?
– Бразильский топаз.
– Да что вы! Разрешите-ка взглянуть. – Красавченко стал теснить ее в комнату, где свет был ярче, бесцеремонно прикоснулся к ее уху. – Действительно, голубой бразильский топаз. Очень редкий и ценный камень. Огранка «маркиз». Золото семьсот пятидесятой пробы, удивительно тонкая работа. Антиквариат. Модерн начала века. Жаль, у меня нет лупы. Вы купили их или они достались вам по наследству?
– Анатолий Григорьевич, извините, но мне, честное слово, совсем не хочется обсуждать с вами мои серьги. Шли бы вы к себе в номер.
Однако он уходить не собирался, аккуратно прикрыл дверь. Щелкнул английский замок.
– У меня в номере пусто и скучно, – лицо его растянулось в комически жалобной гримасе. Это выглядело так фальшиво, Что Лизу затошнило.








