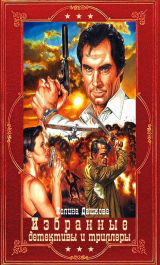
Текст книги "Избранные детективы и триллеры. Компиляция. Книги 1-22 (СИ)"
Автор книги: Полина Дашкова
Жанры:
Крутой детектив
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 291 (всего у книги 329 страниц)
Соня Батурина вела дневник, и особенно много страниц пришлось на лето 1917 года, последнее русское лето, тихое, мягкое, с шелковым бледным небом, крупной, почему-то особенно сладкой и обильной земляникой и такими громадными яркими звездами по ночам, каких в небе над средней полосой России никогда не бывало.
Ирина Тихоновна еще в мае отправилась в Минеральные Воды по настоянию отца. Тихон Тихонович решил наконец серьезно заняться здоровьем единственной дочери. Он поверил профессору медицины, который сказал, что если не сменить обстановку и не провести курс специального лечения, то дело будет совсем худо, за последствия он не отвечает.
Она не хотела ехать, и все-таки решилась, не столько из-за уговоров, сколько из-за инстинктивного страха за свою жизнь. Ей действительно становилось все хуже.
"Мне совершенно не важно, что будет с нами дальше, – писала Соня Батурина на рассвете 3-го июня, – я так счастлива сейчас, что спокойно умерла бы завтра, потому что знаю, ничего лучшего у меня не будет в жизни.
Я могу прожить потом очень долго, стать старухой в пенсне, с вязаньем на коленях, и за многие годы многое случится со мной, хорошего и плохого. Но я знаю, что каждый миг буду вспоминать этот день, тихий, безветренный, немного зябкий, с пасмурным рассветом, ленивым дождиком к полудню и ясными нежными сумерками, эту странную ночь с ледяными ослепительными звездами, которые как будто хотят на голову свалиться и сжечь своим холодным огнем. Каждая как шаровая молния.
Папа, кажется, все понял, но пока молчит, напряженно и растерянно. Они с Михаилом Ивановичем все также играют в шахматы, но если папа проигрывает, у него такое лицо, как будто между ними не шахматная партия, а настоящий поединок, дуэль, но не на пистолетах, конечно, а на шпагах. Я, когда прохожу мимо них, даже слышу призрачный звон этой дуэли. Или просто воздух звенит от первых комаров?"
Константин Иванович действительно понял, что у графа Порье с его дочерью роман. Сначала он заметил, что граф перестал пить и как-то удивительно помолодел, подтянулся. Потом обратил внимание, какие странные у Сони глаза, и даже испугался, не стала ли она, как некоторые глупые барышни, закапывать потихоньку валериановые капли для блеска?
– Ты учти, это вредно. Слизистая оболочка пересыхает и раздражается, может пострадать роговица.
– Ты о чем, папочка? – удивленно спросила Соня.
– У тебя слишком ярко глаза блестят, а это, как известно, бывает, если закапывать валерианку. – Да Бог с тобой, папочка, – засмеялась Соня, – какая валерианка? Просто я отлично выспалась и все время на свежем воздухе.
– Что выспалась – не верю, – покачал головой Константин Иванович, – по-моему, ты в последнее время вообще не спишь. Меня не обманешь. Слишком бледненькая, осунулась, похудела, и под глазами тени.
Соня и правда почти не спала ночами. Дождавшись полуночи, она тихонько вылезала в окошко, мягко прыгала в росистую траву, крадучись, почти не дыша, пробегала сад и уже на велосипеде неслась в дубовую рощу, через которую проходила условная граница между Батуриным и Болякиным. На краю рощи, во флигеле, ждал ее Михаил Иванович.
Возвращалась она со вторыми петухами. Однажды бабушка застала ее в пять часов утра, одетую, в гостиной у буфета.
Соня жадно пила лимонад, оставшийся с вечера.
Подол платья был совершенно мокрым от росы, щеки пылали, волосы растрепались. Но Елена Михайловна была слишком стара и занята собственной бессонницей, чтобы заметить это. Она легко поверила, будто внучка так увлеклась рассказами Леонида Андреева, что заснула в кресле, а теперь проснулась и захотела пить.
– Андреев тяжелый писатель, – проворчала бабушка, – лучше почитала бы Чехова Антона Павловича. Он не так моден, но рассказы у него куда живей и здоровей, – она сдержанно зевнула и прошаркала назад, к себе в комнату.
Константин Иванович стал обращать внимание, что слишком участились Сонины велосипедные прогулки к речке Обещайке и слишком долго пропадала она где-то на песчаном берегу. Там же писал свои бесконечные пейзажи граф. Он писал каждый день, однако все не мог закончить ни одной картины. Скреб холст, начинал сначала.
"Я чувствую, назревает серьезный разговор между папой и Мишей. Они так ожесточенно сражаются на шахматной доске, будто от этого зависит что-то страшно важное. Миша так и не рассказал папе, что я собиралась бежать на фронт, записку мою сжег. И напрасно. Папа был бы ему благодарен, и возможно… Нет, ничего не возможно. Они не договорятся. Папа хоть и знает, какова семейная жизнь в Боляки не, однако граф Порье для него женатый человек, и этим все сказано.
Вчера пришло письмо от Оли Суздальцевой. Ужасная история с нашей бывшей одноклассницей, Надей Николаевой. Я хорошо ее помню. Тихая, добрая, некрасивая девочка. Оказывается, она страстно влюбилась в известного поэта-символиста и стреляла в него в упор на поэтическом вечере, но, к счастью, пистолет дал осечку, ее схватили, теперь она в лечебнице для душевно больных. А сегодня Миша показал мне стихи Бальмонта, которых я прежде не читала, но лучше бы их никогда не читать:
О мерзость мерзостей! Распад, зловонье гноя,
Нарыв уже набух и, пухлый, ждет ножа.
Тесней, товарищи, сплотимтесь все для боя…
И так далее. Сам он мерзость, вместе со своими товарищами. Миша говорит, что символизм ведет к хаосу, к распаду. Модно быть морфинистом и ни во что не верить. Модно ненавидеть Россию, проклинать царскую семью, в разбойнике видеть страдальца, загадочную угнетенную душу, а обычного городового объявлять палачом, убийцей. Модно все видеть наоборот, считать смерть прекрасней жизни, презирать все нормальное, здоровое, нравственное. Господи, прости нас обоих, нам ли рассуждать о нравственности? Я живу с чужим мужем, лгу папе и бабушке, не могу пойти к исповеди, потому что знаю, что услышу от священника. Но я так сильно, так невозможно люблю, что все другое для меня уже не важно. Объяснение с папой, возвращение И.Т. с Кавказа – все это завтра, но только не сейчас.
Миша принялся за мой портрет. Получается у него скверно, он не умеет рисовать людей, только пейзажи, сценки и карикатуры. Ну да ладно, как бы ни написал меня, не обижусь. Зачем-то приколол мне к блузке огромную, довольно нелепую брошь, сказал, что это очень дорогая вещь, доставшаяся ему по наследству от прабабушки, и вот с этим холодным тяжелым цветком у горла он пишет меня в роще, причем мертвая, сверкающая орхидея выходит у него значительно лучше, чем я".
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯКапитан Косицкий очень удивился, когда получил сообщение на пейджер, что его звонка ждет Бутейко В.И. Далее следовал домашний номер.
Трубку сняли моментально.
– Я не могу сейчас говорить, – услышал капитан испуганный хриплый шепот, – мне надо срочно встретиться с вами, но я не знаю как.
– Подождите, Вячеслав Иванович, вы ведь должны были еще неделю оставаться в больнице. Почему вы дома?
– Леля забрала меня. Деньги ей вернули. Они думают, я сошел с ума, не хотят со мной возиться. Но вы ни в коем случае не приезжайте сюда. Я не сумею говорить при Леле. Встретиться надо потихоньку, чтобы она ничего не знала. Все, простите… – последовали частые гудки.
Капитан тут же набрал номер еще раз. Трубку взяла Елена Петровна.
– Здравствуйте. Будьте добры, Вячеслава Ивановича.
– Кто его спрашивает?
– Капитан Косицкий.
– А по какому вопросу?
– Я занимаюсь расследованием убийства вашего сына. Мне необходимо побеседовать с вашим мужем.
– Это вы приходили к нему в больницу?
– Да.
– Я убедительно прошу вас больше не звонить и мужа моего не беспокоить, – в ее голосе ясно слышалась истерика.
– Елена Петровна, я знаю, что ваш муж дома. Он может подойти к телефону?
– Я сказала, не смейте больше сюда звонить… После вашего посещения мой муж пытался покончить с собой! – выкрикнула она и бросила трубку.
Иван, не раздумывая, принялся звонить в больницу. Ему повезло, врач Перемышлев оказался на месте.
– Жена забирала его вчера вечером. Нам пришлось ее вызвать. Сестра обнаружила, что он не пьет таблетки, а собирает их в баночку.
– Снотворное?
– Да. Димедрол, элениум. А незадолго до этого он спрашивал, сколько надо выпить таблеток, чтобы умереть.
– Он задал этот вопрос до моего визита или после?
– Он спрашивал постоянно, и меня, и сестер. Что, мадам Бутейко уже успела осуществить сои угрозы? – усмехнулся доктор.
– В каком смысле?
– Беседуя со мной, она требовала, чтобы я письменно подтвердил, что психическое состояние ее мужа резко ухудшилось после того, как его допрашивал милиционер, то есть вы. Перед выпиской Вячеслав Иванович потихоньку спросил меня, не оставили ли вы свой телефонный номер. Я дал ему ваш служебный и пейджер.
– Спасибо, а что, ему действительно стало хуже?
– Я бы не сказал. Другое дело, что сестра обнаружила таблетки в баночке через два часа после вашего ухода.
– И это все?
– В каком смысле?
– Ну, в смысле суицида. Он не пытался проглотить таблетки или выброситься Из окна?
– Нет. Он просто не принимал и собирал их.
– Все подряд или только снотворные?
– А вот этого я не знаю. У нас ведь не контролируют больных, у нас не психиатрическое отделение. Простите, я должен идти к больному, меня вызывают. Будут еще вопросы – звоните.
– Подождите, так вы написали для мадам Бутейко бумагу, о которой она вас просила?
– Разумеется, нет.
– Спасибо.
– На здоровье. Всего доброго. – «Почему же она так паникует? – думал Иван, пока ехал в следственный отдел УВД. – И почему он так боится ее?»
Илью Никитича он застал за чтением какой-то потрепанной английской книжки.
– Садись, Ваня. Чаю хочешь?
– Если с пирогами, хочу. Не завтракал.
– Ну, тогда, пожалуй, не садись, а иди мой руки, наливай воду в чайник, заваривай. Все, что нужно, найдешь в тумбочке.
Иван знал Бородина уже лет пять, им часто приходилось работать вместе. Илья Никитич всегда в своем кабинете угощал его чаем и имел резервный запас сигарет, хотя сам не курил. Но никогда он не доверял кому-либо готовить этот чай, доставать посуду из тумбочки, раскладывать пирожки на тарелке. Для него простое чаепитие в маленьком кабинете было почти японской церемонией. Обычно он усаживал оперативника за стол, давал что-то читать из следственных материалов, а сам молча священнодействовал.
Чайных пакетиков он не признавал, говорил, что нельзя пить бумажный отвар. Тщательно ополаскивал кипятком фарфоровый заварной чайник, потом накрывал его льняным полотенцем, настояв минут десять, отливал немного заварки в стакан, потом назад, в чайник, и так три раза. Это называлось «женить». Пока чай настаивался, он выкладывал пирожки на тарелку, каждый на отдельную салфеточку.
Многие смеялись над ним, но от чай и от пирожков не отказывался никто.
– Чем же вы так увлеклись, Илья Никитич, что решились доверить мне святое дело? – спросил Иван, вернувшись в кабинет с чистыми руками и полным электрическим чайником.
– Георг Смит, «Исторические камни», – не поднимая головы, пробормотал Илья Никитич, – здесь, как мне объяснили, наиболее подробно прослеживается история исчезнувших алмазов и судьбы их владельцев. Действительно, очень подробно. Ты смотри, заварку «поженить» не забудь.
– И что, там есть про этого «Павла», снесенного курицей?
– А как же! – Илья Никитич закрыл книгу. – И про «Павла», и про графа Михаила Ивановича Порье, последнего его владельца. Ну ладно, Ваня, рассказывай, какие у нас новости?
Капитан подробно изложил свои телефонные разговоры с четой Бутейко и с врачом Перемышлевым.
– Очень интересно, – хмыкнул Илья Никитич, – похоже, прав был профессор-минералог, когда сказал тебе на прощанье: ищите брошь, и вы найдете убийцу. Возможно, убийцу журналиста мы пока не найдем, но какого-нибудь другого непременно, что тоже неплохо. Надо ехать к Бутейко, причем нам обоим. Ты отправляешься прямо сейчас, а я чуть позже. Постоишь в подъезде и подождешь, когда Вячеслав Иванович выйдет погулять. Вы найдете сухую лавочку во дворе, но такую, чтобы не была видна из окон их квартиры. Давай, ешь пирожок, вот этот, длинненький, с капустой.
– А вы уверены, что он выйдет погулять?
– Не уверен. Но попробовать стоит.
Он снял телефонную трубку и набрал номер.
– Елена Петровна, здравствуйте. Следователь Бородин вас беспокоит. Как вы себя чувствуете? Нет, я правда волнуюсь за вас, вы ведь совершенно одна дома, и в таком состоянии… А как здоровье Вячеслава Ивановича? Я собираюсь подъехать, к нему в больницу на днях. Да, конечно… Не возражаете, если зайду к вам, буквально на десять минут, возьму кассеты, как мы договаривались, просто сейчас у меня как раз есть время, потом будет сложнее… Нет, вы смотрите, если вам сейчас неудобно, я вечером пришлю за кассетами своего оперативника капитана Косицкого… Да? Ну, спасибо большое… что вы, никаких вопросов… Только кассеты. Сейчас половина третьего, ровно в четыре я буду у вас. Отниму не больше десяти минут. Спасибо. До встречи.
Положив трубку, он отхлебнул чаю, откинулся на спинку стула и задумчиво взглянул на Ивана.
– Одного не могу понять. Как получилось, что такую бесценную вещь ребенок притащил в школу?
– Вы о чем, Илья Никитич?
– О броши в форме орхидеи, с «Павлом» в серединке. Знаешь, от кого я впервые услышал историю про уральскую алмазоносную курочку? От Анисимова А. Я. Если ты помнишь, они с Бутейко одноклассники. А Елена Петровна женщина хитрая, но нервная… В общем, так, господин капитан. Без пятнадцати четыре, не позже, Вячеслав Иванович выйдет подышать воздухом. Может, в булочную отправится или в угловой гастроном. Елена Петровна придумает что-нибудь, выставит его из квартиры на время моего посещения, благо, я обещал, что пробуду не больше десяти минут. Ты должен перехватить его в подъезде.
– Неужели она поверила, что вы пока не знаете ничего? – удивился Иван.
– Поверила, – улыбнулся Илья Никитич, – как миленькая поверила.
– Но она должна понимать, что вы все равно очень скоро узнаете.
– Конечно. Но чем позже я встречусь с ее мужем, тем лучше для нее. Ты думаешь, зачем она так поспешно забрала его из больницы?
– Чтобы впредь его допрашивали только в ее присутствии.
– Не только. Она сейчас начнет на него активно влиять, вправлять ему мозги, и одновременно попытается очень быстро оформить заключение психиатров о его невменяемости.
– Как она не понимает, что все эти действия только обострят наш интерес?
– Видимо, не понимает, я же не сказал «умная», я сказал: «хитрая».
– Почему она так боится? В любом случае, срок давности истек. Четырнадцать лет прошло.
– Ну, она же не рецидивист, не бандит, которому все равно. Она обыкновенная, добропорядочная женщина. Кроме уголовного кодекса есть еще такие простые вещи, как стыд, муки совести. Вот ты думаешь, Вячеслав Иванович сумасшедший?
– Не знаю, – пожал плечами капитан, – не то чтобы совсем псих, но нормальным его тоже назвать нельзя. Вот у Елены Петровны с головой все в полном порядке. Я хоть и не видел ее ни разу, но не сомневаюсь, уж она-то нормальная.
– Эх ты, господин капитан, – вздохнул Бородин, – это она сумасшедшая, а он как раз нормальный. Его совесть мучает, раскаяние. А ее – только страх разоблачения.
– Как вы думаете, – тихо спросил капитан, – кто из них убивал этого алкаша Кузю?
– Ты погоди выводы делать, от того, что срок давности истек, преступление все-таки остается преступлением, тем паче – убийство. Не забудь, пожалуйста, записать на диктофон разговор с Бутейко, если, конечно, нам повезет и разговор состоится.
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯГраф Михаил Иванович Порье не мог читать газеты. У него дрожали руки. Бунт в Киеве, бунт в Нижнем Новгороде, бунт в Ельце. В Петрограде настоящее восстание, с кровью, с паникой и мародерством. В Ельце старого царского генерала раздели донага и бросили в кучу битого стекла.
«Новая жизнь» печатала письмо-воззвание сумасшедшего Троцкого. Каждая строчка дышала ненавистью и хаосом. «Русский голос» преподносил как откровение истерику Керенского: «Всем! Всем! Всем!».
– Кто они, эти «все»? – бормотал граф. – Я не знаю, что такое – «все», – он откидывал газету, и она летела, подхваченная теплым сквозняком.
Мужики из соседней деревни, напившись, поснимали образа в деревенской церкви, сбросили их на пустыре у железнодорожной станции, подожгли. Там горел бесценный образ Николы Угодника, писанный в шестнадцатом веке, там горела чудотворная икона Иверской Божьей Матери. Совсем недавно эти же мужики ходили ставить ей свечи, просили у нее милости, здоровья и благоденствия.
Хромой старик священник в холщовой ночной рубахе метался вокруг костра, пытаясь хоть что-то спасти. Его с гиканьем скрутили, повалили на землю, лили водку в рот, приговаривая, что «нонче для всех новая жизнь, и неча больше народ морочить, одно вранье на энтих досках, вон, гляди, как корчатся твои угодники, гляди, старый хрен».
На платформе ветер вздыбливал пыль и подсолнечную шелуху. Никто не мел платформы, станционные дворники днем заседали в «земельном комитете», мрачно слушали речи о всеобщем равенстве, согласно кивали, наливаясь крепкой злобой к начальнику станции, который «таперча хрена заставит мести, пусть сам метет». А вечерами напивались до буйного, убийственного бесчувствия и грозили поднять всех, кого следует, на штыки.
Было грязно, сумрачно, хотя дни стояли ясные. Ночами в батуринской дубовой роще пел соловей, так вдохновенно, так отчаянно, словно в последний раз. Утром заливался маленький азартный пересмешник. Птичий щебет не давал спать. В дубовом флигеле были распахнуты окна. Сквозняк выдувал комаров, страшно истерично хлопал дверьми. Занавески вздувались, как огромные беременные животы Соня расчесывала черные блестящие волосы, вздрагивала от дверных хлопков. Тяжелые пряди шевелились на ветру.
Между доктором Батуриным и графом Порье произошло объяснение. Доктор ничего не требовал, граф ничего не обещал.
Оба понимали тщетность требований и обещаний.
– Я виноват перед тобой, Костя. Я очень люблю твою дочь и не знаю, что будет с нами завтра.
– Зато я знаю, – отвечал доктор, не поднимая глаз, – завтра вернется твоя купчиха и убьет тебя, Соню. А если не она, так пьяные дезертиры поднимут нас всех на штыки, потому что «неча нам на свете жить, нынче новая жизнь, не наша, нет нам в ней места». Я, Миша, каждую ночь не сплю. Знаю, что Соня с тобой во флигеле, но мучаюсь не потому, что ты женат, а она почти ребенок. Это сейчас не страшно. Сейчас вообще ничего не страшно. Вчера принимал роды в крестьянской избе. Там сепсис, обвитие пуповины, промучился всю ночь. Отец семейства под утро распахнул дверь и говорит: «Гляди, дохтур, будет девка, так я тебя подпалю. Спички нонче дешевы».
– И кто же родился?
– Мальчик. Я вздохнул облегченно. Может, сжалится мужик, не подпалит, – Батурин криво усмехнулся, – слушай, граф, а может, нам снится все это?
В начале августа умерла бабушка Елена Михайловна. Причастившись, позвала к себе сына и внучку, благословила обоих и отчетливо произнесла:
– Уезжайте.
– Куда же нам ехать, мама? – спросил доктор.
– Куда угодно.
В кладбищенской сторожке жил дезертир, племянник сторожа, мутноглазое огромное животное. Он вышел поглядеть, как хоронят старую барыню, стоял совсем близко, без конца схаркивал, сплевывал под ноги. Граф не выдержал, шагнул к нему, тихо, сквозь зубы произнес:
– Пошел вон.
– Ты смотри, сиятельство, меня не забижай, – добродушно усмехнулся дезертир, – вона, ружьишко у меня, со штыком. Я ща тебя на штык нанизаю, народная власть только спасибо мне скажет. Одним гадом меньше.
Михаил Иванович вскинул руку для удара, но у доктора была хорошая реакция, он успел удержать графа, схватил за локти, зашептал на ухо:
– Миша, успокойся, оставь его, не надо…
Соня подняла мокрое от слез лицо и спокойно произнесла:
– Миша, его просто нет. Мы не видим его и не слышим. Мы бабушку хороним.
Над могилой вырос холмик, граф и доктор сами поставили простой деревянный крест. Дезертир все стоял, курил самокрутку, плевал и усмехался. Над головами сухо, мертво шуршали густые березовые кроны. Ветер гнул упругие белесые стволы так низко, что было больно смотреть.
На следующий день Тихон Тихонович привез Ирину. Оказывается, из Минеральных Вод она послала несколько писем и телеграмм, но ничего не пришло. Почта работала скверно.
Бодрая, похудевшая, помолодевшая, Ирина Тихоновна расхаживала по дому, заглядывала во все углы. Распустившаяся при графе прислуга присмирела, и даже на миг показалось, что не только в Болякине, но и во всей России все по-прежнему. Горничная и кухарка целовали барыне ручку, дворник Федор был трезв и кланялся.
Во флигеле Ирина Тихоновна нашла Сонины шпильки и гребень, потом узнала от горничной Клавдии, что барин ночевал там, а не в доме, и под навесом, со стороны рощи, видели велосипед батуринской барышни. Ирина Тихоновна побледнела так, что губы стали синими, но ничего никому не сказала.
– Надо переждать, – сообщил Тихон Тихонович за обедом, – в Москве кабацкая голь бунтует, городовых вешают на фонарях, нет никакой власти. Торговое дело стоит. Деньги ненадежны, в банках паника. Но ничего, государство – механизм крепкий, все само как-нибудь выправится, по воле Божией, несмотря на всякую социал-революционную бестолочь. Долго так продолжаться не может.
В сумерках Ирина в новом розовом платье отправилась к соседям, тяжело уселась в кресло-качалку на веранде, вытерла потное лицо платочком, не глядя, стянула газету со стола и, обмахиваясь так сильно, что на всех вокруг повеяло холодком, стала рассказывать о дикости кавказцев, о безобразиях на железной дороге, потом, ласково взглянув на Соню, произнесла:
– Пожалуйте сегодня к нам чай пить, Софья Константиновна. Я вам сувениры покажу, две шали персидские купила, кувшинчики серебряные, для напитков и для цветов. Варенье у нас грузинское, из недозрелых грецких орехов, очень вкусное варенье, три банки привезла. Приходит? посидим по-соседски. Опять же, Елену Михайловну помянем, Царство ей Небесное, голубушке. Добрая была женщина.
– Спасибо, Ирина Тихоновна, – пробормотала Соня.
– Так придете?
– Да, разумеется, придем. Спасибо, – поспешно ответил доктор.
Чай пили в беседке. Соня смотрела, не отрываясь, на дрожащий огонек керосинки, смотрела так долго и пристально, что перед глазами поплыли горячие оранжевые кольца. Граф покорно уплетал грузинское варенье с мягким ситником. Графиня заранее поставила перед ним целую вазочку, и он ел, не чувствуя вкуса.
Тихон Тихонович рассуждал о дураке Керенском, об очередной смене кабинетов в правительстве, коего нет, одна только видимость.
– Но самый зловредный из всех болтунов, самый хитрый и бессовестный – Ленин. За ним стоят немецкие деньги, он врет наглее прочих, и главное, умеючи врет, знает, черт картавый, чем соблазнить пролетарскую сволочь. Им бы, бездельникам, только разбойничать, пить и жрать на дармовщинку. Фабрики рабочим, землю крестьянам, грабь, убивай. Ты пролетарий, тебе, кроме твоих цепей, нечего терять. Выходи с кистенем на большую дорогу. Я разрешаю. Конечно, они, голодранцы, пойдут за тем, кто их на разбой благословит. Но только что будет, когда все награбленное пропьют, сожрут, испохабят Россию?
– Будет не Россия, а каторга, – подал голос Константин Васильевич, – одна сплошная каторга, с Ванькой Каином во главе.
– Что же вы, Софья Константиновна, не кушаете совсем? – тихо спросила Ирина. – Я вам положила, что повкусней, с пеночкой. Хотя бы попробуйте варенье. Не обижайте меня, голубушка. Где еще такого покушаете?
– Спасибо, я попробовала, очень вкусно.
– Так вазочка-то у вас, я гляжу, все полная.
– Сонюшка в детстве была сластеной, – сказал доктор, вставляя папиросу в мундштук, – а теперь совсем разлюбила.
– Костя, дай мне папиросу, – хрипло попросил граф.
Вспыхнула спичка, осветилось его лицо, доктор заметил, что Михаил Иванович страшно бледен. Глаза его как будто ввалились, губы посинели.
– Тебе нехорошо? – спросил он шепотом.
– Нет… все в порядке…
– Может, жар у тебя? – Доктор приложил ладонь к его лбу. Лоб был ледяной и влажный. – Миша, тебе надо лечь. С тобой не то что-то. Пойдем.
– Может, варенья переел? – предположил купец.
Ирина сидела молча, откинувшись на спинку кресла. Лицо ее тонуло во мраке.
Полные, крупные, потемневшие от кавказского солнца руки вцепились в подлокотники так крепко, что побелели костяшки пальцев. Из темноты она глядела на Соню.
– Да, я пойду, прилягу, – произнес Михайл Иванович каким-то совсем чужим, И хриплым голосом, – что-то жжет внутри.
Он поднялся, вышел из беседки, сделал несколько шагов и упал в мокрую черную траву. Доктор и Соня кинулись к нему. Ирина осталась сидеть, словно окаменев. Тихон Тихонович растерянно взглянул на дочь, взял керосинку со стола, перегнувшись через перила, посветил во мрак, туда, где пытались поднять на ноги графа.
– Ну что там? Как? Эй, Федор! Ты где, разбойник? Иди сюда, помоги. Барину плохо, не слышишь, что ли?
Но дворник не слышал, он уже успел напиться в честь приезда барыни и спал у себя в каморке за сараем.
Соня и доктор кое-как подняли Михаила Ивановича, он еще мог двигаться, его довели до дома, уложили на веранде на кушетку.
– Беги домой, буди Семена, возьми мой чемоданчик, он в кабинете у печки. Быстрей. Сонечка, быстрей… Эй, кто-нибудь, воды мне побольше, целое ведро… Ну что вы там, вымерли все? Марганцовокислый калий есть у вас? Где горничная?! Соня, стой! Ты ела варенье?
– Нет.
– Точно не ела? Ни ложки?
Она помотала головой и кинулась во мрак, через рощу, в Батурине.
На веранду тяжело поднялась Ирина, за ней Тихон Тихонович. Купец как будто сгорбился и постарел за эти несколько минут. Он глядел то на умирающего, хрипло, часто дышащего графа, то на дочь.
– Их сиятельство вареньем объелись, – спокойно произнесла Ирина, – я забыла сказать, его много нельзя. В недозрелой ореховой кожуре вредные вещества.
– Михаил Иванович отравлен мышьяком, – сказал доктор, – надо вызвать священника и полицейского урядника.








