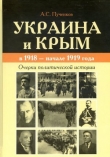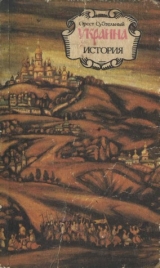
Текст книги "Украина: история"
Автор книги: Орест Субтельный
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 56 (всего у книги 62 страниц)
Со смертью в 1982 г. Леонида Брежнева начался переходный период в деятельности советского руководства. Непосредственным преемником Брежнева стал умный, опытный и жесткий политик, бывший шеф КГБ Юрий Андропов, готовый к тому, чтобы начать радикальные преобразования. Однако, пробыв у власти менее двух лет, он умер, а его место занял старый и немощный Константин Черненко, представлявший интересы «старой гвардии», не желавшей проводить реформы, столь явно необходимые для СССР. Однако и он умер вскоре после прихода к власти. Похоронные церемонии умиравших друг за другом престарелых советских лидеров, ставшие слишком частыми, со всей очевидностью показали необходимость выдвижения более молодого, энергичного и способного к новаторству руководства. В результате в 1985 г. партийная верхушка избрала на высший в стране пост андроповского протеже Михаила Горбачева. С его приходом к власти на передний план вышло новое поколение партийных аппаратчиков. Разумный, более интеллектуально подготовленный и прагматичный Горбачев и его соратники были первой генерацией советских лидеров, выдвинувшихся не при Сталине.
Несмотря на глубоко укоренившуюся в партии и обществе оппозицию консервативных сил, Горбачев начал перестройку советской системы, особенно застойной экономики, рассчитывая сделать ее более эффективной, мощной и производительной. Для достижения своих целей Горбачев избрал новый, «демократический» стиль руководства, создавая впечатление близости его режима к народу, призывая к гласности в управлении страной и плюрализму мнений – в рамках социалистического выбора.
Чернобыль. Прежде чем горбачевские реформы сказались в Украине, она была потрясена катастрофой колоссальных масштабов и глобального значения. 26 апреля 1986 г. взорвался реактор мощной Чернобыльской атомной электростанции, расположенной в 130 км севернее Киева. Огромное радиационное облако, несравнимо большее, чем то, что образовалось при бомбардировке Хиросимы, покрыло окрестности Чернобыля, а затем прошло над территориями Белоруссии, Польши и Скандинавии, заражая целые районы. Мир столкнулся с тем, чего он боялся больше всего,– с ядерной катастрофой.
Советские власти, следуя своей традиционной манере, пытались замолчать катастрофу, которая, как выяснилось впоследствии, была результатом ошибок и халатности персонала станции и неудачной конструкции реактора. Когда дальнейшее молчание стало невозможным, Москва признала факт аварии и обратилась за технической помощью к западным специалистам. Советским инженерам удалось погасить пылающий реактор и замуровать его в гигантском «саркофаге». Согласно советским источникам, в результате катастрофы погибло 35 человек (многие западные специалисты считают, что число жертв было намного большим), госпитализировано несколько сотен, а воздействие больших доз радиации повысило угрозу заболевания раком для сотен тысяч людей. Приблизительно 135 тыс. человек (большинство из них – украинцы из чернобыльской зоны) пришлось покинуть свои дома, многим из них – навсегда. Обширные районы от Чернобыля до самой Лапландии понесли огромный и долговременный экологический ущерб.
С 1970 г., когда началось строительство электростанции в Чернобыле, в Украине существовала оппозиция решению Москвы строить огромную атомную электростанцию в республике, богатой энергетическими ресурсами, да еще так близко от Киева. В результате в республике ширилось возмущение против безответственного, волюнтаристского решения Москвы, навязавшей Украине эту «бомбу замедленного действия». Кроме того, были свидетельства, что катастрофа привела к усилению напряженности в отношениях между украинским и союзным партийным руководством, перекладывавшими вину друг на друга. В любом случае совершенно очевидно, что Москва не собиралась менять своих планов даже после Чернобыля, намереваясь превратить Украину в центр растущей ядер-ной энергетики. Экологические проблемы, таким образом, превращались еще в одну точку противостояния между Кремлем и украинцами.
Горбачевская гласность и Украина. Становилось все более явным, что в Москве, несмотря на серьезную оппозицию со стороны консерваторов в партийно-государственном «истеблишменте» и скептические настроения общественности, горбачевские реформы все же пробивают себе дорогу, особенно в области культуры. Основные газеты уже отражали новые настроения открытости и самокритики; популярный журнал «Огонек» во главе с новым редактором – поэтом из Украины Виталием Коротичем неустанно громил культ Сталина и остро критиковал злоупотребления бюрократии и милиции; стали публиковаться русские поэты, открыто придерживавшиеся антисоветских взглядов; общественная организация «Память», занимавшая воинственные антимарксистские позиции и проповедовавшая русский национализм и антисемитизм, не подвергалась преследованиям.
В сравнении с этим проявления «новых веяний» в Украине были значительно более редкими и приглушенными. Осмотрительность украинцев можно было понять. Киев оставался вотчиной закоренелого консерватора Щербицкого – единственного удержавшегося в Политбюро ЦК КПСС обломка брежневского режима. К тому же украинский КГБ все еще имел репутацию самого репрессивного в СССР. И наконец, украинская интеллигенция слишком хорошо помнила, как она жестоко «обожглась», с энтузиазмом поверив хрущевским преобразованиям 1960-х.
Несмотря на все эти сдерживающие факторы, среди интеллигенции начали проявляться первые признаки подъема в поддержку реформ. Осенью 1987 г. в Киеве образовался Украинский культурологический клуб. Среди его основателей было много бывших диссидентов, стремившихся нащупать границы гласности путем обсуждения таких политически острых проблем, как голодомор 1932—1933 гг., тысячелетие христианства в Украине или борьба за независимость 1917—1920 гг.
Во Львове – этом центре национально сознательных западных украинцев – гласность получила более широкую и активную поддержку. В июне-июле 1988 г. здесь было проведено несколько несанкционированных властями беспрецедентных по масштабам митингов. На демонстрациях, организованных бывшими диссидентами – Чорноволом, братьями Горынями, Игорем и Ириной Калинец и деятелем нового поколения Иваном Макаром, звучали требования установить во Львове памятник Тарасу Шевченко и монумент в память жертв сталинизма. Эти деятели выступали также против партийных бюрократов, избравших себя делегатами от Львова на готовившуюся XIX Всесоюзную партконференцию в Москве. Они же открыто говорили о многочисленных национальных притеснениях украинцев. Львовский КГБ отреагировал обычным способом: организаторы митингов и демонстраций были обвинены в «антисоветской деятельности» и некоторые из них арестованы. Это лишний раз подтвердило, что украинцев ожидает еще очень долгий путь к настоящей демократии.
Несколько раньше представители прорежимного Союза писателей УССР (которым самой природой было предписано не допустить упадка украинского языка) столкнулись с консерваторами из окружения Щербицкого из-за вечной проблемы русификации и статуса украинского языка. В июне 1986 г. ряд украинских писателей, среди которых были Олесь Гончар, Дмитро Павлычко, Иван Драч и Сергий Плачинда, открыто осудили процесс вытеснения украинского языка из школьного обучения, а Союз писателей создал специальную комиссию для связи с учебными заведениями. В апреле 1987 г. министр просвещения УССР М. Фоменко представил комиссии приводящий в уныние, но вполне предсказуемый отчет. В соответствии с ним в Украине действовало около 15 тыс. украинских школ, т. е. 75 % всех школ республики, в то же время в 4,5 тыс. русских школ, составлявших менее 22 % общей численности, обучалось больше половины всех школьников. Еще более неестественным было положение в Киеве: здесь из 300 тыс. учеников на украинском языке обучалось только 70 тыс.
Впрочем, эта статистика не обеспокоила партийных функционеров. Щербицкий же вообще довольно своеобразно прокомментировал проблему, выразив надежду, что использование русского языка не будет снижаться. В целом создавалось впечатление, что партийный «истеблишмент» Украины, становясь более восприимчивым к некоторым аспектам горбачевской модернизации, вовсе не спешит изменять своих позиций в национальном вопросе.
Так, в частности, входили украинцы в четвертый год перестройки...
* * *
Период, названный позднее застойным, и впрямь был настоящим торжеством политической серости, безверия, лжи и приспособленчества. Распространяясь с быстротой раковой опухоли, эта атмосфера готова была пронизать и поглотить все советское общество. Огромный и неуклюжий имперский маховик совершал свои обороты лишь по инерции, исчерпывая последние ресурсы и работая на самопоглощение. Однако он все еще был способен подмять под себя любого несогласного. И этот порядок вещей настолько укоренился в сознании многих, что, казалось, никакая сила не в состоянии поколебать его.
В такой ситуации если и можно было ждать каких-то перемен, то только сверху. Оттуда они и последовали. Выпестованные тоталитарной системой, плоть от плоти ее, «архитекторы перестройки» вряд ли думали уйти намного дальше привычной формулы «менять, ничего не меняя». Но последствия их во многом декоративных реформ оказались поистине непредсказуемыми и плохо поддающимися контролю – как внутри страны, так и в международном масштабе. Так громко произнесенное в горах слово может вызвать целую лавину,
На первых порах «перестроечная» эйфория, охватившая центр, мало затронула периферию все еще монолитной империи. Поначалу украинцы с их веками выработанным скепсисом .тишь наблюдали за газетными и телевизионными сражениями московских демократов и консерваторов. Но изголодавшееся по переменам общество постепенно приходило в движение. Вместе с тем украинцы твердо знали одно: пека у власти Щербицкий, в Украине не сдвинется с места ничего. Однако Москва, в течение короткого времени сменившая практически всех руководителей республик, медлила. И, как показали дальнейшие события, медлила не напрасно.
27. ЭМИГРАЦИЯ
В XX столетии миллионы украинцев покинули свою родину в поисках лучшей доли на чужбине. Многим пришлось сделать это по социально-экономическим причинам. Огромное количество восточных украинцев переселилось или было переселено в азиатскую часть Российской империи, а позднее Советского Союза, и их нельзя считать эмигрантами в общепринятом смысле этого слова. В противоположность им западные украинцы направлялись на Запад – в Новый Свет, где они столкнулись не только с незнакомой землей, но и с совершенно иными политическими, экономическими, социальными и культурными условиями. Именно к ним применимо понятие «украинские эмигранты». Многие украинцы покидали свою землю также по политическим причинам. Не желая признавать советскую власть, они предпочли изгнание. Трудовую и политическую эмиграции составили три различных волны украинцев, которых и до наших дней прибивает к чужим берегам.
Первая волна: эмиграция до 1914 г.Украинцы эмигрировавшие в Новый Свет до 1914 г., в большинстве пытались улучшить свое социально-экономическое положение, крайне тяжелое на родине. К этой цели они шли двумя путями. Большинство прибывало в Соединенные Штаты, находя работу на растущих как грибы после, дождя фабриках и шахтах в больших городах или их окрестностях. В основном это были неженатые «парубки», рассчитывавшие накопить достаточно денег, чтобы вернуться в родное село, приобрести необходимую землю и завести хозяйство. Однако со временем перспективы жизни в США становились для многих более привлекательными, чем возвращение на родину. Когда же эмигрировать стали и женщины-украинки, начался быстрый рост украинских общин во многих городских центрах северо-востока Соединенных Штатов.
Другой категорией первых украинских эмигрантов стали те, кто оставил свои края, намереваясь заниматься сельским хозяйством в странах, где земля была дешевой и доступной. С самого начала эти эмигранты, обычно приезжавшие целыми семьями, собирались осесть на своей новой родине навсегда. Поскольку подобные земли, как правило, располагались в незаселенных районах, вроде неосвоенной глубинки Бразилии или Канады, этим эмигрантам приходилось вступать в изнурительную борьбу один на один с природой.
Эмиграция в США. Отдельные украинцы появлялись в Америке еще задолго до того, как сюда нахлынула первая массовая волна эмигрантов на рубеже XIX—XX вв. Украинские имена можно встретить среди основателей колонии Джеймстаун в Вирджинии или среди участников американской революции и гражданской войны. Когда Россия основала свои колонии на Аляске и в Калифорнии, в числе их обитателей были украинские казаки и гражданские лица. Впрочем, появление в Америке первого национально сознательного украинца обычно связывают с именем Агапия Гончаренко – православного священника из Киевской губернии, человека революционных взглядов, лично знакомого с Шевченко. В 1867– 1872 гг. эта оригинальная, авантюрного склада личность редактировала газету «Вестник Аляски» – первую американскую газету, где публиковались материалы об Украине и ее жителях. Позднее Гончаренко стал очень известен в Калифорнии, где попытался основать в начале XX в. украинскую социалистическую колонию. Другой весьма колоритной фигурой был Николай Судзиловский-Руссель – киевский врач и революционер, живший в 1880-е годы в Калифорнии и впоследствии переехавший на Гавайи, где стал президентом местного сената. Он также пытался привлечь украинцев на свою новую родину.
Однако первая большая группа украинских эмигрантов в Соединенные Штаты существенно отличалась от своих колоритных предшественников. Это были в основном крестьяне Закарпатья и Лемковщины – самых западных и наименее развитых украинских земель. Вести о полумифическом крае, лежащем далеко за морями, впервые донесли закарпатцам и лемкам их западные соседи – словаки, венгры и поляки. В 1877 г, предоставилась возможность проверить достоверность этих легенд. Угольная компания Пенсильвании, столкнувшись с забастовками, решила использовать в качестве штрейкбрехеров дешевую рабочую силу из беднейших районов Австро-Венгерской империи. Когда агенты компании предлагали молодым лемкам и закарпатцам подъемные на переезд в Америку (с последующим вычетом этих сумм из жалованья) , они нашли немало желающих. А когда от уехавших на заработки стали приходить впечатляющие денежные переводы и обнадеживающие известия (часто приукрашиваемые агентами компаний), исход в Америку приобрел массовый характер.
Подобно своим бесчисленным предшественникам и последователя^, молодежь, выдержавшая долгий, изнурительный переезд в Америку, вскоре начинала понимать, что эта страна не только предоставляет большие возможности, но и требует напряженной работы. Первоначально большинство новоприбывших устраивалось на шахтах и металлургических заводах Западной Пенсильвании, и этот район стал сердцевиной ранней украинской эмиграции. Другие находили работу на фабриках Нью-Йорка, Нью-Джерси, Коннектикута, Огайо, Иллинойса.
Поначалу было очень тяжело: бывшие крестьяне сталкивались со странной, чуждой землей и непонятным языком; их бросало в суматошный, непривычный и неприветливый мир городов, где приходилось работать в окружении огромных и шумных, постоянно двигающихся механизмов. До первой мировой войны средний заработок фабричного рабочего или шахтера составлял 1—2 доллара за 9—10 часовой рабочий день. Жить приходилось в перенаселенных ночлежных домах компаний или меблированных комнатах. Поскольку целью первых эмигрантов было накопить несколько сот долларов и поскорее вернуться домой, они ограничивали себя даже в самом необходимом, тратя минимум денег на одежду и еду. Многим, правда, не удавалось преодолеть зов корчмы. В целом украинские эмигранты были экономически самодостаточной и законопослушной группой: в сравнении с другими эмигрантскими общинами они давали наименьший процент людей, нуждавшихся в благотворительности (0,04 %) или обвинявшихся в нарушении закона (0,02 %). В то же время последних среди ирландцев, например, было 4 %, немцев—1,8 %, поляков – 1 %.
Временный характер пребывания первых эмигрантов в США заметно сказывался на их отношении к американскому обществу: они пренебрегали изучением английского языка, мало контактировали с американцами, не стремились к получению американского гражданства, практически не интересовались политической жизнью Америки. В наибольшей степени их интересы были связаны с родиной. Однако с ростом эмиграции приходили перемены. Все больше эмигрантов принимали решение остаться в Америке навсегда. К тому же в больших количествах сюда стали прибывать женщины с Украины, хотя даже в конце 1905 г. они составляли всего 25—30 % эмигрантов. Обычно они устраивались прислугой в семьях украинских или польских евреев. Позднее многие находили работу на швейных фабриках. С образованием семей, приездом в США к мужьям и отцам их жен и детей жизнь украинских общин вошла в нормальную колею.

Направления украинской эмиграции
Наиболее предприимчивые эмигранты налаживали внутри общин систему сервиса, открывая небольшие бакалейные и мясные магазины, меблированные комнаты. Наиболее прибыльным делом стало содержание питейных заведений – их владельцы числились среди богатейших и влиятельнейших членов общин. Однако в целом украинцы из всего многообразия возможностей для заработка выбирали ручной труд. Это и не удивительно, поскольку никаких иных навыков большинство из них не имели. Например, в 1905 г., на пике эмиграции, когда в США прибыли 14,5 тыс. украинцев, только семеро из них имели высшее образование (четверо были священниками), 200 были квалифицированными рабочими и ремесленниками, остальные – крестьянами и неквалифицированными рабочими. Очень немногие занимались фермерством, требовавшим больших вложений труда и капиталов. Исключение составляли только штундисты – протестантская секта, прибывшая из Восточной Украины в 1890-е годы и расселившаяся в Вирджинии и Северной Дакоте.
Довольно сложно установить точную численность украинцев в Соединенных Штатах перед первой мировой войной. Подсчеты осложняет то обстоятельство, что часть эмигрантов неоднократно совершала поездки между старой и новой родиной. Поскольку многие украинцы не имели образования, а уровень их национального самосознания был низким, американские иммиграционные службы и переписчики часто регистрировали их по названию государств, откуда они прибывали,– австрийцами или венграми. Некоторые отождествляли себя с более известными и устоявшимися группами, например со словаками. Кроме того, поскольку традиционным названием западных украинцев было русины, их часто называли русскими, не особенно вникая в разницу. В любом случае большинство подсчетов сходится в том, что общее количество украинцев в Соединенных Штатах к 1914 г. составляло 250—300 тыс. человек. Приблизительно половина из них была лемками и закарпатцами, прибывшими в 1880—90-е годы, другая половина состояла из галичан, в значительных количествах начавших приезжать в следующее десятилетие. Вместе взятые они представляли каплю в 25-миллионном море эмигрантов, прибывших в США в 1861 —1914 гг. со всего света.
Религиозная жизнь эмигрантов. В украинском селе центром духовной и общественной жизни всегда была церковь. Все главные события крестьянской жизни – крещение, свадьба, похороны, большинство праздников – напрямую связывались с религией. Прибыв в США, украинцы остро ощущали отсутствие своей церкви, без которой жизнь казалась им бессодержательной, монотонной и серой. Поэтому первыми формами организации общественной жизни украинских эмигрантов стали церкви и парафин.
В 1884 г. служить Богу и братьям по вере в Пенсильванию прибыл энергичный священник из Галичины отец Иван Воля некий. За год он построил в городке Шенандо первую украинскую церковь. Он также содействовал созданию еще нескольких парафий в Центральной Пенсильвании. Вскоре к нему в растущих количествах стали присоединяться священники из Галичины и Закарпатья. В конце XIX – начале XX в. по украинской общине прокатилась волна строительства церквей и создания парафий. В 1907 г. это заставило Ватикан образовать соответствующую епархию в Филадельфии, назначив первым епископом галицкого монаха Сотера Ортынского. К 1913 г. греко-католическая епархия в Америке насчитывала 152 парафин, 154 священника и около 500 тыс. прихожан.
Церкви были не только центрами общественной жизни, но и ареной острых конфликтов, возникавших уже на американской почве. Для первых эмигрантов «церковная политика» была действительно единственным видом политики, в которой они могли и хотели участвовать. Главной проблемой, обострившейся как раз перед назначением Ортынского, были натянутые отношения между эмигрантами греко-католиками и иерархией римо-католической церкви, почти сплошь состоявшей из ирландцев. Игнорируя специфику греко-католической обрядности и презрительно относясь ко всем восточным европейцам, римо-католические епископы нередко усложняли им жизнь. Со своей стороны греко-католические парафин отказывались предоставлять свои новые церкви римо-католическим епископам для отправления служб. Последствием этого были долгие церковные тяжбы, насильные изгнания прихожан из церквей силами полиции, волнения местного масштаба и дальнейшее углубление нездоровых отношений с обеих сторон.
Греко-католические священники имели дополнительный повод к недовольству римо-католической иерархией. Поскольку римо-католическим священникам в отличие от греко-католических не разрешалось жениться, епископы не признавали женатых священников законными пастырями. Как показывает случай с Алексисом Тофом, противоречивый вопрос о целибате (безбрачии) вскоре сказался как на греко-, так и на римо-католиках в Америке.
Всеми уважаемый профессор теологии из-Закарпатья, священник, вдовец, Тоф в 1889 г. приехал в Миннеаполис, чтобы стать пастором в местной греко-католической парафин. Однако, поскольку он когда-то был женат, римо-католический епископ не утвердил его назначение и отлучил от церкви. Не добившись восстановления и убедившись, что древние византийские традиции их вероисповедания, в свое время признанные Римом, проигнорированы, Тоф и 365 его прихожан в 1891 г. предприняли решительный шаг—перешли в православие. В последовавшие десятилетия десятки тысяч лемков, закарпатцев и галичан, поощряемые хорошо обеспеченной русской православной миссией в Америке, перешли в православную церковь, а Алексис Тоф стал известен как «отец православия» в этой стране.
Переход под эгиду православия имел серьезные национально-этнические последствия для украинско-русинских эмигрантов. Поскольку многие происходили из слаборазвитых, изолированных районов Украины вроде Закарпатья, они в целом не отличались чувством украинского национального самосознания. Как и в Старом Свете, в среде их духовенства доминировало русофильство. В результате, когда необразованные русины переходили в русскую православную церковь Соединенных Штатов, ее иерархи обычно успешно убеждали их, что они – русские. Сейчас, когда вопрос этнического происхождения стал более весомым, американизированные наследники этих псевдорусских часто не в состоянии объяснить, почему их «русские корни» прорастают в украинских землях.
Галицко-закарпатский раскол. Еще один конфликт возник в церковной жизни по поводу раскола между закарпатцами и галичанами. Закарпатье, пребывавшее под владычеством Венгрии до 1918 г., позже всех других западноукраинских территорий подпало под влияние галицкого украинского национального движения. Первое время эмигранты, прибывавшие из Закарпатья, и присоединившиеся к ним позднее галичане создавали общие церкви и единые общины, поскольку их объединяли язык, обычаи, греко-католическое вероисповедание и традиционное «русинское» самосознание. Однако постепенно среди их духовенства назревали противоречия.
Поначалу яблоком раздора стала борьба за более выгодные парафин. Затем масла в огонь добавило назначение епископом галичанина Ортынского, что возмутило закарпатское духовенство, развернувшего враждебную кампанию против него и галичан в целом. Стремясь отвратить своих прихожан от Ортынского, закарпатское духовенство всячески преувеличивало различия между закарпатцами и галичанами. Поскольку их соперниками были национально активные украинцы, главным объектом нападок стало украинское национальное движение. Ортынского и галичан обвиняли в том, что их больше волнуют не религиозные, а национальные проблемы. Их выставляли предателями русинских традиций, поскольку они называли себя по-новому – украинцами. Более того, консервативное и кастовое закарпатское духовенство предостерегало своих прихожан, что галицкие священники, как правило, принимающие участие в общественной жизни, являются безбожниками и социалистами-радикалами.
Со своей стороны, галицкие священники обвиняли закарпатских коллег в мадьярофильстве, в склонности больше заботиться о венгерских интересах, чем о нуждах своего народа. И в самом деле: закарпатское духовенство в домашнем употреблении пользовалось венгерским языком, нередко он звучал и на богослужениях. Некоторые продолжали получать деньги от будапештского правительства даже после переезда в США. Многие открыто сотрудничали с венгерским правительством, пытаясь предотвратить распространение украинского национального самосознания среди закарпатских эмигрантов. В США – так же, как и в Старом Свете,– в основу этой подрывной работы была положена идея о том, что русины являются отдельной от галичан нацией.
Не добившись назначения епископа из своих радов, закарпатское духовенство потребовало от Ватикана создания еще одной греко-католической епархии. Они утверждали, что «не успокоятся, пока будут в церковном единстве с галицкими украинцами», поскольку «под вывеской католицизма их превращают в рабов украинства». Намереваясь устранить причину раздора, Ватикан удовлетворил их требования. В 1916 г. он создал отдельную епархию с центром в Питтсбурге, найдя для нее название Византийской русинской католической церкви. В 1924 г. она состояла из 155 церквей, 129 священников и 290 тыс. прихожан. Тем временем филадельфийская епархия стала базой Украинской католической церкви, насчитывавшей 144 церкви, 129 священников и около 240 тыс. прихожан. Таким образом, закарпатско-галицкий раскол был узаконен и приобрел организационные формы.
Десятилетия спустя после раскола закарпатская церковь все еще пребывала в нерешительности по поводу того, какую национальную ориентацию ей избрать. Не найдя выхода, она решила вообще обойти эту проблему. В результате ныне она утратила национальное лицо и пытается трактовать своих верующих в основном как приверженцев греко-католического (византийского) обряда. Однако последствия острого закарпатско-галицкого раздора почти столетней давности ощущаются и сейчас: в то время как население Закарпатья считает себя украинцами, их далекие собратья в США по-прежнему подчеркивают, что являются «кем угодно, только не украинцами».
В результате этих религиозных междоусобиц около 20 % первых эмигрантов из Западной Украины называли себя православными «русскими», еще 40 % – греко-византийскими католиками – русинами, оставшиеся 40 % – украинскими греко-католиками.
Братства. Основав свои церкви, украинские эмигранты столкнулись с необходимостью создания общественных организаций, предназначенных для удовлетворения их каждодневных практических нужд. Первоочередной задачей стало создание хотя бы минимальной социальной защиты. Работа на шахтах и фабриках была изнурительной и небезопасной, рабочий день – чрезмерно долгим, а зарплата по американским понятиям – очень низкой. Распространенным явлением были несчастные случаи, травмы и профессиональные заболевания. К тому же ни компании, ни правительство не заботились о потерявших трудоспособность и их семьях. Поэтому среди эмигрантов стали возникать общества взаимопомощи – братства.
За скромные ежемесячные взносы эти объединения обеспечивали страхование на случай заболевания, потери трудоспособности или смерти. Кроме того, по мере роста капиталов и увеличения членства они стали заботиться и об удовлетворении культурных и образовательных запросов своих членов. Эмигранты тянулись к братствам не только из социально-экономических соображений: здесь собирались вместе «свои люди», говорящие на родном языке. В отличие от церквей братства не были связаны со Старым Светом – они были порождением новых условий жизни эмигрантов в США.
Первое украинское братское общество взаимопомощи в Америке организовал в 1885 г. святой отец Волянский. Главной целью этого общества, состоявшего из нескольких десятков человек, был сбор средств на похороны умерших товарищей. Когда Волянский уехал в Галичину, братство распалось. Впоследствии такие же общества возникли по всей Пенсильвании. В 1892 г. был образован «Союз греко-католицьких русинських братств», довольно скоро выросший до значительных размеров. Однако он сразу же попал под влияние провенгерского закарпатского духовенства и занял враждебную позицию по отношению к национально сознательным украинцам.
С инициативой основания чисто украинского братского общества взаимопомощи выступила группа из восьми молодых и энергичных священников из Галичины, известная как «Американський гурток». Преисполненные деятельным духом галицкой интеллигенции, они стали организационным ядром борьбы греко-католической церкви за свою автономию. В 1894 г. два члена кружка – Иван Константинович и Григорий Грушка – основали братское общество взаимопомощи – «Руський народний союз» с центром в Джерси-Сити. В 1915 г. эта организация переименовалась в «Український народний союз». В наши дни, насчитывая около 85 тыс. членов, он является крупнейшей и богатейшей светской общественной организацией украинцев за пределами родины.
Во время первой мировой войны украинская эмиграция в Америке заметно политизировалась. В 1914 г. две основные организации: «Федерація українців Сполучених Штатів» и их конкурент – «Український альянс Америки» – собрали для своих соотечественников – военных беженцев значительные суммы денег. Позднее, в 1919 г., «Український народний союз» тесно сотрудничал с различными украинскими национальными правительствами, публикуя на английском языке материалы по украинскому вопросу. Он также всеми силами старался убедить Белый дом и конгресс США признать украинскую независимость.
Эмиграция в Бразилию. Первое время Бразилия казалась украинцам наиболее привлекательным местом. В 1895 г., когда в Галичине появились агенты итальянских пароходных компаний, сулившие дешевые и плодородные земли в Бразилии, началась настоящая «бразильская лихорадка». В путь тронулись около 15 тыс. безземельных крестьян, имевших самое смутное представление о том, что за страна Бразилия и где она находится. Однако, прибыв сюда, вместо обещанного чернозема они получили наделы в непроходимых джунглях в окрестностях Прудентополиса, штат Парана.