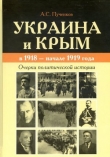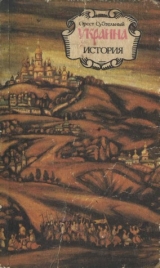
Текст книги "Украина: история"
Автор книги: Орест Субтельный
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 62 страниц)
Левобережье из-за своей близости к России все это время оставалось в сфере влияния Москвы. В годы хаоса – 60-е и 70-е – смертоносные вторжения турецких, татарских, польских и российских армий, ставшие проклятием некогда цветущего Правобережья, значительно реже обрушивались на левый берег Днепра. Но и Левобережье познало отпущенную ему меру смертей и разрухи. Причиной тому были, однако, не столько набеги иноземцев, сколько непрекращающиеся выступления масс против собственной старшины.
Внутренняя борьба разгорелась вскоре после первого гетманства Юрия Хмельницкого. Яков Сомко, происходивший из семьи богатых мещан, откровенный сторонник старшинского элитаризма, объединился со своим недавним соперником, нежинским полковником Василем Золотаренко, дабы обеспечить избрание последнего гетманом и таким образом создать условия для господства старшины. Но против фракции Сомко – Золотаренко выступил Иван Брюховецкий – выходец из низших слоев и большой демагог. Это последнее качество обеспечило Брюховецкому избрание запорожским атаманом. А Москва, как обычно, натравила одну фракцию на другую. На сей раз царь благоволил Брюховецкому, ибо подозревал старшину в пропольских настроениях. И потому в июне 1663 г. московские вельможи одобрительно наблюдали за тем, как развивались события на так называемой «Черной раде» – шумном сборище казацкой черни, которая при поддержке городской голытьбы и крестьян избрала гетманом Брюховецкого, силой разогнав сторонников Сомко и Золотаренко (впоследствии новый гетман казнил их обоих).
Иван Брюховецкий (гетман с 1663 по 1668 г.). Полностью завися от Москвы, Брюховецкий делал ей одну уступку за другой. Он с готовностью подтвердил Переяславский договор в редакции 1659 г. и к тому же предложил на собственный счет содержать российские гарнизоны в Украине.
В 1665 г., выразив желание «предстать пред ясны очи» царя, Брюховецкий с почетным караулом из 500 казаков отправился в Москву. Это был первый гетман, нанесший визит царю. Москва встречала его с почетом: он был пожалован в бояре и женим на боярышне. Очарованный царским приемом, Брюховецкий подписал новое соглашение, в очередной раз урезавшее права и вольности Украины. Почти все главные украинские города передавались в прямое подчинение Москвы. Царским чиновникам разрешалось собирать налоги с украинских крестьян и мещан. И даже киевский митрополит должен был отныне назначаться Москвой. Более того, соглашение предусматривало, что и выборы самого гетмана могут проводиться лишь в присутствии официальных представителей царя, и каждый новый гетман отныне должен был отправляться за утверждением в должности в Москву.
Брюховецкий дорого поплатился за свое пренебрежение интересами Украины, лишь только его московские друзья взялись за дело. Московские гарнизоны быстро почувствовали себя хозяевами в украинских городах. Царь устроил в Украине перепись населения, и переписчики грубо вмешивались в личную жизнь людей. А самодовольные сборщики налогов обложили население такой непомерной данью, что оно кляло на чем свет и Москву, и особенно своего гетмана, накликавшего всех этих захребетников. Даже некоторые церковные иерархи, ранее приветствовавшие промосковский курс, теперь открыто протестовали против него. Впрочем, неизвестно, сколько бы еще терпели украинцы издевательства Брюховецкого и Москвы, если бы в 1667 г. чашу их терпения не переполнил Андрусовский договор.
Украинцев Левобережья, как и их соотечественников на правом берегу Днепра, больше всего потрясло и оскорбило то, что царь, обещавший Украине защиту от поляков, просто так взял и отдал половину ее ненавистной шляхте. И в 1667– 1668 гг. по всему Левобережью прокатилась волна выступлений против царских гарнизонов и их украинских прихвостней. Брюховецкий, осознав, что слишком далеко зашел в своей промосковской политике, издает ряд универсалов, в которых распинается в любви к «неньці-Україні». Он даже тайно сносится с Дорошенко, предлагая тому антимосковский союз. Но было слишком поздно. Лишь только полки Дорошенко вступили на левый берег Днепра, Брюховецкий был растерзан той самой темной и яростной толпой, что всего пять лет тому назад возвела его в гетманское достоинство.
Демьян Многогришный (1668—1672). Этот черниговский полковник был назначен наказным гетманом Левобережья самим Дорошенко, вынужденным под давлением поляков возвращаться на правый берег. «Человек неученый и простой», Многогришный умел заставить подчиняться даже тех своих подданных, у которых отнюдь не вызывал восторга. Когда звезда его формального начальника, Дорошенко, стала клониться к закату, Многогришный забыл и думать о разрыве с Москвой и вместо этого заново присягнул царю. В награду царь признал его законным гетманом Левобережья.
Однако тот факт, что именно Многогришный восстановил связи с Москвой, вовсе еще не означал, что он намеревался, уподобившись Брюховецкому, стать марионеткой в царских руках. С типичной для него грубоватой прямолинейностью Многогришный уведомил россиян о недовольстве украинцев размещением московских гарнизонов и потребовал их убрать. Царь в ответ предложил компромиссное решение: оставить гарнизоны лишь в пяти больших городах. Касательно же Киева Многогришный тонко намекнул, что его, как, впрочем, и все другие украинские города, царь не завоевывал, а «принял под свою высокую руку» согласно добровольному желанию Войска Запорожского, а потому не вправе «уступить» его полякам. Несмотря на грозный тон, который усвоил себе в разговорах с Москвой Многогришный, ответная реакция в основном была примирительной. Очевидно, бесславный конец Брюховецкого, при котором московиты позволяли себе слишком много, послужил им хорошим уроком. Умело затушевывая свое присутствие на левом берегу Днепра, Москва намеревалась теперь выставить себя в выгодном свете по сравнению с политически неуклюжими поляками, чьи непрерывные карательные акции на Правобережье лишь усиливали ненависть и сопротивление украинцев.
Частично вернув утраченную его предшественником автономию, Многогришный не без помощи наемников-«компанийцев» принялся восстанавливать на Левобережье закон и порядок. Однако недостаток такта и упрямое нежелание ладить со старшиной погубили гетмана. Против него возник заговор казацкой элиты, причем заговорщики в своих доносах царю обвиняли в тайных замыслах самого Многогришного: он-де состоит в секретной переписке с Дорошенко и хочет переметнуться под власть Турции. Наконец в 1673 г. старшина добилась своего. Собственно, и сам царь был не прочь избавиться от неудобного гетмана. Увидев, что тот теряет поддержку, он приказал схватить его, пытать и сослать в Сибирь.
Иван Самойлович (1672—1687). Если избрание Брюховецкого отражало конфликт между массами и старшиной, то свержение Многогришного свидетельствовало о внутренних противоречиях в самой казацкой верхушке – между старшиной и гетманами.
В принципе не ожидая ничего хорошего от сильной гетманской власти, старшина около трех месяцев оттягивала выборы преемника Многогришного – а тем временем обратилась к царю с предложением ограничить гетманские прерогативы. Царь только этого и ждал.
Таким образом, когда, наконец, в 1672 г. гетманом был избран Иван Самойлович, он уже не имел права судить и карать представителей старшины, а также вступать в какие-либо внешнеполитические связи без согласия на то старшинской рады. Более того, нового гетмана сразу же заставили распустить те наемные части, которые по традиции находились в его непосредственном подчинении. Навязывая гетману все эти реформы, старшина расширяла свою и без того огромную власть – ценой подрыва гетманской власти, т. е. украинской автономии.
Самойлович был сыном священника, с блеском закончил Могилянскую коллегию и вступил в Запорожское Войско. Став гетманом и учтя опыт своих предшественников, он постарался ни разу не испортить отношения со старшиной. Последнюю он щедро наделял землями, всячески поощряя в ней элитаристские стремления – вплоть до создания при гетмане специальной гвардии из младших офицеров – так называемых «значкових військових товаришів» (в основном сыновей казацкой элиты), выполнявших особые поручения и готовившихся со временем сменить отцов на высоких постах. Таким образом и на Левобережье постепенно появлялись старшинские династии.
Во внешнеполитических делах главным стремлением Самойловича, как и предыдущих гетманов, было распространить свою власть на всю Украину. Он усилил контроль над мятежным Запорожьем, а в 1676 г. храбро повел свои полки на Правобережье и в союзе с царской армией вступил в отчаянную схватку с турками и Дорошенко. По-видимому, счастливейшим днем в жизни Самойловича был тот, когда Дорошенко торжественно сложил пред ним булаву. С этого дня Самойлович становился «гетьманом обох берегів Дніпра». Но и двух лет не прошло, как турки снова вытеснили Самойловича и его российских союзников с Правобережья. Оставляя эти земли, Самойлович организовал массовый исход населения с правого берега на левый. Таким образом, прародина казачества практически опустела.
Новый удар по надеждам Самойловича на воссоединение Правобережья с Левобережьем был нанесен так называемым «Вечным миром», который в 1686 г. подписали Россия и Польша. По этому договору Киев и Запорожье «навечно» передавались царю, а все оставшееся Правобережье и Восточная Галичина (Русское воеводство), несмотря на протесты гетмана, были оставлены Польше. Разочарованный политикой Москвы, Самойлович в 1687 г. весьма неохотно присоединился к грандиозному походу московитов на татар. И хотя в этом походе участвовало более 100 тыс. российских солдат и около 50 тыс. казаков, из-за плохой подготовки наступления и тяжелых природных условий война с татарами, стоившая россиянам и украинцам десятков тысяч жизней, была полностью проиграна. У гетмана, на которого командующие царской армией взвалили всю вину за поражение, нашлись враги и среди собственной, столь им, казалось бы, лелеемой старшины, обвинившие его в незаконном обогащении. В результате всех этих происков в том же 1687 году Самойлович оказался не только в отставке, но и в Сибири.
Раздел УкраиныКак бы ни складывались исторические судьбы украинцев до 1648 г., в их жизни в Речи Посполитой был по крайней мере один положительный момент: почти всех их, украинцев, она собрала под одной «политической крышей». Но в эпоху Руины Польше пришлось разделить мятежную Украину с Россией – и с той поры должно было пройти почти 300 лет, прежде чем политическое единство Украины было восстановлено.
В результате раздела возникли существенные отличия как между украинцами, живущими в российской и польской сферах влияния, так и внутри этих сфер. К концу XVII в. население Украины составляло около 4 млн человек, и каждый из ее регионов имел свои местные особенности, прежде всего административно-политического характера.
Под властью РоссииЛевобережье (Гетманщина). Территория Левобережья была освоена незадолго до восстания 1648 г. и ко времени самого восстания оставалась малонаселенной. Но после 1648 г. жизнь Левобережья круто меняется. К 1700 г. население его составляло уже 1,2 млн человек. Благодаря сохранению в этом регионе независимой и хорошо организованной системы казацкого управления и массовому притоку беженцев из Правобережья сюда к этому времени фактически переместился центр политической и культурной жизни Украины.
В украинской историографии этот регион часто называют Гетманщиной. Ввиду его особого исторического значения он будет рассмотрен в отдельной главе.
Земли запорожцев. Некогда центр вольного казачества, Запорожская Сечь утрачивала свою особую роль по мере того как казацкий уклад и власть гетманов стали устанавливаться по всей Украине. К концу XVII в. Сечь перестала быть авансценой главных политических, религиозных и общественных событий, а запорожцы постепенно стали возвращаться к своим местным делам и заботам.
В редкие годы Запорожье, этот островок казацкого братства, насчитывало больше 10 тыс. жителей. Зато «домом» запорожцу была вся широкая безлюдная степь – от Гетманщины на севере до Крымского ханства на юге. Формально земли запорожцев с 1667 г. находились под совместным польско-российским протекторатом, а с 1686 г. полностью перешли под власть царя. Что до гетманов Левобережья, то они всегда считали Сечь своей территорией, хотя сами запорожцы всегда готовы были дать отпор не только гетманам, но любой державе, которой вздумалось бы показать здесь свою власть. Вплоть до самого конца XVII в. они продолжали свои набеги на территорию Крымского ханства и Оттоманской Порты, что, впрочем, не мешало им время от времени без лишней щепетильности вступать в союз с мусульманами против гетмана, короля или царя. Классический запорожский атаман той эпохи Иван Сирко, заводила и душа всех отчаянных вылазок против турок и татар (чем, собственно, и прославился), в то же время проявлял типичную для запорожцев неразборчивость в высокой политике, игнорируя (и тем самым еще более запутывая) те проблемы, что стояли перед украинским обществом в целом.
Большие изменения произошли и в социально-экономической жизни Запорожской Сечи. Военная добыча или плата за военную службу уже не были главными источниками существования запорожских казаков. Многие из них были заняты рыболовецким или охотничьим промыслом, пчеловодством и другими мирными делами. На Сечи развиваются ремесла (запорожцы славились как кузнецы, а лодки-«чайки», которые они сами себе мастерили, вдоль и поперек избороздили Черное море), запорожцы деятельно участвуют в торговле между Севером и Югом.
Не миновало Запорожье и разделение на бедных и богатых со всеми вытекающими отсюда последствиями. Кое-кто из запорожской старшины получил земельные владения в пределах Гетманщины или даже по соседству с Сечью. Впрочем, если где еще и сохранялись древние казацкие обычаи и дух казацкого братства, так это именно на Сечи. И по-прежнему Сечь оставалась притягательной и гостеприимной для всех, кого не устраивала жизнь севернее днепровских порогов, а запорожцы пользовались всенародной любовью украинцев, в особенности нижних слоев общества.
Слободская Украина. Эта обширная территория к востоку от Полтавы, вокруг того места, где теперь расположен Харьков, формально всегда находилась в пределах российских границ. Но долгое время земля эта была практически безлюдной: открытая всем ветрам, она оказалась беззащитной перед лицом татарских набегов. Вот почему царское правительство охотно позволяло селиться здесь беженцам с Украины, раздираемой непрекращающимися распрями. В середине XVII в. украинским беженцам не только было разрешено осесть в этих землях, но им была предоставлена автономия, которой они и воспользовались, устроив свое самоуправляемое общество по казацкому образцу.
К концу XVII в. украинское мужское население Слобожанщини составляло 86 тыс. человек, из которых 22 тыс. были приписаны к казацким полкам. Подобно соседнему Левобережью, Слобожанщина была разделена на полки, названные по пяти основным городам,– Харьковский, Сумской, Ахтырский, Острогожский, Изюмский. Слободские полковники, в отличие от левобережных, избирались пожизненно. Москва, однако, пристально следила за тем, чтобы украинские казаки в пределах ее границ не избрали себе единого гетмана и не создали, таким образом, столь же сильный, единый политический организм, какой они создали в пределах Речи Посполитой. Вместо этого царь сам назначал им воеводу. Резиденция воеводы находилась в Белгороде. В его обязанности входило присматривать за действиями казаков, не давая им выйти за установленные рамки. Каждый из пяти казацких полковников находился в прямом подчинении воеводы и общался с ним отдельно, не имея никаких общих дел с остальными четырьмя полками. Таким образом, хотя украинское население Слобожанщины постоянно росло, самостоятельной политической роли она не играла.
Под властью ПольшиПравобережье. Киевщина, Брацлавщина, Волынь и Подолье больше всего страдали и в годы Великого восстания, и в эпоху Руины, подвергаясь непрекращающимся польским, российским, турецким и татарским вторжениям. В конце 1670-х годов, после опустошительных боев за Чигирин и массовой эвакуации, организованной Самойловичем, на всем Правобережье почти не осталось жителей. Но едва в начале 1680-х годов бои стали утихать, как поляки, не теряя времени, начали организовывать новое заселение края. Понимая, что для достижения этой цели проще всего разрешить казакам вернуться на их земли, Речь Посполита в 1685 г. формально восстановила на Правобережье казачество с традиционными для него формами самоуправления. Фактически же поселенцы-казаки вновь появились в этих местах несколькими годами раньше.
Таким образом, вскоре край вновь был заселен украинскими казаками и крестьянами, многие из которых вернулись в родные места с Левобережья. Движение колонистов организовали и возглавили казацкие полковники Семен Палий, Самийло Самусь и Захар Искра. Полковые округа были устроены вокруг Фастова, Богуслава, Корсуня и Брацлава. Поляки, как и прежде, использовали казаков в своих войнах. Например, в знаменитую победу над турками в 1683 г. под стенами Вены внесли свой вклад 5 тыс. украинских казаков, сражавшихся в войске короля Яна III Собеского. Заметим, что это было за два года до того как польский сейм дал официальную санкцию на восстановление казачества (в следующем, 1684, году число казаков удвоилось и составляло уже 10 тыс.).
Но лишь только казаки и крестьяне стали вновь понемногу заселять Правобережье, сюда же начала возвращаться и польская шляхта. История «вечного» противостояния, однажды уже разразившегося Великим восстанием, пошла по новому кругу...
Западноукраинские земли. Галичина и Волынское Полесье, или Русское и Белзское воеводства, к тому времени представляли собой густонаселенный край. Издавна его прибрала к рукам польская шляхта.
Находясь вдали от южных степных границ Речи Посполитой, эти земли никогда не знали такого «пограничного» явления, как казачество. Некому было защитить крестьян от шляхты, и потому в этих местах гнет ее был особенно тяжел и страшен.
В то же время и культурное влияние близкой Польши сказывалось в западных землях, как нигде в Украине, и, как нигде, глубокие корни пустила здесь греко-католическая церковь. Сплошь полонизированное местное дворянство не выказывало ни малейшего интереса к политическим притязаниям украинцев. Даже тогда, когда восставшие массы во главе с Богданом Хмельницким проникли далеко в глубь Галичины (а он, как и другие гетманы, претендовал на все те земли, где говорят по-украински), поляки не имели особых хлопот с наведением порядка в западных регионах, часто используя их как плацдарм для карательных операций против казаков.
Некоторая часть западной территории Украины к этому времени находилась во владении других соседних стран. Оттоманская Порта в 1672 г. оккупировала большую часть Подолья, вновь уступив его полякам лишь в 1699 г., однако Северная Буковина и после этого досталась туркам. А украинское население западных склонов Карпат, как и в предыдущие столетия, оставалось под властью Венгрии.
Культурная жизньНесмотря на все бедствия и разрушения во времена Великого восстания и Руины, духовная культура в Украине не только продолжала развиваться, но и вовлекала в свою орбиту все более широкие слои населения.
Сирийский христианин-араб Павел Алеппский, проезжая в 1655 г. через Украину по пути в Москву, свидетельствовал, что даже украинские крестьяне умели читать и писать, а сельские священники считали своей обязанностью собирать и обучать сирот, «не позволяя им слоняться по улицам, как бродягам».
Многие сельские общины нанимали себе учителей из выпускников братских школ, а странствующие бакалавры («бакаляри») Киево-Могилянской коллегии часто состояли воспитателями детей в богатых семьях. Эта коллегия, в 1701 г. получившая статус академии, и ее филиалы в Виннице на Подолье и в Гоще на Волыни даже в худшие времена продолжали нести свет разума и просвещения. За первые десятилетия после реформ Петра Могилы в основанном им высшем учебном заведении сформировалась стройная концепция 12-летнего обучения. Те студенты, которым удавалось пройти все ступени столь долгого и нелегкого пути в науку, свободно овладевали латынью, древнегреческим и церковнославянским, поэтическим мастерством и ораторским искусством – и, наконец, на высшей ступени,– философией и теологией. Кроме того, здесь обучали астрономии, географии и математике, что отражало растущий интерес к этим наукам.
Большинство студентов академии были сыновьями богатых мещан и казацкой старшины, хотя нередко здесь можно было встретить сыновей простых казаков и даже крестьян. Не отказались в Украине и от прежней практики обучения молодежи в западноевропейских университетах, и даже под властью России левобережные украинцы умудрялись сохранять тесные связи с европейской, прежде всего польской, культурой. Эту открытость украинцев в отношениях с иностранцами также отмечал Павел Алеппский, говоря о том, что повсюду в Украине он и его спутники встречали самый дружелюбный прием, нигде не ощущая себя «чужаками», в то время как в России он не видел «радости и свободы» и чувствовал себя так, будто на сердце ему «повесили замок».
Киевская академия собрала вокруг себя известную всему православному миру культурную элиту. Среди ее преподавателей были выдающийся церковный деятель и писатель Лазарь Баранович, ученый-эрудит немецкого происхождения Иннокентий Гизель, страстный полемист Иоанникий Галятовский. Многие произведения этих авторов имели достаточно широкую читательскую аудиторию. Особенно популярен был «Синопсис» Гизеля, посвященный древнейшей украинской и российской истории и проникнутый духом не только православия, но и московского самодержавия. «Синопсис» увидел свет в 1674 г. и в течение 150 лет выдержал 12 изданий. Киевские ученые, по преимуществу принадлежавшие к духовному сословию, все главные жизненные вопросы рассматривали с точки зрения церкви. В их книгах преобладают антикатолические и антиуниатские темы, а излюбленной политической идеей было объединение христианских народов для борьбы с «проклятыми бусурманами». Писали они вычурным барочным стилем, пользуя древний и неизменный книжный язык – церковнославянский, далекий от разговорного украинского языка той эпохи. «Простой» язык считался неприспособленным для научных занятий и недопустимым в ученых трудах.
Однако той же самой второй половиной XVII в. предположительно датируются и некоторые памятники светской литературы, авторы которых широко применяли местное наречие и трактовали более конкретные предметы. Так, например, «Літопис Самовидця», приписываемый некоему Роману Ракушке-Романовскому, представителю казацкой старшины, повествует о событиях 1648—1657 гг.
Вообще к концу XVII в. книга в Украине перестает быть редкостью. Невзирая на военные бедствия и смуту, в стране продолжают существовать 13 типографий (девять украинских, три польские, одна еврейская). Больше всего книг печаталось в Киеве, Новгороде-Сиверском и Чернигове. Из 20 книг, изданных, например, в Новгороде-Сиверском, 15 принадлежали украинским авторам. А тираж учебников для начальных школ, выпущенных в одном только 1679 г., составлял 6 тыс. экземпляров.