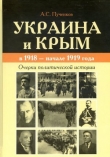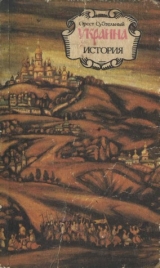
Текст книги "Украина: история"
Автор книги: Орест Субтельный
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 37 (всего у книги 62 страниц)
Часть пятая. УКРАИНА В XX СТОЛЕТИИ
18. ВОЙНА И РЕВОЛЮЦИЯ
Первая мировая война стала для Европы первым глобальным потрясением, ужасающим опытом ведения массовых боевых действий новейшими средствами, настоящей человеческой бойней. Колоссальные масштабы этого конфликта отражают такие факты: 34 страны, постепенно втянувшиеся в войну, мобилизовали 65 млн солдат, из которых 10 млн погибли и 20 млн были ранены и покалечены. Потери гражданского населения приближались к военным. Война была не просто массовой, она приобрела тотальный характер, подчинив своим интересам всю экономику воюющих сторон. Неимоверное напряжение сил на фронтах и в тылу, рост потерь и разрушений не только выявили, но и усугубили очевидную дряхлость старого, отжившего свое имперского порядка в Европе. Последствия не замедлили сказаться: для Германии, Оттоманской и Австро-Венгерской империй, создавших блок Центральных держав, и для Российской империи, вместе с Великобританией, Францией и Соединенными Штатами Америки входившей в Антанту, война в конечном итоге превратилась в способ саморазрушения.
Первой, не выдержав тяжести войны, распалась Российская империя. Как и следовало ожидать, ее предсмертные конвульсии сопровождались стремительным оживлением разнородных российских партий, давних противниц царизма. Пользуясь моментом, они торопились навязать дезориентированному обществу свои варианты нового социально-экономического и политического устройства. Однако намного более неожиданным стало то, что нерусские народы империи, ранее казавшиеся вполне смирными и покорными судьбе, вдруг заявили о своем желании самостоятельно устраивать собственное будущее.
Исходя из этого вряд ли можно считать отвечающим истине общепринятый взгляд на революцию 1917 года как на титаническое столкновение классов, особенно когда речь идет об Украине. Здесь вспыхнула украинская революция, по своей природе как национальная, так и социальная.
Украинцы в первой мировой войнеУкраинцы сразу же ощутили на себе всю тяжесть и разрушительное воздействие войны, поскольку им пришлось сражаться по обе стороны фронта. В течение всей войны Галичина была ареной крупнейших, кровопролитнейших схваток на Восточном фронте. Ее населению пришлось не только пережить опустошения, принесенные боями, но и испытать жестокость военной администрации – как российской, так и австрийской сторон.
Война принесла не только физические страдания, она значительно ухудшила и без того тяжелое положение украинцев, лишенных своего государства. Массы украинцев (в российской армии – 3,5 млн, в австрийской – 250 тыс.) сражались и умирали за империи, которые не просто игнорировали их национальные интересы, но еще и всеми силами, как например Россия, стремились задушить их национальные движения. Наихудшим было то, что, воюя за противоположные стороны, украинцы вынуждены были убивать друг друга. Лишь один положительный момент можно отыскать в этой войне: она истощала воюющие империи и таким образом создавала новые политические возможности для их угнетенных подданных. Впрочем, по крайней мере первоначально, эти возможности были довольно призрачными.
Украинцы в Австрии довольно быстро откликнулись на начало военных действий. Уже 3 августа 1914 г. украинские партии основали во Львове «Загальну Українську Раду», которую возглавил пользовавшийся всеобщим уважением депутат парламента Кость Левицкий. Главной целью этой акции было объединение украинцев в едином представительном органе. Заявив, что «победа австро-венгерской монархии будет и нашей победой, и чем большим будет поражение России, тем быстрее пробьет час освобождения Украины», Рада призвала украинцев сражаться за конституционную Австрию (их лучшего друга) против самодержавной России (их злейшего врага). Вслед за этим Рада призвала к формированию национальных воинских частей. На этот клич отозвались свыше 28 тыс. национально сознательных украинцев. Немалую часть добровольцев составили члены молодежных организаций «Січ», «Сокіл» и «Пласт». Встревоженное перспективой создания крупных украинских воинских частей, польское лобби в Вене добилось того, чтобы их численность была ограничена 2,5 тыс. человек. В конце концов было создано лишь одно подразделение – Украинский легион,– впоследствии получившее название «Українських січових стрільців». Оно стало первой украинской регулярной воинской частью в новейшее время. Остальные украинцы, призванные в армию Габсбургов, зачислялись в регулярные австрийские части.

Украина в первой мировой войне
Украинские социалисты – эмигранты из царской России тоже не остались в стороне от событий, создав во Львове политическую организацию, которая взяла на себя роль представителя интересов украинцев, пребывавших под властью царизма. Отличительной, исторически важной чертой этой организации – «Союзу визволення України» (СВУ), возглавляемой Володимиром Дорошенко, Андрием Жуком, Марьяном Меленевским, Олександром Скоропис-Йолтуховским и Миколой Зализняком, следует считать то, что она впервые прямо и недвусмысленно провозгласила своей целью создание независимого украинского государства. Ради достижения этой цели СВУ открыто пошел на сотрудничество с Германией и Австрией против России.
Однако, не успев как следует развернуть свою работу, этим организациям пришлось в прямом смысле слова бежать в Вену: в начале сентября 1914 г. российские армии прорвали австрийскую оборону и заняли большую часть Восточной Галичины. Поражение австрийцев самым печальным образом сказалось на галицких украинцах. Пытаясь найти оправдание своим военным неудачам, австро-венгерское командование стало вдруг необычайно восприимчивым ко мнению местной польской администрации, видевшей корень зла в «предательстве украинцев», подозреваемых в тайных симпатиях к русским и даже сотрудничестве с ними. В результате отступавшие австрийские и особенно венгерские войска с завидным усердием развернули кампанию массового террора против украинцев. Сначала русофилов, а затем и вообще украинцев сотнями арестовывали и казнили без суда и следствия. Тысячами их перегоняли в Австрию, в концентрационные лагеря, среди которых наиболее печальной славой пользовался Талергоф. В кошмарных условиях здесь содержали 30 тыс. русофилов и украинофилов, обреченных вымирать от болезней. Только в 1917 г., когда в венском парламенте разразился скандал, вызванный фактами подобного обращения с австрийскими подданными, этот и другие лагеря были закрыты.
Не менее трагичной была судьба галицких украинцев, оказавшихся под российской оккупацией. Царское правительство сразу же недвусмысленно дало понять, что оно вовсе не считает Восточную Галичину новым или тем более временным приобретением. Наоборот, эта территория упоминалась теперь не иначе как «древняя русская земля», которая наконец «навеки воссоединилась с матушкой-Россией». Развернулась хлопотливая деятельность по материализации мифа о «русском» характере Галичины. Генерал-губернатором края был назначен граф Георгий Бобринский, брат видного русского консерватора, давнего поборника присоединения Галичины. Он немедленно развернул широкие преследования украинского движения, или, как его называли царские чиновники, «мазепинства». Его охотно поддержали русофилы, чьи лидеры – Владимир Дудикевич, Симеон Бандасюк и Юлиян Яворский, ранее бежавшие в Россию, теперь вернулись с победоносными русскими армиями. Русофилы выявляли украинских активистов, доносили на них (подобно тому, как украинофилы несколькими неделями раньше выдавали русофилов австрийцам), после чего последние депортировались в глубь России. Итак, русские преследовали украинофилов, австрийцы – русофилов, а постоянные обращения украинцев, разделенных на непримиримые идеологические лагеря, к третьей силе, усугубляли их и без того незавидное положение.
Распоряжениями царской администрации были закрыты все украинские культурные учреждения, кооперативы, периодические издания. Одновременно с введением ограничений на использование украинского языка предпринимались попытки внедрить в систему образования русский. Греко-католическая церковь, этот символ самобытности западных украинцев, преследовалась с особым усердием. Сотни греко-католических священников депортировались в Россию, их места занимали православные «батюшки», склонявшие крестьян переменить конфессию. Был арестован и сослан в Суздаль митрополит Андрей Шептицкий, в свое время отказавшийся бежать перед лицом российского нашествия. Его гражданская позиция в течение всей войны, полная достоинства и бесстрашия, немало способствовала растущей популярности митрополита.
Российским планам в Галичине не суждено было сбыться полностью. Австрийское контрнаступление в мае 1915 г. позволило Габсбургам вернуть себе большую часть Восточной Галичины. Отступая, царские войска захватили в качестве заложников несколько сотен украинских деятелей, эвакуировали тысячи беженцев, среди них – русофилов, с этого момента окончательно исчезнувших с исторической сцены.
Поведение русских в Восточной Галичине, которое известный либерал Павел Милюков охарактеризовал в Думе как «европейский скандал», было всего лишь логическим продолжением политики царского правительства по отношению к украинскому движению в Российской империи. С началом войны практически все украинские организации и газеты стали объектом преследований. Когда общепризнанный лидер украинского движения Михайло Грушевский в 1916 г. вернулся в Киев, его арестовали и сослали на север России. Министр иностранных дел России Сергей Сазонов с нескрываемым удовлетворением говорил: «Сейчас наилучший момент избавиться от украинского движения раз и навсегда». Впрочем, после катастрофических военных неудач 1915 г. царское правительство несколько утратило самонадеянность и смягчило тон. Очень осторожно, понемногу возобновили свою деятельность в Российской империи украинские кооперативы, книжные магазины, научные общества, некоторые газеты. Оживилось полулегальное «Товариство українських поступовців» (ТУП). Будучи своеобразным координирующим центром украинского движения, ТУП пропагандировало идеи автономии Украины и конституционного строя.
Тем временем по австрийскую сторону фронта – в Вене – западноукраинские политики восстановили свой представительный орган – «Загальну Українську Раду». Бесконечно затянувшаяся война высасывала из Австро-Венгрии все соки, империя слабела, а требования народов^ населявших ее, в том числе украинцев, становились все более смелыми. Так, Рада провозгласила своей целью независимость той части Украины, которая пребывала под властью Российской империи (в случае завоевания ее австрийцами), и широкую автономию для Восточной Галичины и Буковины. Однако в 1916 г., когда Вена посулила полякам значительно большие права и возможности в Галичине, Рада в знак протеста объявила о самороспуске. В дальнейшем интересы западных украинцев представлял Украинский парламентский клуб в Вене, возглавляемый Евгеном Петрушевичем.
Пользуясь материальной поддержкой Австрии и Германии, продолжали свою деятельность в Вене и эмигранты из Восточной Украины, объединенные в СВУ. Имея своих представителей во многих европейских столицах, СВУ пытался пропагандировать идею независимости Украины. Здесь его успехи были невелики, зато неустанная работа среди тысяч украинских военнопленных (около 50 тыс. украинцев было сосредоточено в отдельных концлагерях) не только способствовала росту их национального самосознания, но и дала реальный результат: были сформированы дивизии так называемых «Сірожупанників» и «Синьожупанників», впоследствии сражавшихся за Украину. Итак, по мере того как война затягивалась, становилось все более очевидным, что украинцы, как, впрочем, и другие народы, менее всего озабочены судьбой империй, под властью которых они пребывали веками, и, наоборот, становятся решительными в защите собственных интересов.
К 1917 г. воюющие стороны достигли предела возможностей. В России же, где тяготы военного времени усугублялись слабостью и просчетами неповоротливого, коррумпированного, отсталого режима Николая II, напряженность была особенно острой. Из всех участников войны Россия понесла наитягчайшие потери – свыше 8 млн убитыми, ранеными и пленными. Довольно часто эти утраты были результатом грубых просчетов и бездарности командования, назначенного царем. Атмосфера накалялась и тем, что из-за невиданной коррупции и некомпетентности российской бюрократии и промышленников сотни тысяч солдат отправлялись на фронт без оружия и обмундирования. Недовольство опостылевшей войной и постоянными неудачами правительства становилось всеобщим. Мобилизация на военную службу почти половины трудоспособных мужчин привела в упадок производство продуктов питания и товаров первой необходимости. Резко возросли цены. Голод стал обычным явлением, особенно среди городских рабочих, невзгоды множились, чувство разочарования в народе росло.
Русские революции1917 год принес две революции. Первая – Февральская – имела характер не столько восстания, сколько крушения обветшавшего самодержавия. Она началась 8 марта (23 февраля ст. ст.) с события, не предвещавшего каких-то особых последствий; забастовки рабочих, вызванной нехваткой продовольствия. Получившие приказ стрелять, царские войска, посланные на усмирение, перешли на сторону бастующих. Их примеру последовала большая часть петроградского гарнизона. Улицы города заполнились людьми, поддерживавшими требования забастовщиков. В течение нескольких дней стало ясно, что царское правительство почти полностью утратило поддержку народа Когда демонстрации охватили всю империю, Николай II отрекся от престола, его министры и чиновники разбежались, ненавистная всем полиция попряталась. К 12 марта царский режим рассыпался, как карточный домик.
Неожиданно легкое свержение царизма обернулось столь же неожиданными трудностями иного порядка: поиск новой формы организации власти, которая удовлетворила бы всех, оказался чрезвычайно нелегким делом. Появилось сразу два претендента на политическую власть. Один из них – Временное правительство, сформированное из либеральных депутатов Думы, намеревалось играть роль блюстителя власти до тех пор, пока в России не будет создано новое постоянное правительство. Временное правительство было признано и в России и за границей, однако действенной реальной властью почти не обладало, не имея налаженного административного аппарата и полиции. Кроме того, оно взвалило на себя непосильное бремя ведения непопулярной войны. Конкурентом Временного правительства в дележе власти с самого начала был Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов. Этот Совет, где большевики первоначально составляли меньшинство и преобладали социалисты, был своеобразным законодательным органом, объединявшим радикальную интеллигенцию, рабочих и солдат. Такие же советы быстро создавались по всей стране. Их целью было «углубление» революции путем полного преобразования общества на социалистических началах. Постоянное противостояние этих двух органов, столкновения и противоречия между ними сеяли еще большую неразбериху и анархию, оставляя открытым вопрос о власти в бывшей империи.
Беспорядок довольно быстро охватил все сферы жизни революционной России. Необходимость перемен, подтвержденная революцией, стала для многих, особенно для Советов, оправданием их азартного стремления низвергнуть ранее общепринятые устои и общественные институты. Например, 14 марта был издан печально известный приказ № 1 Петроградского Совета (Временное правительство не смогло заблокировать его), в соответствии с которым в войсках создавались солдатские комитеты, избираемые демократическим путем и имевшие огромные полномочия в решении всех насущных проблем. Власть офицеров имела силу лишь в боевых ситуациях. Этот приказ окончательно подорвал и без того призрачную дисциплину и в конечном счете способствовал полному развалу армии. Летом, когда миллионы деморализованных, распаленных радикальной пропагандой вооруженных солдат хлынули с фронта, направляясь по домам, элементарному общественному порядку пришел конец.
Наблюдая слабые попытки восстановить и наладить политическую власть в те хаотические времена, нужно всегда помнить, что те, кто имел мужество это делать, находились в положении строителей, возводящих дом там, где постоянно проваливается фундамент.
Революция в УкраинеВесть о падении царизма пришла в Киев 13 марта 1917 г. В течение нескольких дней представители основных городских учреждений и организаций сформировали Исполнительный комитет, взявший на себя роль блюстителя порядка в качестве местного органа Временного правительства. Практически одновременно леворадикальные силы сгруппировались в Киевском Совете рабочих и солдатских депутатов. Однако, в отличие от Петрограда, в Киеве на историческую сцену вышел третий актер: украинцы создали собственную организацию – «Центральну Раду». Ее учредителями стали умеренные либералы из ТУП, возглавляемые Евгеном Чикаленко, Сергием Ефремовым и Дмитром Дорошенко, и социал-демократы во главе с Володимиром Винниченко и Симоном Петлюрой. Несколькими неделями позже в Центральную Раду вошла набиравшая вес «Українська партія соціалістів-революціонерів», представленная Миколой Ковалевским, Павлом Христюком и Микитой Шаповалом. Президентом Центральной Рады был избран вернувшийся из ссылки Михайло Грушевский, пользовавшийся широкой известностью и уважением. Таким образом, в отличие от русских в Киеве, разделившихся на умеренных в Исполнительном комитете и радикалов в Совете, украинцы всех идеологических течений объединились в едином представительном органе.
Совершенно неожиданно для многих Центральная Рада получила немедленную и неуклонно растущую поддержку. В Петрограде и Киеве состоялись грандиозные публичные манифестации украинцев в честь ее создания. 19 апреля в Киеве открылся Украинский национальный конгресс, на который съехалось 900 делегатов со всей Украины, от украинских общин бывшей империи, различных экономических, просветительных, военных и благотворительных организаций. На конгрессе были избраны (уже чисто формально) 150 представителей в Центральную Раду, Грушевского утвердили ее президентом. 18 мая 1917 г. Украинский военный съезд, собравший свыше 700 делегатов, поручил своим представителям также войти в состав Центральной Рады. Приблизительно месяц спустя такое же решение приняла тысяча делегатов Украинского крестьянского съезда. Вслед за ними поддержку Центральной Рады провозгласил съезд рабочих депутатов. Вдохновленная этими проявлениями широкого доверия, Рада уже видела себя совсем в ином свете: не как представителя небольшой группы украинцев-патриотов, а как всеукраинский парламент.
Характеризуя социальное происхождение большинства сторонников Центральной Рады, кровно заинтересованных в ее существовании, можно, используя излюбленный марксистский термин, назвать его мелкобуржуазным: тут мы найдем интеллигенцию и так называемую полуинтеллигенцию (сельских учителей и священников, мелких чиновников и земских служащих), младших офицеров и зажиточных крестьян. Эти люди, в большинстве своем связанные с селом, руководствовались не только традиционной для украинской интеллигенции заботой о сохранении и развитии украинской культуры, но и, не в последнюю очередь, прагматическими соображениями: свое, так сказать, домашнее правительство чутче откликалось бы на их нужды. Равным образом украинское крестьянство рассчитывало на то, что Центральная Рада эффективнее, чем власть в далеком Петрограде, решит земельный вопрос, а украинские солдаты лелеяли надежду, что она быстрее, чем российское правительство, избавит их от тягот войны.
Впрочем, в Украине были также такие социальные и этнические группы, которые не признавали Центральную Раду. Не только русские консерваторы, но даже умеренные были напуганы перспективой распада «единой и неделимой России» в результате роста политического самосознания украинцев. Русские радикалы, со своей стороны, видели в украинском национальном движении угрозу «единству рабочего класса». Наконец евреи, немалым образом связанные с русской культурой и деятельно участвовавшие в русских социалистических партиях, также искоса смотрели на Центральную Раду. Итак, небольшое, но сосредоточенное в стратегически важных точках городское меньшинство было в общем весьма обеспокоено неожиданным появлением Центральной Рады.
Тем временем действенность власти Временного правительства становилась все более призрачной. Пользуясь этим, Центральная Рада решила усилить свои позиции. Добиваясь признания в качестве высшей политической власти в Украине, она издала 23 июня свой Первый Универсал, в котором говорилось: «Пусть будет Украина свободной. Не отделяясь от всей России, не порывая отношений с государством Российским, пусть народ украинский на своей земле имеет право сам устраивать свою жизнь». Вскоре после этого Центральная Рада объявила о создании «Генерального Секретаріату», который должен был действовать как исполнительный орган правительства. Возглавленный Винниченко и состоявший из восьми министров, среди которых преобладали социал-демократы, он взял на себя ответственность за управление Украиной.
Эти действия вызвали возмущение русских в Украине и Временного правительства в Петрограде. Последнее в середине июля прислало в Киев для переговоров делегацию во главе с А. Керенским. Однако, ослабленные катастрофическим провалом своего наступления в Галичине, русские были вынуждены смириться и признать, хотя и с большими оговорками, право Генерального Секретариата управлять пятью украинскими губерниями – Киевской, Полтавской, Подольской, Волынской и Черниговской. Этим Центральная Рада фактически достигла высшей точки своего влияния и власти.
Русские и еврейские партии без особой охоты, но все же дали согласие войти в Центральную Раду в обмен на обещание широкой культурной автономии для своих народов в Украине. В этот момент Центральная Рада состояла из 822 мест, из которых приблизительно четверть принадлежала русским, польским, еврейским и другим неукраинским партиям. Идеологически она ориентировалась на левые силы. Достигнув согласия, хотя и достаточно условного, с Временным правительством и национальными меньшинствами, Центральная Рада получила наконец возможность заняться делом управления Украиной.
Впрочем, неспособность Центральной Рады быть руководящей силой обнаружилась весьма скоро. Когда Временное правительство попыталось пересмотреть договоренность об украинской автономии, Центральная Рада с головой погрузилась в бесконечные дискуссии о границах своих полномочий, пренебрегая при этом такими более прозаическими, но куда более насущными проблемами, как укрепление законности и порядка, обеспечение снабжения городов и работа железных дорог. Она также оказалась неспособной решить наболевшую проблему передела земли. Как следствие, первоначальное единство, продемонстрированное украинцами ранее, быстро распалось. Обострились политико-идеологические противоречия между социал-демократами, составлявшими в Центральной Раде большинство, и многочисленными социалистами-революционерами. Погрязну в в бесплодных дебатах и раздорах, члены Центральной Рады, власть которой фактически уже ограничивалась окрестностями Киева и нескольких крупных городов, утратили связь с селом, а значит и с массами, связь, достигнутую на короткий срок благодаря различным съездам, проходившим в Киеве. Губернии были предоставлены самим себе.
Не менее губительной оказалась идеологическая ограниченность и неопытность украинских политиков, большинство из которых были совсем молодыми, 20—30-летними людьми. Увлекшись революционной фразой, они стремились полностью отмежеваться от старых порядков. В этом смысле весьма показательна их позиция в военном вопросе. Летом 1917 г. 300 тыс. солдат-украинцев стихийно организовались во все-украинские соединения, которые присягнули на верность Центральной Раде. Нежданную услугу Центральной Раде оказал генерал Павло Скоропадский, который предоставил в ее распоряжение 40-тысячный, украинский корпус, отлично обученный и хорошо вооруженный по сравнению с деморализованными российскими частями. Однако этот жест доброй воли был отвергнут по двум причинам: во-первых, идеологи Центральной Рады считали, что революции не нужна регулярная армия, во-вторых, Скоропадский как крупный землевладелец не пользовался их доверием. Отношение к чиновничеству было таким же: оно рассматривалось как воплощение старого, антинародного «буржуазного» государства, а Винниченко, глава правительства, вообще называл чиновников «омерзительными и вреднейшими из людей».
Тем не менее довольно скоро выяснилось, что правительство невозможно без армии и аппарата управления. По Украине расползались анархия и безвластие. Положение ухудшилось в июне, когда развалилась российская армия в Галичине, буквально затопив Украину, бывшую ближайшим тылом огромных Юго-Западного и Румынского фронтов, миллионами вооруженных, агрессивных, буйствующих солдат. По словам одного из членов Центральной Рады, последствия их продвижения по Украине были «худшими, чем от татарских орд», и неспособность справиться с ними наиболее отчетливо проявила бессилие Центральной Рады.