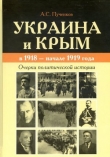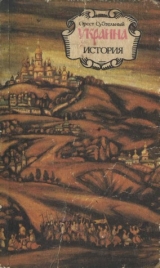
Текст книги "Украина: история"
Автор книги: Орест Субтельный
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 62 страниц)
Не то пираты, не то купцы, словом, отчаянные люди – такими предстают варяги в древнейших из доступных нам источников по истории Киевской Руси. В VIII—IX вв. они двинулись к Волге и по ней достигли Каспия, установив там контакты с купцами мусульманского мира. А когда центр торговли переместился на юг, в Константинополь, через Киев был проложен знаменитый путь «из варяг в греки», который и стал главной торговой магистралью.
Так внешняя торговля стала тем фундаментом, на котором была построена вся экономическая система Киевской Руси.
Не случайно поэтому первым международным договором Киевской Руси стал торговый пакт, заключенный Олегом с Византией в 911 г. Он обеспечивал небывало выгодные условия в Константинополе всем купцам, прибывавшим с Руси.
Но в XII—XIII вв. этот фундамент экономического благополучия Руси зашатался под ударами крестоносцев по Константинополю, кочевников – по днепровскому торговому пути. В это время растущее значение для Киева приобретают торговые связи с Западом – прежде всего через Краков – Прагу – Регенсбург.
В противоположность средневековому Западу, где земельная аристократия уклонялась от участия в торговле, в Киевской Руси ею активно занимались не только боярская знать, но и сами князья. Самые первые из них большую часть своего времени посвящали сбору дани со своих далеко расположенных владений. Затем эта дань доставлялась в Киев, откуда каждый год снаряжалась огромная флотилия в Константинополь. По реке и по морю везли рабов, сплавляли «сырые» продукты – меха, лен, мед, воск, и все это обменивалось на предметы роскоши.
Но даже со временем, когда князья и бояре стали более оседлыми и прибрали к рукам огромные просторы земли, значительная часть продукции их хозяйств предназначалась на экспорт. А уж многочисленное купеческое сословие, имевшее своих представителей во всех городах Руси, должно было позаботиться о том, чтобы обеспечить благоприятные возможности для сбыта этой продукции на мировом рынке. Взамен купцы на Руси – те самые богатые и могущественные, что торговали за рубежом,– пользовались практически теми же юридическими и политическими правами, что и бояре. Впрочем, огромное большинство купеческого сословия составляли мелкие лавочники и торговцы. Их дела ограничивались внутренним рынком. К тому же часто они были кругом в долгу у тех, кто побогаче, и попадали к ним в кабалу.
По оценкам современных ученых, в городах жило 13– 15 % населения Руси. А по летописным свидетельствам, в стране насчитывалось около 240 городов и поселков. Но из них примерно 150 были скорее всего просто укрепленными поселениями, где «горожане» вели вполне крестьянский образ жизни. Среди оставшихся 90 более или менее значительных городов крупнейшим несомненно был Киев. Перед монголотатарским нашествием он насчитывал примерно 35—40 тыс. жителей (Лондон достигнет такого количества населения лишь век спустя). Скажем для сравнения, что такие важные центры, как Чернигов, Переяслав, Володимир-Волынский, Львов и Галич, насчитывали не более чем по 4—5 тыс. жителей. В городах быстро развивались ремесла, и большую часть населения составляли именно ремесленники и мелкие торговцы. Так, в Киеве было представлено от 40 до 60 видов ремесел. Самыми важными и нужными ремесленниками были плотники, кузнецы, гончары и кожемяки.
Справедливости ради следует отметить, что не все историки разделяют мнение о преимущественно торговом характере экономики Киевской Руси. Такие выдающиеся украинские ученые, как М. Грушевский, Д. Багалий и Я. Пастернак, фундаментом киевской экономической системы считали сельское хозяйство. Этой же точки зрения придерживались и ведущие советские специалисты по данному периоду. Они считали маловероятным, что славяне, которые испокон веку были земледельцами, в киевскую эпоху так резко изменили свой образ жизни. О сельскохозяйственной деятельности часто упоминают киевские летописи, на нее же ориентированы древнеславянские мифы и календарь, важность ее убедительно засвидетельствована находками археологов.
Так, недавние раскопки показали, что уже в X в. в Украине использовался железный лемех, а земли, как и в Западной Европе, засевались по относительно прогрессивной двух– или трехпольной системе (т. е. от половины до трети пахотной земли оставляли под «паром»). Что же сеяли на Руси? Прежде всего рожь и пшеницу, ячмень и овес. Крестьяне держали скотину, от которой не только кормились молоком и мясом, но и обувались-одевались; в дело шла и кожа. Разводили лошадей, свиней, овец, гусей, кур, голубей. Использование волов способствовало расширению масштабов земледелия. И хотя у каждого крестьянина в его личном хозяйстве была уже вся необходимая утварь для обработки земли в одиночку, земледельцы на Руси часто объединялись в общины и помогали друг другу. Община состояла из кровных родичей нескольких поколений с патриархом во главе. Позднее возникали и соседские общины, члены которых не были связаны кровным родством.
И все же, если экономика Руси была преимущественно земледельческой, то чем можно объяснить невиданный расцвет больших торговых городов? Многие советские историки разделяли в этом вопросе точку зрения Михаила Тихомирова: развитие и усложнение сельскохозяйственного производства способствовало появлению самых различных ремесел. А в местах скопления ремесленников возникали города. Впрочем, Тихомиров признает, что коль скоро города возникали, торговля начинала играть существенную роль в их дальнейшем развитии,– но прежде всего торговля между городом и деревней, а не внешнеторговые операции, которые, по его мнению, не имели столь уж большого значения.
Следует признать, что у сторонников обеих гипотез – и «сельскохозяйственной», и «торговой» – есть в запасе достаточно убедительные аргументы. Поэтому современные историки и в этом вопросе склоняются к компромиссному решению. Очевидно, нам придется согласиться с тем, что князь, его дружина и богатейшие купцы активно занимались самой оживленной и прибыльной торговлей – особенно до XII в. А также с тем, что огромное большинство людей на Руси трудом и потом добывало хлеб насущный, обрабатывая свои поля.
Культура Киевской РусиЛюбая дискуссия о культуре средневекового общества в основном и прежде всего должна вестись вокруг его религиозных верований и церковных учреждений. В истории Киевской Руси мы имеем дело с двумя религиозными, а стало быть и культурными, эпохами.
До 988 г. средством удовлетворения духовных потребностей восточных славян было язычество – обожествление сил природы, поклонение духам предков. Перун, бог грома и молнии, считался высшим божеством языческого пантеона. В языческой мифологии древних скандинавов ему соответствует бог Тор, мифы о котором, впрочем, не дошли до нас во всех тех подробностях, в каких дошли поверья, связанные с Перуном. Затем идут Дажбог и Сварог – боги воздуха и солнца, дарители земных благ. Как у всех земледельческих народов, распространенным был и культ бога и богини плодородия – Рода и Рожаницы. Кроме того, почитались мириады духов рек, лесов и предков. Почитание выражалось в частом жертвоприношении: жертвами служили животные, а иногда и люди.
Восточные славяне не возводили своим языческим божествам величественных храмов. Не было у них и хорошо организованной, разветвленной иерархии языческих жрецов. Все это, кстати, помогает понять, почему сопротивление язычников-славян принятию христианства было относительно слабым. И все же верованья предков не исчезли полностью с приходом новой религии. Развивался религиозный дуализм (двоеверие): в течение многих веков обряды христианства как бы накладывались на языческие обычаи (такие, например, как празднование прихода весны).
С принятием христианства Киевская Русь приобщилась к новой высокоразвитой и высокоорганизованной религии. В 1037 г. в Киеве была учреждена митрополичья епархия и прибыл первый митрополит из Константинополя. По происхождению он был грек – за всю историю Киевской Руси лишь дважды на этот пост назначались не греки. Киевская митрополия поначалу включала в себя лишь восемь епископатов, однако постепенно их количество удваивается. 10 из этих 16 епископств находились на территории современной Украины. Многие епископы также были византийцами. Они прибывали на Русь в сопровождении пышной свиты. Тут были их писари и помощники, мастера-ремесленники. Таким образом епископаты превращались в центры распространения византийской культуры.
Духовенство делилось на две категории – «белое» и «черное». К первой принадлежали приходские священники. Они не давали обета безбрачия и, выбрав себе жену (тоже, как правило, из духовного сословия), становились главами семейств. Вторая категория – монахи. Высокие духовные иерархи могли избираться только из монашеской среды. Монахи жили замкнуто, уединенно, избегая мирских зол и соблазнов. Монастыри были центрами христианской святости и поучения. К началу XIII в. на Руси насчитывалось около 50 монастырей. В одном только Киеве их было 17.
Церковь оказывала огромное влияние на культуру Киевской Руси. Что касается искусств, здесь достаточно будет одного примера – сооружения знаменитой Святой Софии Киевской.
Собор был построен в 1037 г. при Ярославе Мудром греческими мастерами по образцу Софийского храма в Константинополе. Он имел пять апсид, пять нефов и 13 куполов. Мраморные и алебастровые колонны поддерживали богато украшенный интерьер. Величественная красота каменной обители христианского Бога должна была особенно потрясать киевлян, привыкших к скромным деревянным строениям. Византийская церковь всегда славилась тонким пониманием воздействия искусства на человеческие чувства – часто более точного и сильного, чем воздействие теологии на разум. Вот почему церковь всегда поддерживала искусства и ремесла. С мозаики и фресок Софии Киевской люди смотрят на нас как живые – такова сила мастерства их создателей, сила их православной веры.
Богатые возможности выразить и передать свою веру средствами искусства предоставляла иконопись. Иконы – религиозные образы и сюжеты – писались на специально обработанных досках. Из храмов иконы приносились в дома верующих и становились бесценной семейной реликвией.
Поначалу все формы и жанры церковного искусства развивались под сильным влиянием византийских образцов. Но со временем мастера Киевской Руси научились, отвечая требованиям жанра, включать в каждое произведение и свои местные мотивы. Так возникал своеобразный стиль древнерусского искусства. Впрочем, не только в выборе тем и сюжетов, но и в выборе видов искусства художник на Руси полностью зависел от церковных предписаний. Так, в православных храмах (в отличие от католических) запрещалось ставить статуи– потому-то такой вид искусства, как скульптура, не получил в Киевской Руси широкого развития.
Однако православие открыло человеку Древней Руси самые разнообразные возможности и способы не только эмоционального, но и интеллектуального самовыражения. Оно принесло на Русь письменность, литературу. Святые Кирилл и Мефодий, проповедовавшие славянам христианство, изобрели славянский алфавит, который вскоре после 988 г. получил распространение и на Руси. Римская церковь допускала богослужение только на латыни, Константинополь же терпимо относился к языкам народов, обращенных им в христианство. Славянам разрешалось в церковной службе и во всех делах и обычаях веры пользоваться общепонятным для них языком – церковнославянским (этот литературный язык был создан на основе одного из южнославянских диалектов). Постепенно церковнославянский язык становится средством не только религиозной, но и все более богатой и разнообразной светской литературы.
Но, как и следовало ожидать, большая часть ранних образцов письменности киевского периода так или иначе связана с религией. Здесь преобладают отрывки из Ветхого и Нового Заветов, акафисты, проповеди, жития святых. Среди наиболее выдающихся памятников древней письменности следует назвать «Киево-Печерский патерик» (жития святых, собранные киевскими монахами), проповеди и гимны св. Кирилла Туровского и писания киевского митрополита середины XI в. Илариона,– быть может, самого выдающегося мыслителя Киевской Руси. В знаменитом «Слове о Законе и Благодати», произнесенном Иларионом в память Володимира Святого и в присутствии Ярослава Мудрого в 1050 г., искусно и вдохновенно восславлена христианская вера. При этом автор «Слова» обнаруживает превосходное владение самыми изощренными приемами византийской риторики и, разумеется, прекрасное знакомство с библейскими текстами и тонкое их понимание. Он отдает дань уважения византийской культуре, но в нем нет рабского грекофильства. Он даже сознательно приуменьшает роль Византии в христианизации Руси: для него Русь важна и славна сама по себе, а заслуга ее крещения целиком и полностью принадлежит Володимиру.
И все же греческое влияние явственно сказывается во всех религиозных памятниках Киевской Руси. А вот в летописях оно не столь очевидно, хотя большая часть их тоже писана в монастырях и насквозь пронизана православным мироощущением. Все это не мешает летописцам стремиться к точному воспроизведению исторической действительности, по возможности не упуская деталей. Их равно интересуют и сами исторические события, как то соперничество князей или битвы с кочевниками, и такие подробности, которые в иное время, быть может, сочли бы мелкими и незначительными. Важнейшая из дошедших до нас летописей известна под названием «Повесть временных лет». Ее составителями считаются два киевских монаха, Нестор и Сильвестр, а окончательный текст датируется 1113—1116 годами.
Среди авторов литературных произведений Киевской Руси изредка встречаются и представители светской элиты. Так, постоянная занятость политикой не помешала князю Володимиру Мономаху стать автором мудрого и трогательного «Поучения». Полагают, что при дворе киевского князя в 1185—1187 гг. было создано и знаменитое «Слово о полку Игореве». В этом произведении, исполненном чисто литературных достоинств (ритм, яркая образность, богатый язык, на удивление личное восприятие природы), неизвестный автор рассказывает историю неудачного похода на кочевников одного из младших князей, призывая всех правителей на Руси прекратить взаимные распри и объединиться для общего блага.
Но каких бы высот ни достигала письменность, для неграмотного большинства жителей Киевской Руси она оставалась недоступной. Свой опыт и творческие находки они передавали из уст в уста, из поколенья в поколенье, используя для этого разнообразные жанры фольклора – песни, пословицы, загадки, сказки.
Среди фольклорных жанров киевского периода особенно выделяется устный эпос – былины. Их излюбленные герои имеют, впрочем, мало общего с историческими прототипами, всецело принадлежа мифологическому сознанию. В центре – мифический князь Володимир-Красное-Солнышко и его дружина; весельчак Илья Муромец, крестьянский сын; смекалистый Алеша-Попович; самоотверженный и верный Добрыня Никитич, боярский сын. В общем все это весьма напоминает короля Артура и его рыцарей Круглого Стола.
Время от времени восточнославянские палладины оставляют князя-суверена на произвол судьбы, отправляясь «на волюшку погулять, с разной нечистью силою помериться». Тут на сцену выступают их постоянные соперники – образы, в которых народное сознание мифологизировало свои исторические страхи, постоянные угрозы шаткому миру и благополучию, идущие в основном со стороны Степи. Это могли быть половцы – и половецкий Тугорхан легко превращался в змея Тугарина. Это могли быть хазары, исповедовавшие иудаизм,– память о них сохранил былинный образ Жидовина. Былины исполнены тайн и колдовства, а христианские ценности густо переплетаются в них с пережитками языческого прошлого.
Относительно того, насколько были распространены на Руси признаки, так сказать, формального образования, мнения историков опять-таки разделились. Впрочем, высокий образовательный ценз киевской элиты ни у кого не вызывает сомнения. В летописи сообщается, что уже в 988 г. Володимир велел всех боярских детей отдавать в обучение. Его сын Ярослав устроил в Новгороде школу для 300 мальчиков, происходивших из знатных семей. А в Киеве при Ярославе настоящим центром образования и культуры стала Св. София. С 1037 г. в помещении собора находились школа и библиотека. Имелась библиотека и в Киево-Печерской лавре, и многие ее монахи славились своей ученостью (тогда это означало прежде всего превосходное знание и понимание религиозных текстов).
Да и сами князья почитали «ученье книжное». Общеизвестна любовь к книгам Ярослава Мудрого. Сын его Всеволод знал пять языков, дочь Анна – владела грамотой, что для женщин той эпохи было просто в диковинку. Когда она стала королевой Франции, ей было чем блеснуть пред дамами своего двора.
Ну а низы? С ними сложнее. Школьная азбука на бересте, найденная при раскопках в Новгороде, или надписи на стенах Софии Киевской некоторым историкам представляются неоспоримыми свидетельствами доступности образования в Киевской Руси. Однако большинство специалистов более сдержанно оценивают успехи тогдашнего просвещения. Они полагают, что образование вообще и основательное знакомство с византийско-христианской культурой в частности оставались привилегией светской и духовной элиты, а для простых людей были, как правило, недосягаемы.
* * *
Киевскую Русь и украинские, и русские историки рассматривают как неотъемлемую часть истории своих народов. Разумеется, тут не обошлось без дебатов на тему о том, кто имеет больше прав на это наследие.
В XIX в. русские историки, и особенно последователи так называемой юридической школы, вершиной исторического прогресса считали создание государства. Они заявляли, что поскольку россияне – единственный из восточнославянских народов, создавший государство современного типа, то и главная нить исторического развития именно от этого государства должна быть протянута в прошлое – через Московскую Русь к Киевской, т. е. к древнейшей государственности восточных славян. Соответственно украинцы и белорусы, не создавшие собственного государства, официальными наследниками Киевской Руси считаться не могут. А такой влиятельный историк, как Михаил Погодин, пошел еще дальше, утверждая не только государственную, но и этническую преемственность России по отношению к Киевской Руси. Согласно выдвинутой им гипотезе, после разрушения Киева монголо-татарами в 1240 г. уцелевшая часть жителей подалась на север, в сердце матушки-России. И этой многократно с тех пор опровергнутой теории до сих пор придерживаются целый ряд историков как в России, так и за ее пределами.
Но в XIX в. растет национальное самосознание и в Украине. Отсюда неизбежное недовольство тем, что русские присвоили себе «киевскую славу». Наконец, в 1906 г. самый выдающийся украинский историк, Михайло Грушевский, выступил с хорошо аргументированной критикой традиционной схемы «истории государства Российского».
В отличие от русских «государственников» Грушевский был «народником» и усомнился именно в том, что для его оппонентов не подлежало никакому сомнению: в праве сводить все богатство исторического процесса к прогрессу государств.
Но разве не важнее для истории народ? Народ, связанный этническим родством, живущий на земле своих предков, из поколения в поколение накапливающий свой национальный опыт,– он-то и является стержнем истории... Грушевский предположил, а затем (уже в наше время) целым рядом археологических и антропологических исследований было подтверждено, что от антов VI в. до украинцев ХХ-го основной этнический тип населения мало изменился на большей части территории Украины. Что до опустошений и миграций монгольского периода, то, по мнению Грушевского, они не были столь велики, как полагали русские историки XIX в. Если какая-то часть населения и покидала обжитые места в Центральной Украине, то она же и возвращалась обратно, лишь только обстановка на родной земле становилась чуть спокойнее. В общем, по Грушевскому, который вдобавок, как мы помним, был последовательным антинорманистом, современные украинцы – самые прямые и непосредственные потомки полян, сыгравших решающую роль в становлении Киева. Стало быть, «киевская слава» лежит в сфере исторического самосознания украинского народа.
Грушевский также полагал, что приписывать киевскому периоду центральное место в истории России значило бы не только приуменьшать самобытный вклад поляно-украинцев, но и обременять прошлое русского народа, так сказать, бесплатным приложением, мешающим поиску собственных корней. Уж если на то пошло, и у киевской «государственности» были куда более прямые наследники, чем Ростов, Суздаль, Владимир, Тверь и Москва. Куда более важную и значительную часть киевского наследия сохранили Галицко-Волынское княжество и за ним – Великое княжество Литовское с его сильными украинскими и белорусскими элементами. Каково же, по Грушевскому, отношение истории России к истории Киевской Руси? Точно такое же, каково отношение истории Франции к истории Римской империи. Как Галлия – бывшая провинция Рима – обязана ему многими элементами своего последующего общественно-политического уклада, законодательства и культуры, так же точно многим обязана Киеву Москва. Но второй акт той исторической драмы, начало которой было положено в Киеве, разворачивался вовсе не в Москве. Московский период не был продолжением киевского. И хоть Москва многое позаимствовала у Киева, настоящее объяснение ее истории, по мнению Грушевского, следует искать путем внимательного изучения географических, политических и этнических условий Северо-Восточного региона.
Возможен ли компромисс между двумя крайними точками зрения, высказанными «в деле о спорном наследстве» обеими претендующими на него сторонами в XIX – начале XX в.? На первый взгляд, такой компромисс был найден в официальной советской историографии. Как доказывали советские историки, создателями Киева в равной мере должны считаться предки всех трех восточнославянских народов (украинцев, русских, белорусов) – население Киевской Руси, так называемый древнерусский народ. При этом постоянно подчеркивались однородность населения и единообразие культуры, языка, обычаев и политико-экономических условий на всей территории Киевской Руси. А естественные сомнения в отсутствии на протяжении всего этого громадного пространства каких-либо региональных особенностей и отличий числились по разряду «буржуазного национализма». Складывалось впечатление, что трогательное единство «древнерусского народа» есть не что иное, как проекция в прошлое «новой исторической общности – советского народа».
Как бы то ни было, официальная теория советских историков постепенно вытеснила некогда общепринятую точку зрения официальных русских историков XIX в.– на нынешний взгляд безосновательную хотя бы уже потому, что Киев пал задолго до формирования всех трех современных наций. Которой же из них, в самом деле, принадлежит его древняя история? Быть может, подобно истории Древнего Рима, она принадлежит... истории? Вопрос риторический. Но вот отнюдь не риторические вопросы, на которые советская историография за все годы своего существования так и не смогла дать внятных ответов. Почему на базе восточнославянских племен возникли именно три нации – не больше и не меньше? И какова все-таки роль в этом процессе их прошлого – эпохи Киевской Руси? Не принимать же всерьез ответы о нашествии монголо-татар и об отделении будущих украинского и белорусского народов от будущего русского в литовско-польском государстве? Кстати, эти ответы находятся в вопиющем противоречии и с марксистским пониманием истории, которого во всех иных случаях советские ученые строго придерживались, всегда подчеркивая, что нации развиваются под влиянием прежде всего внутренних социально-экономических факторов. А тут все выходит наоборот: мол, если бы не монголо-татары и литовцы (т. е. факторы явно внешние), не развиться бы трем нациям из «древнерусской народности»...
Короче говоря, все эти «споры о наследстве» доказывают лишь одно – а именно то, насколько трудно отделимы чисто научные проблемы от политических и идеологических, когда речь заходит об истории Киевской Руси.