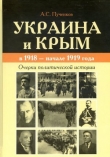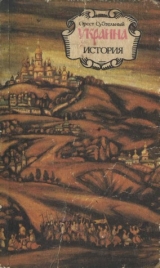
Текст книги "Украина: история"
Автор книги: Орест Субтельный
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 45 (всего у книги 62 страниц)
Украина вновь стала полигоном наиболее жестоких репрессий. В отличие от чисток 1933 г., во время которых устранялись противники коллективизации и сторонники украинизации, в 1937 г. Сталин решил ликвидировать все высшее партийное руководство республики и ее правительство. Мотивы для такого решения возникли неожиданно. Вскоре после гол од о-мора Постышев неожиданно засомневался в правильности сталинского курса в Украине и даже стал проникаться ее интересами. Более того, Постышев и украинское руководство отказались доводить масштабы чисток до тех размеров, каких желал Сталин. Даже после того как Постышева убрали с Украины и сюда прибыли личные представители Сталина – Вячеслав Молотов, Николай Ежов и Никита Хрущев (август 1937 г.), коммунистическое руководство Украины (Станислав Косиор, Григорий Петровский, Панас Любченко) продолжало сопротивляться политике бесконечных чисток. В конце концов в июне 1938 г. были арестованы и расстреляны все 17 министров правительства советской Украины. Глава правительства, Любченко, покончил с собой. Погибли почти все члены политбюро и ЦК КП(б)У. Около 37 % членов коммунистической партии Украины (170 тыс. человек) были репрессированы. Как сказал Никита Хрущев, новая марионетка Москвы в Украине, КП(б)У была «вычищена до блеска».
НКВД стремился истребить целые категории людей: кулаков, священников, бывших участников антибольшевистских армий, тех, кто был за границей или имел там родственников, эмигрантов из Галичины и т. д.; массами погибали простые люди. О том, каких необъятных масштабов достигла «большая чистка», свидетельствует хотя бы найденное во время второй мировой войны в Виннице массовое захоронение (около 10 тыс. тел) местных жителей, расстрелянных в 1937—1938 гг. Не имея абсолютно достоверных данных, западные исследователи не могут установить размеры всех людских потерь от сталинского террора. По подсчетам Адама Улама и некоторых других ученых, в 1937—1939 гг. по всему Советскому Союзу было уничтожено около 500 тыс. и от 3 до 12 млн человек отправлено в лагеря. Учитывая особенности положения Украины, о которых уже упоминалось, можно предположить, что ее доля в этих жертвах была наибольшей.
К концу 1930-х почти полностью была предана забвению даже та куцая самостоятельность украинцев и других нерусских народов, которую они имели ранее. В руках Москвы сосредоточились рычаги управления всеми сферами жизни общества. Игнорируя все прерогативы, требования и протесты украинских коммунистов, Сталин руками своих личных эмиссаров типа Постышева или Хрущева правил Украиной. Республика, будучи одним из важнейших экономических регионов, не имела никакого права распоряжаться своими ресурсами, капиталовложениями, развитием промышленности и, что наиболее важно, своим сельским хозяйством. Даже в самый разгар голода украинское советское правительство не могло распорядиться ни одним пудом зерна без разрешения Москвы. Были закрыты или «идеологически обезврежены» все культурные учреждения, имевшие «украинскую специфику». Была сведена к общесоюзному ранжиру система высшего образования республики; вместо школьных учебников, разработанных при Скрипнике, также вводились общесоюзные. Процесс централизации и унификации зашел так далеко, что Сталин и его окружение уже обсуждали возможность отмены деления Советского Союза на республики.
Сталин любил перемежать свою жестокую политику «самокритикой», имевшей чисто фарисейский, лицемерно-пропагандистский характер, или действиями, внешне демократическими. Так, в 1934 г., в разгар централизаторских процессов, столица Украины была переведена из Харькова в исторически традиционный центр – Киев. В 1936 г. последовал еще один трюк. Во время «большой чистки» народам СССР была предложена Конституция, дававшая им все те права, которыми пользовались народы стран «буржуазной демократии». Высшим органом государственной власти был провозглашен Верховный Совет, состоявший из Совета Союза и Совета Национальностей. Сталин подтвердил право республик на выход из СССР и увеличил их число с четырех до 11 за счет раздела Средней Азии и Кавказского региона. Знаменитейшим образчиком сталинского цинизма стала его фраза, сказанная в обстановке ужасов 1930-х годов: «Жить стало лучше, жить стало веселей».
Конец украинизацииС централизацией пришла и русификация. Вначале, в 1933 г., она осуществлялась через инъекции в Украину тысяч партийных функционеров из России, прибывавших для подкрепления коллективизации. К концу этого десятилетия, после истребления украинских коммунистов, большая часть высшего партийно-государственного руководства Украины начиная с Никиты Хрущева состояла из русских. Некоторые ученые характеризуют эти изменения в политической элите Украины как «возвращение русских».
Кадровые изменения были вызваны решающими сдвигами в национальной политике Москвы, произошедшими в 1933 г., когда Сталин провозгласил местный национализм (а не русский шовинизм) главной угрозой единству Союза. Этот идеологический кувырок означал конец украинизации и начало политики систематической дискриминации украинской культуры. Сокращалось количество украинских школ, заметно снизилась численность украинских учителей и ученых, с полок библиотек исчезли известнейшие труды и произведения украинских ученых и писателей, сотнями запрещались украинские пьесы и десятками закрывались национальные театры, музеи получили указание прекратить «идеализацию казаччины». При каждом удобном случае официоз третировал «националистические теории самобытности Украины».
Параллельно разворачивалась кампания возвеличивания всех сторон русской культуры, всячески подчеркивалась ведущая роль России в СССР. Все это, однако, делалось под предлогом воспитания интернационализма, пролетарской солидарности и «дружбы народов». Так, в 1936 г. Сталин указывал, что происходит стирание различий между советскими нациями: «коренным образом изменилось лицо народов СССР... вместо чувства взаимного недоверия развились чувства взаимной дружбы, и... таким образом, мы имеем сегодня братское сотрудничество народов в едином союзном государстве».
Следуя этим выкладкам, советские идеологи выработали теорию, согласно которой русский язык и культура лучше всего отвечали задачам укрепления дружбы и сотрудничества народов, объединения их на пути прогресса. Довольно типичным было такое заявление одного из них: «Русский язык изучают трудящиеся всего мира. В свое время Маркс отдал должное могуществу русского языка, изучая его и используя в своих работах первоисточники на русском языке... У нас русский язык является языком межнационального общения народов СССР. Знание русского языка позволяет народам СССР приобщиться к высшим культурным ценностям».
Как отмечает Р. Салливан, превозносился не только русский язык, сами русские всячески идеализировали себя за свои революционные свершения, «обряжаясь в мистические одеяния марксистского превосходства над другими народами в Советском Союзе да и во всем мире». Примером этого нового заряда в советской пропагандистской обойме может служить следующее заявление: «Русский народ – великий народ* Он находится в авангарде движения человечества на пути к торжеству демократии и социализма. Под руководством своего рабочего класса – самого передового в мире – русский народ впервые в истории сбросил с себя путы капиталистического угнетения и эксплуатации. Русский рабочий класс помог освободиться от национального, политического и экономического гнета многочисленной семье народов, населявших царскую Россию».
Выдвигая подобные постулаты, советские идеологи могли доказывать, что политика Сталина – это скорейший путь к прогрессу, социализму и интернационализму, а вовсе не возврат к традиционному русскому шовинизму. При этом само собой подразумевалось, что культура украинцев и других нерусских народов несет черты отсталости и провинциализма.
В результате русский язык в конце 1930-х годов стал обязательным предметом в украинских школах; украинский алфавит, грамматика и словарь были приближены к нормам русского языка, а он сам стал вытеснять украинский из повседневного общения. Еще в начале 1935 г. Постышев признавал, что «члены КП(б)У начали деукраинизироваться и даже перестали говорить по-украински». Подобные изменения произошли и в средствах массовой информации: если в 1931 г. около 90 % газет и 85 % журналов выходили на украинском языке, то к 1940 г. эти показатели снизились соответственно до 70 и 45 %. Относительно литературы в принцип политики была возведена практика превозносить великих русских писателей, таких как Пушкин, Толстой, Достоевский, и подчеркивать, какое благотворное влияние они оказали на украинских авторов. В отличие от предыдущего десятилетия, когда власть поддерживала украинизацию городов, новая политика активно направлялась на расширение влияния русской культуры на селе.
* * *
Сталинская «революция сверху» привела к ошеломляющим изменениям в жизни украинцев и других народов, населяющих СССР. Основой экономики стала тяжелая промышленность Заметный рост городов превратил их через несколько десятилетий в места сосредоточения большинства населения страны. Коренные изменения произошли в сельском хозяйстве, где главным событием стала ликвидация частной собственности на землю. Все эти преобразования, в особенности коллективизация в Украине, осуществлялись методами невиданного насилия и ценой невероятных людских потерь. Какие бы блага ни принесла советская модернизация Украине, плата за них была непомерно высока.
К изменениям в материальной сфере добавились сдвиги в политической и культурной жизни украинцев, масштабы и последствия которых трудно оценить. Два главных социальных компонента, составлявших основу украинского национального самосознания,– интеллигенция и крестьянство – в результате сталинского террора понесли невосполнимые потери. Как следствие, потеряла неисчислимое множество сторонников идея самореализации украинской нации, так широко внедрявшаяся в жизнь в 1920-е годы. Эта утрата особенно видна на примере двух поколений украинской интеллигенции – дореволюционной и той, что вышла на авансцену в 1920-е годы. Именно они играли ведущую роль в формировании нации, и именно они были уничтожены Сталиным. Относительная слабость политической воли и культурный застой, проявленные и пережитые украинцами в последующие годы, объясняются прежде всего опустошающими последствиями демографических потерь 1930-х годов.
Итак, Сталин повернул вспять начавшееся было многообещающее развитие Украины. В 1920-е годы процессы модернизации и украинизации в значительной степени подпитывали друг друга. Когда же в 1930-е Сталин уничтожил украинскую элиту и вернулся к русификации, модернизация вновь стала связываться с русской культурой. Соответственно украинскую культуру путем нехитрых манипуляций вновь принялись отождествлять с консервативным, отсталым селом.
22. ЗАПАДНАЯ УКРАИНА МЕЖДУ МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ
В результате первой мировой войны и крушения старых европейских империй радикально обновилось лицо Восточной Европы: на ее карте появились национальные государства, определявшие новый политический порядок в этом регионе. Хотя принцип самоопределения наций и получил здесь всеобщее признание, не везде и не всегда он воплощался в жизнь, в итоге не все народы, стремившиеся к этому, добились государственности. Те, кому это удалось, получили в наследство крупные и беспокойные национальные меньшинства. Таким образом, национальный вопрос здесь еще во многом оставался неразрешенным; с ростом напряженности в отношениях между господствующими нациями и не имеющими равных с ними прав народами эта проблема становилась взрывоопасной. Социально-экономические противоречия, раздиравшие Восточную Европу еще с имперских времен, только подливали масла в огонь.
Единственной крупной нацией в Восточной Европе, не сумевшей добиться независимости в это время, были 7 млн западных украинцев, бывших подданных империи Габсбургов. Большая их часть входила в состав Польши, остальные компактно размещались в Чехословакии и Румынии. Будучи всюду, особенно в Польше и Румынии, объектом дискриминационной политики, западные украинцы избрали своей главной задачей достижение самоуправления, которое, по их мнению, должно было стать гарантом нормального разрешения политических, социально-экономических и культурных проблем. Эти устремления натыкались на глухую стену ассимиляторской политики государству где жили украинцы, поэтому доминирующей чертой их политического бытия в межвоенный период стала национальная конфронтация.
Новый статус западных украинцевХотя Польша и одержала победу в военном конфликте в Восточной Галичине в 1919 г., ее права на власть над западными украинцами оставались весьма проблематичными – как с точки зрения международного права, так и с точки зрения государств Антанты. Последние, дав обязательства (пусть и формальные) придерживаться принципа самоопределения наций, не могли полностью игнорировать протесты западных украинцев против навязывания им правления поляков. Поэтому вплоть до 1923 г. вопрос о статусе Восточной Галичины оставался предметом обсуждения западных держав, особенно Англии и Франции. При этом, однако, Польша получила право распоряжаться в этом регионе, дав обязательства гарантировать ему автономную администрацию и соблюдать национальные права украинцев.
Напряженные отношения, сложившиеся в период 1919– 1923 гг. между украинским большинством Восточной Галичины и новой польской администрацией, лучше всего передает выражение «взаимное неприятие». Пока Совет послов Антанты в Версале искал решение этого вопроса, украинцы в Галичине отказывались признать законной власть польского государства над собой. Они бойкотировали перепись 1921 г. и выборы в польский сейм 1922 г. Наиболее радикальные элементы ©братались к тактике террора против польских чиновников и саботажа всех правительственных нововведений. Со своей стороны польское правительство действовало так, как будто Восточная Галичина была исконно польской землей, установив полный контроль над политической, культурной и экономической жизнью региона и полностью игнорируя нужды украинцев.
Впрочем, пуская пыль в глаза цивилизованному миру, поляки постоянно подчеркивали свою готовность уважать национальные права украинцев и других национальных меньшинств, населяющих их новое государство. Их обязательства в этой области были даже зафиксированы в конституции. В конце концов в 1923 г., когда Польша в очередной раз заверила западные державы, что она гарантирует автономию Восточной Галичины, разрешит использование украинского языка наряду с польским в органах администрации и откроет украинский университет, Совет послов признал суверенитет Польши над Восточной Галичиной. Это решение стало для галицких украинцев обескураживающим шагом назад, поскольку отдавало их на милость тех, кого они считали своими злейшими врагами.

Западная Украина в межвоенный период
При всех дискриминационных чертах своей политики Польша все же была государством, основанным на конституционных принципах. Выборы в двухпалатный парламент, пусть временами и режиссируемые, имели относительно свободный характер. Даже после военного переворота 1926 г., осуществленного маршалом Пилсудским, неизменной оставалась власть закона (часто рассматриваемая, правда, как средство защиты польских интересов). Таким образом, польские законы давали украинцам хотя и ограниченные, но реальные возможности противостоять государственной политике. Несмотря на свой статус граждан второго сорта, украинцы в Польше в политическом отношении занимали несравненно лучшее положение, чем их братья в СССР.
Новосозданное польское государство отличалось наибольшим удельным весом национальных меньшинств в Европе. В 1921 г. около трети его 27-миллионного населения составляли украинцы, евреи, белорусы, немцы и другие неполяки. Украинцы представляли наиболее значительное национальное меньшинство, насчитывая около 5 млн человек, или около 15 % населения государства (статистика национальных меньшинств в межвоенной Польше весьма противоречива: польские источники показывают, что украинцев здесь было всего 4,5 млн, в то время как сами украинцы утверждают, что их насчитывалось свыше 6 млн). Итак, численный перевес польского большинства не был настолько решающим, чтобы позволить ему полностью и постоянно игнорировать устремления украинского меньшинства.
Украинцы в Польше составляли две отличавшиеся друг от друга общины (правительство делало все от него зависящее, чтобы углубить эти различия). Большинство населяло бывшие габсбургские земли Восточной Галичины, или Восточной Малой Польши («Малопольской Всходни»), как ее стали называть. В 1920 г. этот регион был разделен на три воеводства: Львовское, Тернопольское и Станиславовское. Заселявшие их более 3 млн галицких украинцев, преимущественно греко-католики, отличались высоким уровнем национального самосознания и относительной организованностью. Меньшая часть украинцев, около 2 млн, населяла Западную Волынь, Полесье и Холмщину – территории, отторгнутые Польшей у России. В большинстве своем они исповедовали православие и были слабо развиты политически, социально-экономически и культурно.
Украинская политика поляковПольские притязания на земли, населенные западными украинцами, основывались на исторических аргументах. В конце XVIII в. эти территории входили в состав Польской Речи Посполитой, и поляки считали, что им надлежит быть частью польского государства, возникшего в 1919 г. Наличие здесь значительного и к тому же доминирующего польского меньшинства подкрепляло эти претензии. В отношении большинства населения восточных окраин польское правительство вынашивало идею полонизации. Вера в успех полонизации основывалась на двух предположениях: во-первых, привлекательность польской культуры якобы настолько высока, что другие народы с готовностью примут ее как свою; во-вторых, национальные движения меньшинств казались слишком слабыми, чтобы противостоять польскому нажиму. Как выяснилось, поляки просчитались в обоих случаях.
Будучи в своей основе репрессивной, польская политика по отношению к украинцам все же не имела тотального характера и подвергалась критике среди самих поляков. Если такие влиятельные ультранационалисты, как национал-демократы, возглавляемые Романом Дмовским и поддерживаемые польским меньшинством Восточной Галичины, последовательно придерживались воинствующей антиукраинской политики, то некоторые высокоавторитетные поляки, такие как Леон Василевский и Тадеуш Голувко, призывали к умеренности и гибкости в отношениях с национальными меньшинствами. Центральная власть в Варшаве время от времени шла на уступки украинцам, однако на местах сторонники «жесткой линии» в Администрации, полиции и армии сводили эти уступки к нулю. Были также и региональные различия в отношении к украинцам. Так, воевода Волыни Генрик Йозевский пытался привлечь украинцев к поддержке государства путем незначительных уступок, в то время как в соседней Галичине репрессивные меры правительства достигали высшей степени жестокости. В конце концов кричащие противоречия наблюдались уже в том, что польское правительство, с одной стороны, давало приют в Варшаве эмиграционному украинскому правительству из Восточной Украины (которое можно было использовать в случае войны с СССР), а с другой – отказывалось признать любые политические устремления западных украинцев.
Все же в итоге можно прийти к выводу, что главной линией в отношениях польского правительства с украинским меньшинством была политика конфронтации. В 1924 г. был принят закон, запрещающий употребление украинского языка в государственных учреждениях. В том же году министр просвещения и ярый украинофоб Станислав Грабе кий провел реформы (знаменитый Lex Grabski), в результате которых большинство украинских школ были преобразованы в двуязычные учебные заведения, где преобладал польский язык. Украинцев исключали из Львовского университета, закрывались украинские кафедры; обещание открыть украинский университет осталось невыполненным.
Для украинского крестьянства особенно ненавистной я польской политике первых лет правления Галичиной была программа колонизации. Стремясь усилить польское присутствие на восточных окраинах, правительство начиная с 1920 г. стимулировало переселение поляков в Восточную Галичину и на Волынь. Первоначально большинство переселенцев-колонистов (так называемых осадников) составляли ветераны армии (особенно на Волыни), затем стали преобладать гражданские лица. Несмотря на то что Восточная Галичина и так уже являлась одним из наиболее густозаселенных аграрных районов Восточной Европы, польские колонисты именно здесь получали большие наделы лучших земель и щедрые денежные субсидии. Тем, кто не хотел работать на земле, предоставлялись привилегированные должности сельских жандармов, мелких служащих, почтовых и железнодорожных чиновников. Украинские источники указывают, что к 1938 г. в села Восточной Галичины и Волыни переселилось около 200 тыс. поляков, в городах их осело около 100 тыс.; польские авторы оценивают общее количество колонистов по меньшей мере в 100 тыс. В любом случае наплыв поляков хотя и не был настолько велик, чтобы решительно изменить национальный состав восточных территорий Польши, однако он был вполне достаточен, чтобы вызвать острое недовольство украинцев.
Хотя с переворотом Пилсудского к власти пришло более авторитарное правительство, поначалу появились признаки возможного улучшения его отношений с украинцами. Олицетворением новых тенденций стал Генрик Йозевский, в 1927 г. назначенный воеводой Волыни. Распределяя государственные земельные наделы между местными жителями, он завоевал симпатии украинского крестьянства. Пытаясь изолировать политическое руководство волынских украинцев от «разрушительного влияния» галичан, он даже пошел на некоторые политические послабления для них. Однако все его усилия в конце концов были сведены на нет религиозной дискриминацией православных волынян и непробиваемым сопротивлением местного чиновничества и польских националистов.
Серьезное ухудшение украинско-польских отношений наступило в период Великой депрессии, с особой силой ударившей по аграрным районам, населенным украинцами. Крестьяне страдали не столько от безработицы, сколько от катастрофического падения их доходов, вызванного резким снижением спроса на сельскохозяйственную продукцию. В годы кризиса чистая прибыль с одного акра (0,4 га) в мелких крестьянских хозяйствах снизилась на 70—80 %. В этих условиях резко обострилась ненависть украинских крестьян к хорошо финансируемым польским колонистам и богатым польским помещикам. Возрастало недовольство в среде украинской интеллигенции, особенно среди молодежи, не имевшей работы, поскольку небольшое количество мест, предоставляемых государством, неизбежно занимали поляки. Поэтому когда радикальные украинские националисты призвали к активному сопротивлению господству поляков, на этот призыв с готовностью откликнулась украинская молодежь.
Пацификация. Летом 1930 г. по Галичине прокатилась волна налетов на польские поместья и экономии, обычно заканчивавшихся поджогами. Было учтено около 2200 таких актов. Ответные действия правительства были массовыми и жестокими. В середине сентября крупные подразделения кавалерии и полиции обрушились на украинские села, начав кампанию так называемой пацификации (умиротворения), целью которой было наведение порядка. Действуя по принципу круговой поруки, армейские части, заняв около 800 сел, громили украинские клубы и читальни, отбирали имущество и продукты, избивали всех, кто пытался протестовать. Было арестовано около 2 тыс. украинцев, в основном гимназистов, студентов и молодых крестьян, почти треть из них попала в тюрьму на продолжительные сроки. Украинских кандидатов в депутаты сейма посадили под домашний арест, не дав им принять участие в проходивших в это время выборах, выборщиков-украинцев запугиванием принуждали голосовать за польских кандидатов.
Протесты украинцев, направленные в Лигу Наций, неожиданно обнажили перед мировой общественностью плачевное положение украинского меньшинства вообще, а во время пацификации в особенности, что стало для Европы неприятным сюрпризом. Однако если европейские (в особенности британские) политики осудили поведение поляков, то Комитет Лиги Наций обвинил в провоцировании репрессий украинских экстремистов. Хотя польское правительство довольно быстро подавило волнения, его действия были недальновидными, поскольку лишь усиливали ожесточение украинцев, давали козыри экстремистам с обеих сторон и еще больше затруднили поисни конструктивного решения проблемы.
Если на селе пацификация принесла видимость порядка, то она никоим образом не ослабила решимости молодых радикальных националистов бороться против польского режима. Организация украинских националистов (ОУН) только сменила тактику, перейдя в начале 1930-х годов к политическим убийствам польских деятелей и крупных чиновников и к налетам ыа почты для добычи денег на организационные нужды. Правительство со своей стороны только еще более укрепилось в непримиримом отношении к украинцам. Оно отменило самоуправление в селах и передало их под контроль польских чиновников. В 1934 г. в Березе Картузской был устроен концентрационный лагерь, где находилось около 2 тыс. политических заключенных, в основном украинцев. Год спустя Польша отказалась от своих обязательств перед Лигой Наций соблюдать права национальных меньшинств.
Действия правительства отражали общий поворот вправо, происходивший в Польше. В 1935 г. была принята новая конституция, урезавшая права сейма, провозгласившая наивысшей ценностью интересы государства и давшая почти неограниченные полномочия его главе – маршалу Пилсудскому. Изменилась выборная система: теперь правительство получило право утверждать или отвергать кандидатов в депутаты сейма. После смерти в том же году Пил суде кого все большую роль в правительстве стали играть военные клики.
Попытки компромисса. И в польском, и в украинском лагерях были умеренные силы, с беспокойством наблюдавшие за бесконечным польско-украинским противостоянием. С украинской стороны инициатором компромисса выступила наибольшая украинская политическая партия – «Українське національно-демократичне об’єднання» (УНДО), лидеры которой ясно осознавали бесплодность насильственных действий ОУН и последствия вызванных ими репрессий против украинцев. Поисков путей сближения от УНДО требовали также деятели довольно развитого украинского кооперативного движения, чья нормальная работа была невозможной в условиях нестабильности. Польская сторона также проявляла признаки готовности к компромиссу. В 1933 г. правительство основало «Польско-украинский бюллетень» – журнал, который должен был освещать позитивные аспекты украинско-польских отношений. Вскоре после этого премьер-министр Вацлав Едржеевич публично признал, что ошибки совершали обе стороны. Как ни парадоксально, но убийство оуновцами в 1934 г. министра внутренних дел Бронислава Перацкого ускорило процесс сближения, поскольку, к великому удовлетворению правительства, этот акт решительно осудили УНДО и митрополит Шептицкий. Так к 1935 г. сложились условия для заключения ограниченного соглашения между правительством и УНДО, получившего название нормализации.
В соответствии с договоренностью украинцы официально признавали верховенство польских государственных интересов и голосовали за новый бюджет. Правительство в ответ давало кандидатам от УНДО право принимать участие в выборах, что значительно повышало представительство украинцев в сейме. Сразу после выборов правительство пошло на ряд новых уступок. Лидер УНДО Василь Мудрый был избран вице-маршалком сейма. Вышло на свободу большинство узников Березы Картузской. Некоторые украинские кооперативы и другие экономические учреждения получили финансовые кредиты. Многим членам УНДО жизнь под Польшей начинала казаться вполне приемлемой, особенно по сравнению с теми ужасами, которые в это время переживали украинцы под Советами.
Однако нормализация не получила всеобщей поддержки среди украинцев. Оппозиционные силы в УНДО и другие украинские партии обвиняли руководство объединения в том, что оно «пробавляется крохами с польского стола». Радикальные националисты, разумеется, не признали нормализацию и продолжали свою революционную деятельность. Наконец, глубоко сидевшее в каждом украинце недоверие к полякам поддерживало всеобщий скептицизм относительно успехов сближения. Нормализацию дестабилизировали и действия многих поляков. Несмотря на распоряжение центрального правительства, почти каждый воевода, вийт или даже начальник полиции на восточных землях считал своей обязанностью придерживаться своих, неизбежно грубых и жестоких методов «ведения дел» с украинцами. В подобных действиях их с готовностью поддерживало польское меньшинство. Так, например, когда толпы поляков громили украинские учреждения, это делалось с тайного благословения властей. Польская молодежь, организованная в полувоенные вооруженные формирования, часто под предлогом поддержки законности и порядка терроризировала украинцев. В 1938 г. наводившая на всех ужас пограничная жандармерия провела «минипацификацию» на украинских землях вдоль границы с СССР.
Судя по всему, наиболее твердолобыми противниками нормализации были польские военные. С нарастанием угрозы войны в конце 1930-х годов армейское командование стало видеть в недовольных своим положением украинцах главную внутреннюю угрозу безопасности страны. Стараясь избавиться от этой проблемы или хотя бы обезопасить себя от нее, армия обратилась к тактике «разделяй и властвуй». В 1938 г. она спровоцировала шумную кампанию среди украиноязычных гуцулов, бойков и лемков, населявших Карпаты, направленную на пропаганду идеи, что эти народы являются не частью украинской нации, а самостоятельными национальными образованиями. Делались попытки превратить диалект лемков в отдельный язык, а их самих принуждали перейти из греко-католической веры в православие для того, чтобы возвести барьер между ними и галицкими украинцами. Одним из вариантов этой политики были попытки армейских чинов убедить «босоногую» украинскую шляхту, отличавшуюся от крестьян только наличием изрядно потертых дворянских титулов, что она совершенно чужда крестьянству не только в социальном, но и в национальном отношении.