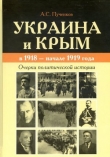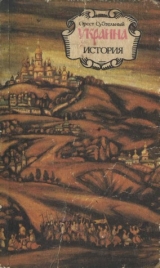
Текст книги "Украина: история"
Автор книги: Орест Субтельный
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 62 страниц)
И все же не настолько еще ослабла вера православных, чтобы они не могли поднять перчатку; брошенную польским католицизмом.
Клин клином вышибают: на учреждение иезуитских коллегий и типографий украинские магнаты, сохранившие веру отцов, ответили основанием православных типографий и школ. В 1568 г. Григорий Ходкевич приютил в своем имении в Заблуд ове (Белоруссия) московского первопечатника Ивана Федорова. В Москве его не поняли и изгнали за «святотатство» – в Заблудове помогли наладить книжное дело. Есть свидетельства о том, что и князь Юрий Слуцкий в 1570 г. основал школу и типографию в своих владениях. Много помог в возрождении православия на Волыни энергичный князь Андрей Курбский, живший здесь в 1570-х годах после побега из Московии от опричников Ивана Грозного.
Но главным и общепризнанным покровителем православной церкви стал «некоронованный король Украины» князь Константин Острожский, один из самых богатых и могущественных магнатов Речи Посполитой.
Константин Острожский и Острожская академия. Князь Острожский твердо решил не постоять за ценой для святого дела духовного возрождения. В 1578 г. в его имении на Волыни обосновывается странствующий печатник Иван Федоров, и уже в 1581 г. выходит знаменитый шедевр книгопечатания, так называемая Острожская Библия – первая печатная Библия на славянском языке. В Турове и Володимире-Волынском иждивением князя Острожского открываются две православные школы. Наконец, в 1580 г. он основал так называемую Острожскую академию.
Первоначально весь штат преподавателей новой академии, открывшейся в «столичном» городе князя – Остроге, состоял из специально по этому случаю приглашенных греков. Но постепенно в стенах академии греческие учителя подготовили себе достойную смену из наиболее одаренных учеников. По своей программе академия ни в чем не уступала лучшим иезуитским коллегиям. Здесь изучали три языка (древнегреческий, латинский, церковнославянский) и семь «свободных искусств», распределенных на так называемые «тривиум» (грамматика, риторика, диалектика) и «квадриум» (арифметика, геометрия, музыка, астрономия).
Академия в Остроге стала своеобразным центром образования и культуры, вокруг которого объединились местные интеллектуалы. Имена и труды некоторых из них дошли до нашего времени. Назовем здесь дворянина Герасима Смотрицкого (какое-то время он был ректором академии), священника Демьяна Наливайко, монаха Василя Суражского (о нем известно, что он учился в итальянских университетах), а также некоего Клирика Острожского (о котором, кроме этого псевдонима, не известно ничего). Среди иностранцев, в то или иное время связанных с академией, достойны упоминания писатель Кшиштоф Казимирский, профессор астрономии из Кракова Ян Лятос и разносторонне образованный Кирилл Лукарис, ставший впоследствии патриархом константинопольским. Именно Острожская академия вдохновила одного православного современника на такие прочувствованные строки: «И опять как солнце засияла наша вера православная: ученые мужи вернулись к Церкви Божьей, множатся печатные книги».
Таким образом, Острожская академия уже самим фактом своего существования доказала всем, кто в этом сомневался, что православная украинская мысль может стать хорошим фундаментом современного образования, науки и культуры. Однако существование академии зависело исключительно от самого князя Константина Острожского. И когда в 1608 г. он умрет, его внучка Ганна, фанатичная католичка, ни минуты не колеблясь передаст академию в руки иезуитов.
Братства. К счастью, среди покровителей высокой православной культуры оказались не только «последние из могикан» древних княжеских фамилий. Хоть и обезглавленное, лишенное элиты, украинское общество все-таки было еще слишком живым и огромным, слишком глубоко укорененным в питательную почву организмом, чтобы не взрастить в своей среде новых защитников веры, традиций, древней и самобытной культуры.
Когда в духовной брани пали замки князей – неожиданно устояли города. Те самые города, в большинстве которых православные украинцы давно уже стали меньшинством – угнетаемым, гонимым, теснимым со всех сторон, но тем более стойким и сплоченным. Благородный князь Острожский был могуществен, но одинок. Здесь, в городах, не было одиночек. Здесь православный люд сплачивался в братства.
По мнению историков, городские братства возникают в средние века. Их основная задача – содержание церквей, обеспечение их всем необходимым (свечами, иконами, богослужебными книгами и т. п.). Организованы они были по образцу цехов – с ежемесячными общими собраниями, ежегодными перевыборами исполнительных органов, членскими взносами и судами чести. Братства заботились о вдовах и сиротах своих бывших членов, опекали больницы. Нуждающиеся члены братства могли получить от него беспроцентную ссуду. Все это принесло братствам всеобщую любовь и уважение и привлекало в них с каждым днем все больше людей. В XVI в. самое влиятельное православное братство в Украине объединялось вокруг Успенского собора во Львове. Именно по его образцу устраивались братства в Галиче, Рогатине, Стрые, Комарне, Ярославе, Холме, Луцке и Киеве.
Если говорить о социальном составе братства, то поначалу они объединяли, как правило, мелких торговцев и ремесленников. Однако по мере роста их популярности и влияния в них понемногу вливались богатые купцы (во Львове это были в основном скотопромышленники). В некоторых братствах преобладали иные сословия: в Луцком – дворянство, в Киевском – духовенство. Но вот что важно: в братства принимались все православные, независимо от их принадлежности к тому или иному сословию. Для Речи Посполитой, законы которой тщательно расслаивали все население по сословному признаку, это было почти невероятно.
Впрочем, православные братства были невелики. Например, в том же Львове членов братства не могло быть больше 30, ибо таково было, как мы помним, предельное количество православных семей, которым разрешалось жить в этом городе. Соответственно в Луцке количество членов братства составляло 15 человек. Но эти маленькие, сплоченные сообщества единоверцев сделали столько добра, сколько не под силу бы и мощной организации.
Одним из главных предметов заботы братств было просвещение. В конце XVI в. Львове кое братство основало собственную школу. Известно, что за исключением грека Арсения Елассонского все учителя в этой школе были местные уроженцы, и среди них – Зизаний Тустановский, Кирило Ставровецкий, Иов Борецкий (будущий митрополит).
Взявшись за школьное дело, эти юноши-идеалисты (а все учителя были молоды – старики, как правило, за такие дела не брались) поставили самим себе и всем, кто в будущем дерзнул бы принять от них эстафету, весьма строгие, если вообще в какое-либо время выполнимые, условия. О них мы узнаём из дошедшего до нас любопытного текста под названием «Порядок школьный», где между прочим сказано, что учитель должен быть набожным, мудрым, скромным, выдержанным, не вором, не пьяницей, не клеветником, не сребролюбцем. Даже сердясь и наказывая ученика, он должен делать это «не тиранеки, но учительски».
Как бы то ни было, осознание львовскими учителями всей меры своей ответственности за будущее соотечественников и единоверцев, очевидно, помогло им достичь вполне заметных и даже впечатляющих успехов, ибо вскоре и другие украинские братства стали обращаться к ним за помощью и советом. К началу XVII в. братские школы были открыты по всей Украине.
Львовское же братство еще до создания своей знаменитой школы положило начало и другому важному направлению в деятельности братств – книгопечатанию. Именно оно помогло прибывшему во Львов Ивану Федорову устроить типографию и в 1574 г. издать свою первую книгу «Апостол» – именно этот год считается началом книгопечатания в Украине. В 1582 г, Федоров из Острога вновь перебирается во Львов и год спустя умирает здесь в страшной нищете. Федоровская же типография после смерти первопечатника могла достаться его иностранным кредиторам однако была выкуплена Львовским братством. Так Львов становится центром православного книгопечатания.
Распространение школ и книг пробудило к новой жизни тех самых украинцев, которых их соседи считали безнадежными консерваторами и лежебоками Сотни европейски образованных и в то же время воспитанных в национальных традициях выпускников братских школ, став странствующими учителями, разбредались по городам и селам. Они не только несли свет современных знаний, но и укрепляли в соотечественниках чувство собственного достоинства и дух непримиримости к навязываемому поляками католицизму, Все это с новой силой утверждало решимость украинцев до конца стоять за веру, И такая решимость вскоре начала приносить скромные, но вполне осязаемые плоды. Так, во Львове в конце 1580-х годов православные украинцы, сплотившись вокруг братства, оказали успешное сопротивление польским попыткам навязать им грегорианский календарь.
Во всех этих благотворных переменах в умонастроении многих украинцев заслуги братств несомненны. Были, однако, и у самих братств свои проблемы, среди них вечная и главная – бедность И хотя новые братства росли как грибы после дождя, между ними так и не установилось постоянных связей и взаимопомощи, не было и какого-то центрального органа, который мог бы координировать их деятельность. К тому же и сама эта деятельность отличалась крайним непостоянством. Даже во Львове, не говоря уж о других братствах, все зависело буквально от нескольких преданных делу людей. И случись им, не дай Бог, разочароваться, утомиться или (что часто случалось с педагогами) перебраться на новое место в поисках более надежной или лучше оплачиваемой службы, как тут же вся работа братства сворачивалась: часто – надолго, иногда – навсегда.
Наконец, весьма серьезные противоречия в деятельности братств были связаны с их вмешательством в дела церкви, с вечными спорами о допустимых пределах такого вмешательства. Как и следовало ожидать, притязания активных горожан на участие, например, в доходах богатого местного монастыря или на истолкование Библии наталкивались на сопротивление епископов, считавших такие претензии чрезмерными. Примером подобного конфликта может служить затяжная и отчаянная распря Львовского братства и епископа львовского Балабана. И так вместо того, чтобы помогать не только моральному, но и организационному укреплению православной церкви, братства часто лишь добавляли неразберихи и анархии в ее и без того нелегкую жизнь.
Брестская уния 1596 годаИдея воссоединения католической и православной церквей в принципе не отвергалась ни той, ни другой с самого момента их раскола в 1054 г. В Украине первые попытки объединения церквей имели место еще в XIII в., а после Флорентийского собора 1439 г. идея эта едва не осуществилась. Однако на пути воплощения этой в сущности весьма привлекательной идеи стояли века недоразумений и взаимных подозрений.
Поскольку католическая церковь на протяжении многих столетий придавала решающее значение укреплению своих рядов и организационной мощи, то православные особенно опасались разговоров о воссоединении, усматривая за ними попытку подчинить Восточную церковь Западной. И, надо сказать, опасались не без оснований. На протяжении всего XVI века убежденные в своем превосходстве польские католики, собственно, и не скрывали, с какой целью они склоняли (а порой и открыто принуждали) к так называемой унии православных украинцев. Поляки надеялись, что с введением унии произойдет немедленное и полное растворение православных украинцев среди прочего населения Речи Посполитой, а католицизм существенно расширит пределы своего влияния на востоке.
В 1577 г. широкий резонанс получает знаменитое рассуждение Петра Скарги «О единстве Церкви Божьей». В то же время иезуиты систематически вели и, так сказать, индивидуальную работу среди ведущих украинских магнатов, дабы склонить их к поддержке идеи унии хотя бы в принципе – чего им и удалось добиться от многих, и даже от самого князя Острожского. А уж король Сигизмунд III, ревностный католик, использовал все свое влияние для того, чтобы от принципиального согласия перейти к непосредственному исполнению иезуитской затеи. У короля могли быть и более веские причины для ее поддержки, чем религиозное рвение,– причины политические: уния еще теснее привязала бы Украину и Белоруссию к Речи Посполитой и отдалила от влияния соседней православной Московии.
Как ни странно, но непосредственный импульс к заключению унии был дан православной стороной. В 1590 г. православный епископ Львова Гедеон Балабан, доведенный до бешенства непрекращающимися стычками с братством, а более всего – бестактным, по его мнению, вмешательством в эти «домашние дрязги» константинопольского патриарха, поставил вопрос об унии с Римом на тайном съезде православных епископов в Белзе. Нашлись еще три епископа, которые согласились с Балабаном: да, вопрос заслуживает того, чтобы вернуться к нему после детального изучения. Этими тремя епископами были Кирило Терлецкий из Луцка, Дионисий Збируйский из Холма и Леонтий Пелчицкий из Турова. Позднее к заговорщикам примкнул Ипатий Потий из Володимира – авантюрист знатного рода, лишь недавно рукоположенный в православные священники, а до этого успевший побывать в кальвинистах. Именно он и Терлецкий возглавили заговор епископов.
Конечно, не так-то легко разобраться в мотивах заговорщиков, в этой причудливой смеси своекорыстия и «идейных» соображений о выгодах или невыгодах самой церкви. Им хотелось порядка и дисциплины среди православных – такого, как у католиков. Хотелось, чтобы авторитет епископа несмотря ни на что был непререкаем в глазах всего духовенства и мирян. Они заявляли своей пастве, что, став частью католической церкви, она получит наконец равные со всеми права в Речи Посполитой: и мещан больше никто не обидит в их городах, и дворян не обойдут выгодными местами по службе. Да и карьера самих епископов не замедлила бы резко взлететь: в случае уравнения их в правах с католическими иерархами они получали места в Сенате и могли реально влиять не только на церковные, но и на государственные дела.
Вдохновленные столь радужной перспективой, заговорщики в условиях строгой конспирации провели серию переговоров с королевскими чиновниками, католическими епископами и папским нунцием. Наконец в июне 1595 г. четыре православных епископа официально объявили о своей согласии привести свою церковь к унии с Римом. Они обязались безоговорочно признавать авторитет папы во всех вопросах веры и догмата – взамен на гарантии сохранения традиционной православной литургии и церковных обрядов, а также традиционных прав священников вроде права обзаводиться семьей. И уже в конце 1595 г. Терлецкий и Потий отправились в Рим, где папа Клемент VIII провозгласил официальное признание унии.
Только после этого весть об унии стала достоянием православной общины. Разумеется, негодованию украинцев не было предела. И даже такие их лидеры, как князь Острожский, внутренне уже склонявшиеся к идее унии, были взбешены тем, как коварно, нагло и бездарно эта идея была проведена в жизнь. В открытом письме к четырем епископам, получившем широкий резонанс, князь называл заговорщиков «волками в овечьей шкуре», предавшими свою паству, и призывал верующих к неподчинению самозванным вершителям их судеб. Направив официальный протест королю (разумеется, этот протест был проигнорирован), князь Острожский в то же самое время вступает в антикатолический сговор с протестантами, угрожая поднять вооруженное восстание. По всей Украине и Белоруссии православное дворянство срочно съезжалось на местные собрания (сеймики), чтобы гневно осудить унию. И даже епископы Балабан и Копыстенский, напуганные размахом протеста, отреклись от собратьев-заговорщиков и сделали формальные заявления о том, что и они вместе со всеми православными выступают против унии.
Для разрешения конфликта в 1596 г. в Бресте (Берестье) созывается церковный собор. Никогда прежде не знали Украина и Белоруссия столь многолюдных церковных собраний. Противников унии представляли два вышеупомянутых епископа, православные иерархи из-за границы, десятки выборных представителей дворянства, более 200 священников и множество мирян. Чтобы обеспечить их безопасность, князь Острожский явился на собор во главе собственных вооруженных отрядов. Напротив, ряды сторонников унии были весьма и весьма малочисленны и состояли всего лишь из четырех православных епископов, а также горстки католических иерархов и королевских чиновников.
Едва начавшись, переговоры зашли в тупик: стало очевидно, что стороны общего языка не найдут. Понимая бессмысленность дальнейших препирательств, униаты прямо заявили, что никакие доводы разума не заставят их отречься от унии. И как ни протестовали православные, к каким угрозам ни прибегали – все было бесполезно, ибо выходов из такой ситуации оставалось только два: заставить униатов отступиться – или заставить короля лишить их епископского сана. То и другое оказалось совершенно невозможным.
Так украинское общество раскололось на две неравные половины: с одной стороны – православные магнаты, большинство духовенства, народ; с другой – бывшие иерархи православной церкви с кучкой своих приверженцев. Однако на эту вторую чашу весов был брошен столь весомый аргумент, как королевская поддержка,– и так какое-то время обе чаши пребывали в равновесии, т. е. в той парадоксальной ситуации, когда иерархи обходились без церкви, а церковь – без иерархов... Начавшись попыткой объединения христианских церквей и всех верующих христиан, Брестская уния привела к их дальнейшему разъединению, ибо теперь на месте двух церквей существовали уже три – католическая, православная и униатская, или греко-католическая, как ее впоследствии стали называть.
Религиозная полемика. Ее невиданный всплеск породили именно события, связанные с Брестской унией. Началась настоящая словесная война. Как и следовало ожидать, первым «выстрелил» неутомимый иезуит Скарга: его памфлет в защиту Брестской унии появился уже в 1597 г.
Ответ из центров православного образования, науки и культуры не заставил себя долго ждать. В том же году был напечатан по-польски (а в следующем, 1598, и по-украински) «Апокрисйс» Христофора Филалета. Под этим псевдонимом скрывался дворянин из Острога Мартин Вронский. В своем полемическом произведении он раскрывал махинации епископов-униатов и доказывал полную законность проведенного в Бресте собора православной церкви, фактически опротестовавшего унию. Как истинный шляхтич, не чуждый к тому же идей протестантизма, Вронский отвергал претензии епископов на исключительное право решать все вопросы церковной жизни.
Еще один член острожского кружка – анонимный Клирик Острожский – также оставил ряд остросатирических памфлетов против греко-католиков.
Позднее, в 1605 г., последовал словесный залп из Львова. Неизвестный автор изданного здесь трактата «Пересторога» («Предупреждение») задался целью разоблачить эгоистические мотивы, которыми руководствовались учредители унии.
Что же касается униатов, то лишь один из них – Ипатий Потий – был способен отстаивать свою затею пером. Впрочем, к его услугам были хорошо разработанные аргументы и приемы иезуитов, которыми он и воспользовался в своем изданном в 1599 г. по-украински «Анти-Апокрисисе»: как можно догадаться по названию, это был ответ Броневскому. Отдавая должное автору «Анти-Апокрисиса» как писателю, следует заметить, что написана его работа весьма темпераментно.
Но самая большая литературная известность выпала на долю такого участника интересующей нас сейчас полемики, как Иван Вышенский. Этот, пожалуй, самый выдающийся православный писатель своего времени (родился около 1550 г., умер в 1620-е годы), галичанин, большую часть своей жизни провел как монах-отшельник в Греции, на горе Афон. Будучи убежденным защитником православия, владея простым и сильным слогом, он беспощадно расправлялся с униатами в таких своих произведениях, как «Послание епископам – отступникам от православия» и «Краткословный ответ Петру Скарге». Впрочем, этот выдающийся аскет и страстный проповедник в своих посланиях не щадит и самих православных, обвиняя их в эгоизме, потакании собственным прихотям. В том, что церковь дошла до жизни такой, до унижения и позора, по мнению Вышенского, повинна сама паства, и прежде всего растленная знать, горожане, не знающие ничего, кроме наживы, но больше всех – духовенство.
Голос Ивана Вышенского – одинокий голос человека из народа. Этот монах-отшельник был единственным писателем своего времени, оплакавшим закрепощение крестьян и осмелившимся осудить крепостников-помещиков. От этой, как и от всех других болезней украинского общества он видел лишь одно средство: раз и навсегда отказаться от всех нововведений, включая и такие «языческие хитрости», как грамматика, риторика, диалектика и им подобные «дьявольские искушения», и с миром, в простоте душевной, вернуться к старой доброй православной вере.
Литературное наследие полемистов невелико по объему: если собрать все написанное представителями обоих враждующих лагерей за несколько десятилетий их дебатов, то наберется не более двух – трех десятков трудов. И все же значение этих ходивших по всей стране религиозно-полемических памфлетов трудно переоценить. Тщательно перечитываемые, они вызывали жаркие споры и при дворах тех немногих магнатов, которые сохранили верность православию, и в отдаленных имениях мелкопоместной православной шляхты, и в тесных комнатах, где устраивали свои собрания члены православных братств. По сути это была первая в Украине идейная полемика, захватившая общество в целом. И эта полемика помогла украинскому обществу лучше понять себя и окружающий мир.
* * *
В конце XVI – начале XVII в. культурно-религиозные противоречия вышли на поверхность общественной жизни. Ясно обозначился целый ряд проблем, чреватых дальнейшими осложнениями.
Прежде всего, нарастающая напряженность в отношениях православных украинцев с католиками-поляками не только получила развернутое идеологическое обоснование, но и достигла эмоционального предела. Отныне католическая Польша становится полной противоположностью общественного идеала украинцев. Но трагедия состояла в том, что в сложившихся условиях такая открытая конфронтация неминуемо вела к потере Украиной ее дворянской элиты.
Украинское дворянство было поставлено перед трудным выбором. С одной стороны – родная, но истощенная почва духовной традиции, украинская культура, практически лишенная возможности нормального развития. С другой стороны – внешне привлекательная, бьющая через край культурная жизнь католической Польши. Надо ли удивляться, что огромное большинство украинских дворян сделало свой выбор в пользу католицизма и полонизации, не заставившей себя долго ждать. И эта потеря естественной элиты имела эпохальное значение для всей последующей истории Украины.
Еще одним далеко идущим последствием православнокатолической конфронтации и событий, связанных с Брестской унией, стало разделение самих украинцев на православных и греко-католиков. Так создавалась почва для множества резких отличий, которые со временем появятся между восточными и западными украинцами.
Впрочем, вряд ли будет правильно закончить эту главу на печальной ноте. В конце концов, те же самые религиозные противоречия вызвали и культурный всплеск в украинском обществе, показали жизнеспособность его духовного наследия. А конфронтация с поляками способствовала более четкому осознанию украинцами своей самобытности.