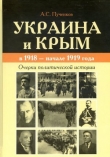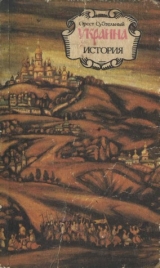
Текст книги "Украина: история"
Автор книги: Орест Субтельный
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 42 (всего у книги 62 страниц)
Благодаря наличию различных вариантов коммунизма, вызревших в таких странах, как, например, бывшая Югославия или Китай, в настоящее время признание получила идея о том, что каждый народ может идти к коммунизму «своим путем». Нетрудно заметить, что именно украинские – так же, как и грузинские или среднеазиатские большевики, способствовали установлению советской власти в 1917—1920 гг.,– первыми стали на этот путь, породив феномен национал-коммунизма. Сторонники этого течения были верными коммунистами, искренне считавшими марксизм-ленинизм единственно правильным путем человечества к спасению. Однако при этом они полагали, что коммунизм может достичь оптимальных результатов лишь в том случае, если приспособить его к специфическим местным условиям. Такой взгляд подразумевал, что русский путь не является единственным, и пути к коммунизму, избранные другими народами, не менее верны. Иными словами, речь шла об использовании национальной идеи в строительстве нового общества, о создании коммунизма с «национальным лицом».
Поскольку украинское национальное движение в Восточной Украине исторически было тесно связано с социалистической традицией, идеи национального коммунизма довольно легко нашли сторонников среди многих украинцев в большевистском лагере. Еще в начале 1918 г. двое коммунистов, Василь Шахрай (первый нарком иностранных дел Украины) и его коллега Сергей Мазлах (старый большевик еврейского происхождения), обрушились на партию с критикой за ее лицемерную политику по отношению к национальным движениям и к украинскому в особенности. Явно имея в виду русский национализм, буквально пропитавший партию, они в своих брошюрах «Революция на Украине» и «К текущему моменту на Украине» подчеркивали, что «пека национальный вопрос остается нерешенным, пока одна нация будет правящей, а другая должна будет ей подчиняться, то, что мы имеем, нельзя назвать социализмом».
Спустя год национал-коммунистические взгляды в КП(б)У вновь дали о себе знать, на этот раз в виде так называемой федералистской оппозиции, возглавленной Юрием Лапчинским. Эта группировка требовала полной независимости украинского советского государства, которое должно было иметь всю полноту власти, в том числе в военной и экономической областях, а также считала необходимым существование независимого центрального партийного органа, никоим образом не подчиненного российской компартии. Когда Москва отказалась даже рассмотреть эти требования, Лапчинский и его сторонники в знак протеста вышли из партии, что вызвало громкий скандал в этом благородном семействе.
Когда политика украинизации уже развернулась с достаточной силой, вновь оживились национал-коммунистические тенденции, обычно связываемые с именами наиболее ярких их представителей.
«Хвылевизм». Автором самого откровенного и эмоционального призыва отказаться от «русского пути» был Микола Хвылевой. Этот выдающийся деятель украинского культурного возрождения 1920-х был выходцем из мелкопоместной дворянской семьи с Восточной Украины (настоящая его фамилия – Фитилев). Убежденный интернационалист, он примкнул к большевикам во время гражданской войны, надеясь помочь им в построении всеобщего и справедливого коммунистического общества. После гражданской войны Хвылевой стал одним из популярнейших украинских советских писателей, создателей авангардистской писательской организации «Вапліте» и постоянным критиком украинско-российских отношений, особенно в области культуры.
Будучи идеалистически настроенным коммунистом, Хвылевой пережил горькое разочарование, столкнувшись с вопиющими несоответствиями между теоретическими выкладками и практическими действиями большевиков в национальном вопросе, а также с русским шовинизмом партийных бюрократов, скрывающих свои предубеждения, по его выражению, «за Марксовой бородой». Стремясь спасти революцию от пагубного воздействия русского национализма, Хвылевой решил показать его истинное лицо. Облачая свои аргументы в одежды литературной критики, он указывал на то, что «русская литература со своим пассивно-пессимистическим духом исчерпала себя и остановилась на перекрестке», и потому советовал украинцам отмежеваться от нее: «Поскольку каждый может избрать свой собственный путь развития, вопрос, стоящий перед нами, заключается в следующем: на какую из мировых литератур держать курс? В любом случае не на русскую. Это совершенно ясно... Суть дела состоит в том, что столетиями русская литература довлела над нами. Будучи хозяином положения, она приучила нас к рабскому подражательству. Искать источник вдохновения в русской литературе было бы для нашего молодого искусства равнозначно остановке в росте. Мы ориентируемся на искусство Западной Европы, на его стиль, его мировосприятие».
Подчеркивая, что украинцы сами вполне способны к созданию социалистического искусства, Хвиле вой утверждал, что «молодая украинская нация – украинский пролетариат и его интеллигенция – являются носителями великих революционных социалистических идей, поэтому они не должны ориентироваться на всесоюзное мещанство: на его московских сирен». Страстный призыв Хвылевого к украинцам идти собственным путем нашел наиболее яркое выражение в его знаменитом лозунге «Геть від Москви!»
Хотя идеи Хвылевого были обращены в основном к молодым писателям и сводились к поиску новых литературных образцов, они все же имели серьезный политический подтекст. При этом следует учитывать, что подобные антирусские пассажи были проявлением не столько украинского национализма, сколько революционного интернационализма. Хвылевой был искренне убежден, что мировая революция никогда не будет успешной, если какая-то одна нация (в данном случае русская) монополизирует ее.
«Шумскизм». Опасность, которую представляли взгляды Хвылевого для советского режима, усиливалась тем обстоятельством, что они находили поддержку не только в литературных кругах, но и в самой компартии Украины, в первую очередь среди бывших боротьбистов. Лидером последних был нарком просвещения Олександр Шумский, который не только отказался осудить взгляды Хвылевого, как того требовали промосковские члены партии, но и сам выступил с критикой Москвы.
У боротьбистов были свои причины считать позицию партии в национальном вопросе неискренней. Когда Шумский и его товарищи присоединились к большевикам, им были поручены довольно высокие посты в правительстве – с тем чтобы придать ему «украинский оттенок». Однако незамедлительно после победы большевиков почти все сотрудничавшие с ними боротьбисты были понижены в должности или вообще исключены из партии. С началом украинизации, когда опять появилась необходимость создать иллюзию, что Украиной правят украинцы, по велению Москвы оставшиеся в партии боротьбисты и наиболее выдающийся из них, Шумский, были вновь подняты на щит. Именно в это время нарком просвещения решил разоблачить манипуляции Москвы.
Осуждая со своей стороны, как и Хвылевой, русский шовинизм, Шумский развернул критику священнейшего большевистского принципа – централизма. В письме к Сталину в начале 1926 г. он обратил внимание на расцвет украинского национального возрождения и доказывал, что если это широкое и динамичное движение будет контролироваться именно украинскими коммунистами, то это только послужит интересам партии. В противном случае, указывал он, под влиянием роста национального самосознания украинцы, которые никогда не отличались особой симпатией к большевикам, могут восстать против того, что они считают чуждым режимом, и свергнуть его. Дабы избежать такого варианта развития событий. Шумский предложил назначить украинских коммунистов Григория Гринько и Власа Чубаря на посты главы правительства и генерального секретаря ЦК КП(б)У, предварительно отозвав ставленников Москвы неукраинского происхождения, таких как Эммануил Квиринг (латыш) и Лазарь Каганович (русифицированный еврей). Эти предложения, представленные как средство укрепления позиций коммунизма, были ничем иным, как путем к отбору украинского политического руководства в Украине, а не в Москве.
Взгляды Шумского вызвали настоящий переполох среди коммунистов как в Советском Союзе, так и за рубежом. Сталин указывал, что «товарищ Шумский не отдает себе отчета в том, что на Украине,где кадры местных коммунистов слабы, подобные настроения могут принять в некоторых своих проявлениях характер борьбы против «Москвы» в целом, против русских вообще, против русской культуры и ее величайшего достижения – ленинизма».
Если идеи Шумского решительно осуждались верноподданными партийцами Харькова и Москвы, то в рядах действовавшей в Галичине Коммунистической партии Западной Украины (КПЗУ) они встретили сочувствие и поддержку. Лидер западноукраинских коммунистов Карло Максимович использовал аргументы Шумского на конгрессе Коммунистического Интернационала, чтобы выступить против поведения Москвы в отношении украинцев. К «делу Шумского» проявили интерес даже некоторые западноевропейские социалисты. Немецкий социал-демократ Эмиль Штраус заявил, например, что «европейский социализм имеет все основания морально поддерживать борьбу украинского народа за свободу. Со времен Маркса одной из лучших традиций социализма была его поддержка борьбы против любой формы социального и национального угнетения».
«Волобуевщина». В начале 1928 г. в среде украинских коммунистов возник новый «уклон». Его олицетворением стал молодой украинский экономист русского происхождения Михаил Волобуев. Подобно Хвылевому в литературе и Шумскому в политике Волобуев намеревался показать несоответствие между теорией и практикой большевиков в области экономики. В двух статьях, опубликованных в «Большевике Украины» – теоретическом журнале КП(б)У, Волобуев доказывал, что при советской власти Украина остается на положении экономической колонии России – так же, как это было в царские времена. Свои доводы он подкрепил тщательным анализом статистических данных, из которых следовало, что в ущерб Украине, остающейся на положении периферии, размещение тяжелой индустрии по-прежнему осуществляется в российском центре. Кроме того, Волобуев пришел к выводу, что экономика СССР не является единым целым, а представляет собой комплекс разнородных экономических компонентов, один из которых – Украина. Любой из этих компонентов вполне способен не только существовать самостоятельно, но и включиться в мировое хозяйство, не пользуясь посредничеством российской экономики.
На данном этапе коммунистическая партия еще была в состоянии пойти на такие послабления, как украинизация. Она даже могла признать некоторые свои грехи, вроде наличия русского шовинизма в ее рядах. Однако она никак не могла допустить распространения взглядов Хвылевого, Шумского и Волобуева, поскольку они в любом варианте вели к подрыву ее господства в Украине. Даже такой убежденный сторонник украинизации, как Скрипник, считал подобные «националистические уклоны» смертельной угрозой для партии и повел борьбу против их сторонников.
Не удивительно, что сразу же после проявления каждого из описанных «уклонов» его автор становился объектом жесточайшего давления, его принуждали отказываться от своих взглядов и каяться в совершении разнообразных «грехов». Все трое после попыток защищаться покаялись. В конце 1928 г. Хвылевой вернулся к литературной деятельности, Шумский был отправлен на второразрядную партийную работу в Россию, Волобуев же канул в небытие. Во время сталинских чисток 1930-х годов об их «грехах», однако, вспомнили, и многие национал-коммунисты поплатились жизнью за свое прошлое.
Чтобы правильно понять причины появления национал-коммунистических тенденций, следует, кроме прочего, увязать их с событиями внутри партии. После смерти Ленина в большевистской верхушке развернулась отчаянная борьба за власть. Внутрипартийный контроль и дисциплина ослабли, что и привело к расцвету разнообразных фракций и идеологических течений. Однако этот период относительной терпимости и плюрализма, открытого соперничества идей приближался ко внезапному и жестокому концу.
Подъем культуры1920-е годы стали периодом невиданного подъема украинской культуры, временем интенсивных поисков и находок, настоящего новаторства. Некоторые авторы даже называют этот период культурной революцией или возрождением. Такой многоцветный всплеск творческой энергии стал возможным во многом благодаря тому, что коммунистическая партия, озабоченная главным образом укреплением своего политического господства, еще не была в состоянии полностью монополизировать область культуры. К тому же расширение образования на украинском языке создало для культуры украинцев такую основу, которой они долгое время были лишены в Восточной Украине. Наконец, благодаря тому, что такие важнейшие рычаги украинизации, как наркомат просвещения, находились в руках истинных патриотов – Гринько, Шумского и Скрипника, украинская культура могла рассчитывать на поддержку государства.
Впрочем, первопричиной этого широкого культурного возрождения была революция. Хотя уход в эмиграцию значительной части старой интеллигенции и затруднил национальный культурный рост, недостаток интеллектуальных сил с лихвой был возмещен появлением целой плеяды творческих личностей. Многие из этих новых дарований стояли вне политики и верили в возможность служения «чистому искусству». Другие – в основном боротьбисты и национал-коммунисты – были пылкими революционерами-романтиками. С крушением надежд на государственную независимость многие из них увидели в культурном творчестве альтернативный способ выражения национальной самобытности своего народа.
Революция привнесла в культуру дух новизны, чувство освобождения от пут и предрассудков старого мира. Перед украинской культурой встали новые, часто болезненные вопросы: в каком направлении развиваться, на какие идеалы ориентироваться? Вдохновленные сознанием собственной миссии и расширением сферы применения своим талантам, писатели, ученые, деятели искусства с энтузиазмом взялись за создание нового культурного пространства.
Литература. Настроения новизны и свежести с особой силой проявились в литературе. Писатели-марксисты считали, что революция должна реализовать себя не только в политической или социальной, но и в литературной области. Исходя из этого «буржуазному» искусству прошлого надлежало уступить место новому, пролетарскому искусству. При этом все же оговаривалось, что «прийти к единению во всемирном масштабе пролетарское искусство может только идя национальными путями».
Стремление создать пролетарскую культуру в России привело к созданию писательской организации «Пролеткульт», основывавшейся на двух ключевых принципах: возможности создать пролетарскую культуру, отбросив традиции и представления прошлого, и необходимости участия широких народных масс в этом процессе. «Пролеткульт» связывался в сознании многих с русской городской культурой, поэтому он не пользовался популярностью среди украинцев. Однако его идеи оказали серьезное влияние на появление и развитие так называемых массовых литературных организаций в Украине.
В 1922 г. была создана первая подобная организация – «Плуг», возглавленная Сергием Пилипенко. Заявив, что массы (для Украины это означало – крестьянство) способны создать тот тип литературы, который им нужен, организация создала целую сеть писательских кружков, очень скоро объединивших около 200 писателей и тысячи начинающих любителей. Один из деятелей «Плуга» так сформулировал кредо своей организации: «Задача нашего времени в области искусства – спустить его с пьедестала на землю, сделать его близким и понятным каждому». Спустя год появилась еще одна литературная группировка – «Гарт», которую возглавил Василь Эллан-Блакитный,– также ставившая своей целью создание пролетарской культуры в Украине. При этом члены «Гарту» все-таки довольно осторожно относились к идее «массовости», опасаясь, что она приведет к снижению уровня искусства.
Наряду с этими промарксистскими организациями возникли небольшие группировки «непролетарских» писателей и художников, не связывавшие себя с какой-либо определенной идеологией. Это были, например, символисты, среди которых своим талантом выделялся Павло Тычина, футуристы, возглавляемые Михайлем Семенко, неоклассики со знаменитыми Максимом Рыльским и Миколой Зеровым. В большинстве все они были сторонниками идеи, высказанной одним из символистов, Юрием Меженко, который считал, что «творческая индивидуальность может творить только поднявшись над массой, но сохраняя при всей независимости чувство национальной общности с ней». Поскольку все литературные группы и организации имели свои печатные органы, на страницах которых пропагандировались их взгляды и критиковались идеи оппонентов, очень распространенным явлением стали литературные дискуссии.
В 1925 г. после смерти Блакитного распался «Гарт». В том же году некоторые бывшие его члены во главе с Хвылевым (драматург Микола Кулиш, поэты Тычина и Бажан, прозаики Петро Панч, Юрий Яновский, Иван Сенченко) создали «Вапліте» («Вільну академію пролетарської літератури») – элитарную писательскую организацию. Озабоченные тем, что дух «просвитянства» и «массовости», насаждаемый «Плугом», будет способствовать дальнейшей провинциализации украинской культуры, X вы левой и его товарищи считали важнейшей задачей национальной литературы достижение высокого литературно-художественного и эстетического уровня. Они призывали к ориентации на Европу и традиционные общечеловеческие духовные ценности мировой литературы, к провозглашению культурной независимости Украины от Москвы. Активная пропаганда Хвылевым этих взглядов вызвала серьезную полемику, обычно называемую «литературной дискуссией 1925—1927 гг.», однако круг вопросов, поднятых в ней, выходил далеко за рамки чисто литературных проблем.
Позиции «Вапліте», охарактеризованные как «проявления буржуазно-националистической идеологии», стали объектом нападок не только литературных оппонентов – Пилипенко и членов «Плуга», но и многих членов коммунистического руководства в Украине. Даже Сталин указал на опасность взглядов Хвылевого. В 1927 г. с целью не допустить распространения «националистических» идей в литературе была создана просоветская писательская организация – ВУСПП («Всеукраїнська спілка пролетарських письменників»), значительно усилился партийный надзор за литературным творчеством.
Новаторская литературно-художественная среда способствовала появлению произведений высокого уровня. На этот период, к примеру, приходится расцвет творчества двух выдающихся украинских поэтов – Павла Тычины и Максима Рыльского. Уже в 1918 г., сразу же после выхода в свет первого поэтического сборника «Сонячні кларнети», Тычина приобрел известность блестящего лирика. Его следующие публикации – сборники «Замість сонетів і октав» (1920), «Вітер з України» (1924) – дали примеры такого мастерского владения словом, способности передать ритм и мелодику народных песен, красоту родного края, что не оставляли никаких сомнений в том, что эти произведения стали настоящими вехами в развитии украинской поэзии. Полной противоположностью Тычине был Рыльский, сын известного украинофила XIX в. Его поэтические сборники «Під осінніми зорями» (1918), «Синя далечінь» (1922), «Тринадцята весна» (1926) можно считать образцами строгой, философской поэзии, уходящей корнями в западную классическую традицию. Среди многих других интересных поэтов, творивших в это время, следует упомянуть Миколу Зерова, Павла Филиповича, Михайла Драй-Хмару, Евгена Плужника, Володимира Сосюру, Миколу Бажана, Тодося Осьмачку.
В прозе одной из главных тем было влияние революции и гражданской войны на жизнь общества и отдельных личностей, мир их чувств. В «Синіх етюдах» Хвылевого (1923), написанных с замечательным чувством слова, где соединяется романтизм и грубый реализм, революция является предметом поклонения, в «Осені» и «Я» (1924) уже чувствуются противоречивое отношение к ней, растущее чувство утраты иллюзий. С истинным мастерством выписаны портреты украинских крестьян, поднимающихся на борьбу с чуждыми силами, в произведениях Григория Косынки – выходца из бедной крестьянской семьи (кем, впрочем, были многие украинские писатели),– таких, например, как «У житах» (1926). Скептик и пессимист Валерьян Пидмогильный в романе «Місто» (1928) дал описание того, как украинскому крестьянину, попавшему в тогдашний город, удается добиться процветания, отказавшись от истинных крестьянских ценностей и пустив в ход худшие особенности крестьянской натуры. Мастер сатиры Иван Сенченко высмеивал бесхребетных приспособленцев, которых плодила советская система («Із записок холуя», 1927). В романе Юрия Яновского «Чотири шаблі» (1930) даны яркие описания крестьянских повстанцев, навевающие воспоминания о духе вольности запорожских казаков. Одним из популярнейших прозаиков был юморист Остап Вишня, чьи «непочтительные» юморески читались миллионами.
Наиболее выдающейся фигурой среди драматургов был Микола Кулиш. Три его известнейших пьесы – «Народний Малахій» (1928), «Мина Мазайло» (1929) и «Патетична соната» (1930) – стали сенсациями благодаря своей модернистской форме и трагикомическому освещению новой советской действительности с ее русским шовинизмом, «малороссийским» мировосприятием, анахроничным украинским национализмом и духовной недоношенностью ортодоксальных коммунистов. Две первых пьесы были поставлены известным театром Леся Курбаса «Березіль». Партийные бонзы, ошарашенные этими постановками, запретили показ «Патетично! сонати» в Украине, однако спектакль с большим успехом шел в театрах Москвы и Ленинграда.
Мировой известности добился в новом тогда виде творчества – кинематографе – Олександр Довженко, чьи фильмы «Звенигора» (1927), «Арсенал» (1929) и «Земля» (1930) раскрывали тему влияния революции и советской власти на украинцев.
Образование и наука. Дух эксперимента и новаторства утверждался и в области образования. Поскольку задачей советской власти было создание нового социально-экономического строя, она всячески приветствовала создание новых типов школ и выработку новых методик воспитания и обучения, которые могли бы ускорить процесс разрыва с «буржуазным прошлым». Советская педагогика основывалась на необходимости связи обучения с воспитанием в духе коммунистических ценностей и идеологии. В соответствии с этим в школах вводились программы, соединяющие трудовое воспитание и обучение, общее и техническое образование, вводился принцип политехнической школы. Классическое образование, гуманитарные дисциплины отошли на второй план. Религиозное воспитание было запрещено. Значительную популярность получили теории знаменитого педагога Антона Макаренко, в соответствии с которыми в развитии детей главную роль играет социальная среда, а не наследственность.
Хотя педагогическая ценность некоторых из экспериментов того времени весьма сомнительна, нельзя не заметить успехов в плане доступности образования широким массам, доселе невиданной. Обучение в начальной семилетней школе, а также в профессионально-технических и средних специальных учебных заведениях было бесплатным, и дети рабочих и крестьян имели все возможности получить его. Не случайно только в 1923—1925 гг. численность учеников в школах Украины выросла с 1,4 млн до 2,1 млн. Соответственно на протяжении 1920-х годов значительно повысился уровень грамотности – с 24 до 57 %. И все же миллионы взрослых еще оставались за чертой грамотности, а свыше 40 % детей не получали элементарного образования.
Значительные изменения претерпела и система высшей школы. Университеты были реорганизованы в многочисленные институты народного образования (ИНО) – медицинские, физические, технические, сельскохозяйственные и педагогические. Главной их задачей была подготовка руководящих кадров и специалистов для народного хозяйства и просвещения. Хотя обучение в большинстве этих институтов было платным, дети бедного крестьянства и рабочих (составлявшие большинство студентов) от платы освобождались. Из приблизительно 30—40 тыс. студентов высших учебных заведений Украины конца 1920-х годов около 53 % были украинцами, 20 % – русскими и 22 % – евреями. Украинцы составляли большинство в педагогических и сельскохозяйственных вузах, русские – в области технических и точных наук и административно-управленческих дисциплин, евреи – в области медицины и торговли.
1920-е годы стали также периодом возрождения науки, особенно украиноведения, который по своему значению можно сравнить с литературным ренессансом. Как мы уже видели, все национальные правительства Украины успели что-либо сделать в создании научных учреждений – во многом благодаря тому, что именно гуманитарные дисциплины играли важнейшую роль в развитии национального самосознания на протяжении всего XIX в. Желая продемонстрировать свою прогрессивность, большевики также способствовали развитию науки. В 1919 г. они не только признали Академию наук в Киеве, основанную Скоропадским, но и присвоили себе честь ее создания. В последующие несколько лет Академия и ее отделения превратились в исследовательские центры. Покуда научные идеи не представляли прямой угрозы советской системе, ученые имели возможность действовать в условиях относительной свободы в своих изысканиях, открыто высказывать свои взгляды, развивать международные связи.
Несмотря на то что почти все более-менее выдающиеся ученые Украины не были коммунистами, а некоторые не скрывали своей приверженности национально-освободительной идеологии, советской власти ничего не оставалось делать, кроме как позволить им составить костяк Академии. Во время кампании украинизации в середине 1920-х украинские коммунисты через наркомат просвещения активно старались привлечь в Украину многих ведущих ученых из-за рубежа, покинувших родину во время гражданской войны. В результате в 1924 г. в Украину вернулся патриарх украинской науки (и политический оппонент большевиков) Михайло Грушевский, избранный в Киеве действительным членом Академии, где он немедленно развернул широкие и систематические исследования в области украинской истории. Примеру Грушевского последовали многие ученые, жившие в странах Европы или в Западной Украине. Итак, хотя престиж Академии быстро возрастал, она оставалась пока в глазах власть предержащих бастионом «буржуазно-националистических» тенденций.
Первым президентом Академии стал именитый ученый Володимир Вернадский. Впрочем, своим быстрым подъемом Академия была обязана прежде всего неутомимой деятельности ее многолетнего вице-президента Сергия Ефремова и ученого секретаря Агатангела Крымского. К 1924 г. Академия насчитывала 37 действительных членов и около 400 сотрудников. Количество ее публикаций увеличилось с 32 в 1923 г. до 136 в 1929. Из трех отделений Академии – историко-филологического, физико-математического и социально-экономического – ведущую роль играло первое, развивавшееся наиболее динамично и возглавленное Грушевским. Оно состояло из десятков кафедр, комиссий и комитетов, охватывавших систематическим изучением все стороны украинской истории, языка и литературы. Отделение издавало журнал «Україна» – единственный в своем роде печатный орган в области украинских исследований, члены отделения публиковали серии статей и сотни монографий. Кроме Грушевского, заметными фигурами здесь были историки Дмитро Багалий, Михайло Слабченко, Олександр Оглоблин, Осип Гермайзе, литературоведы Сергий Ефремов и Владимир Перетц, этнограф Андрий Лобода, искусствовед Олексий Новицкий, востоковед Агатангел Крымский.
В социально-экономическом отделении важную работу по истории права в Украине издал Микола Василенко, а Константин Воблый первым начал разработки в области экономической географии Украины. Хотя физико-математическое отделение Академии первоначально не играло той роли, которая ей досталась позднее, в нем тоже работали выдающиеся ученые, многие из которых имели международную известность. Среди них были математик Дмитрий Граве, физик Николай Крылов, химики Лев Писаржевский и Володимир Кистякивский.
Академия в Киеве была хотя и главным, но не единственным научным центром в Украине. Двое членов Академии основали исследовательские центры в Харькове (историк Багалий) и Одессе (его коллега Слабченко). Небольшие исследовательские учреждения создавались также в других городах, таких как Полтава, Чернигов и Днепропетровск.
Стремясь уравновесить влияние немарксистских ученых в области гуманитарных и общественных наук, советское правительство основало в 1929 г. в Харькове Институт марксизма. Задачами института были подготовка преподавателей в области истории, экономики и философии, которые преподавали бы свой предмет в духе марксистской доктрины, организация исследований истории партии и революции, идеологическое обслуживание режима. Лидером здесь был галичанин Матвий Яворский, пытавшийся интерпретировать украинскую историю в марксистском духе и создавший украинскую марксистскую историческую школу.