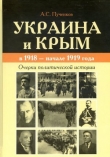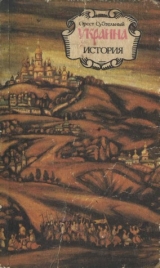
Текст книги "Украина: история"
Автор книги: Орест Субтельный
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 62 страниц)
Политическая раздробленность. Собственно говоря, нет ничего удивительного в том, что после сравнительно короткого периода интеграции вновь распалось созданное первыми киевскими князьями объединение земель. Ведь и империю Карла Великого, и другие средневековые империи постигла та же участь. Таким внешне огромным и могучим, но внутренне примитивным государственным образованиям попросту недоставало политических сил и практических средств для удержания обширных территорий на протяжении длительного времени.
Впрочем, благодаря тому, что правящая на Руси династия Рюриковичей была достаточно разветвленной, она и при фактическом развале империи могла еще какое-то время создавать видимость ее единства. Но и это длилось лишь постольку, поскольку князья хотя бы на словах признавали над собою старшего, имеющего право на верховную власть. Когда же не стало и такого согласия, окончательный распад страны на удельные княжества, до тех пор скрепленные лишь посредством личных, династических связей, был предрешен.
И вот еще что надо иметь в виду, говоря о так называемой политической раздробленности Руси. С победой принципа передачи власти по наследству (вотчины) над предложенной Ярославом системой старшинства, или ротации, княжеские роды пускали все более глубокие корни в отцовские земли. Наконец удельным князьям стало совершенно ясно, что будущее их самих и их потомков связано теперь с вотчинными землями, а вовсе не с Киевом (хоть борьба за него и продолжалась). И таких вполне независимых удельных княжеств на протяжении XII в. появилось от 10 до 15. Самыми заметными среди них были Галицко-Волынское, Владимиро-Суздальское, Новгородское, Черниговское и Смоленское. У каждого из них была теперь своя собственная политическая, экономическая и даже культурная жизнь. В результате Киевская Русь постепенно превращалась в нечто весьма аморфное. По-прежнему все ее жители понимали язык друг друга, были единоверцами и подданными одной династии. Но при этом уже не один Киев, а множество других городов объединяло людей вокруг себя, к тому же эти города еще и враждовали друг с другом.
Чем больше удельных княжеств отпадало от Киева, тем меньше становились его богатства, население и подвластные территории. В конце концов наступило такое время, когда Киевское удельное княжество уже почти ничем не отличалось от всех прочих. Именно в это время выражение «Русская земля» приобретает новый, более узкий смысл и обозначает Киев и ближайшие к нему земли.
Тем не менее Киев продолжал оставаться лакомой добычей. Тот, кто захватывал киевский престол, мог не только тешить свое самолюбие обладанием «матерью городов русских», но и считаться старшим в династии Рюриковичей. Кроме того, бесспорный статус культурно-религиозного, а то и духовно-политического центра Руси Киеву по-прежнему обеспечивало пребывание в нем митрополита. Особо почитаемыми оставались киевские храмы и монастыри. Даже в период упадка Киев и земли вокруг него оставались самыми густонаселенными и экономически развитыми в Украине.
Но все эти достоинства Киева приносили ему одни несчастья: борьба за него между князьями не прекращалась ни на миг. По подсчетам украинского историка Стефана Томашивского, между 1146 и 1246 годами город 47 раз переходил из рук в руки и 24 князя по очереди отвоевывали его друг у друга. Один из них семь раз захватывал престол, пятеро – по три раза, и еще восемь князей правили в Киеве по два раза каждый. Учтем к тому же, что 35 князей не смогли удерживать город более чем в течение одного года. Пс-своему подошел к «проблеме Киева» владимиро-суздальский князь Андрей Боголюбский – предшественник московских князей. Захватив Киев в 1169 г., он понимал, что долго удержать его не сможет – и, стало быть, слава этого по-прежнему могущественного города еще долго будет затмевать славу растущей на северо-востоке новой державы. И поэтому Боголюбский решил попросту уничтожить, варварски разграбить древнюю столицу. От этого удара древний Киев так никогда уже и не оправился.
Застой в экономике. Политические проблемы Киева усугублялись экономическими трудностями.
Как мы убедились, положение города на великом торговом пути «из варяг в греки» во многом способствовало его расцвету. Но примерно с конца XI в. значение этого торгового пути падает. Для экономики Киева это имело самые тяжелые последствия.
Дело в том, что предприимчивые итальянские купцы установили прямые и прочные связи между Византией, Малой Азией, Ближним Востоком, с одной стороны, и Западной Европой – с другой. Кроме того, занятым своими распрями князьям было уже не до защиты днепровского торгового піути от кочевников. Наконец, после того как в 1204 г. крестоносцы разграбили Константинополь, а некогда цветущий Аббасидский халифат и его столица Багдад стали быстро приходить в упадок, Киев теряет двух крупнейших тортовых партнеров.
Все эти экономические бедствия еще больше обострили и без того напряженные отношения между бедными и богатыми киевлянами. Учащаются социальные взрывы. Некогда гордая столица Руси явно утрачивала свои политические, хозяйственные и общественные достижения.
Монголо-татары. Но окончательное возмездие за распри и авантюры, как всегда, пришло из Степи.
На сей раз это были не половцы. Целым поколениям понадобилось извести, измотать друг друга в отчаянных схватках и бессмысленных походах, чтобы наконец установить постоянные добрососедские связи между княжествами Руси и половецкими племенами. А некоторые князья даже вступили в брачные отношения с половецкой знатью.
Новый враг явился нежданно и одним ударом добил измученную усобицами Русь. Это были монголо-татары.
Происхождение их до сих пор остается не вполне ясным. Доподлинно известно, что в XII в. они кочевали вдоль северо-западных границ Китая. Большая часть их сил и энергии уходила на межплеменные стычки за убогие пастбища. В последние десятилетия XII в. у монголо-татар появляется необычайно одаренный вождь по имени Темучин, в 1206 г. присвоивший титул Чингисхана – хана над ханами. Он достиг небывалого: где силою, где хитростью прекратил межплеменные распри, объединил свой кочевой народ и заставил его признать свою абсолютную власть. Оставалось лишь направить огромную военную мощь агрессивных племен против соседних некочевых цивилизаций.
Отдельные армии монголо-татар никогда не были слишком многочисленными – они не превышали 120—140 тыс. человек. Зато они были чрезвычайно подвижны и хорошо организованы, а их военные операции были разработаны и продуманы блестяще. Сначала монголо-татары покорили Китай, Центральную Азию и Иран. В 1222 г. их отряд перешел Кавказ и напал на половцев. Половецкий хан Кобяк обратился за помощью к Руси. Некоторые князья откликнулись ца его призыв. В 1223 г. у р. Калки соединенные силы русичей и половцев встретили монголо-татар и в жестокой битве потерпели сокрушительное поражение. Но захватчики, которые слишком далеко оторвались от основных своих сил, не решились воспользоваться плодами победы и повернули на родину. А князья быстро забыли преподанный им урок и вернулись к династическим распрям.
Но уже в 1237 г. мощная монголо-татарская армия появилась на границах Руси. Ее вел Батый, внук Чингисхана.
Огнем и мечом прошли татары по северо-восточным городам, уничтожив Рязань, Суздаль и Владимир. В 1240 г. они пришли в Киев.
Киевский князь Михайло бежал. Но галицкий князь Данило прислал своего воеводу. Звали его Дмитро. Он и повел в битву тех киевлян, кто решил дать отпор завоевателям. Осада была долгой и жестокой. Даже когда монголо-татары прорвались за стены города, бои шли за каждую улицу и каждый дом. В начале декабря 1240 г. Киев пал.
* * *
Специалисты часто делят политическую историю Киевской Руси на три периода.
Первый занимает почти столетие – с 882 г., когда Олег сел на киевский престол, до гибели Святослава в 972 г. Его называют начальным периодом или периодом быстрой экспансии. Воспользовавшись стратегическими выгодами местоположения Киева, варяжские князья превратили его в свою главную базу на пути «в греки». Они установили контроль не только над днепровской торговой артерией (в то время имевшей поистине «глобальное» значение), но и над восточнославянскими племенами, а всех своих основных соперников за господство в этом регионе устранили с исторической арены. Так создалось обширное политико-экономическое объединение, которое было не только готово, но и способно бросить перчатку могущественной Византийской империи.
Второй период охватывает правление Володимира Святого (980—1015) и Ярослава Мудрого (1036—1054). Это период консолидации. Территориальные завоевания в основном окончены. Киевская Русь находится на вершине политического могущества, стабильности, экономического и культурного расцвета. Экспансионизм предшествующего периода уступает место заботе о внутреннем развитии, о благосостоянии подданных. Состав населения становится более пестрым, а формы общественной жизни – более сложными. Четко формулируются законы, крепнет правосознание, устанавливаются более или менее незыблемые порядки. И самое главное: с введением христианства все это получает необходимое выражение средствами совершенно новой для Руси культуры, изменившей все мировоззрение людей.
Непрестанные и разрушительные междоусобные распри – основная примета последнего периода истории Киевской Руси. Возрастающая угроза вторжения кочевников и экономический застой приближают дело к развязке. Некоторые историки пытаются доказать, что все эти несчастья были налицо уже вскоре после смерти Ярослава в 1054 г. Другие усматривают начало конца лишь в событиях, последовавших за периодом правления последних великих киевских князей, обладавших реальной властью,– Володимира Мономаха (1113—1125) и сына его Мстислава (1125—1132). Во всяком случае, к 1169 г., когда суздальский князь Андрей Боголюбский захватил и разрушил Киев, а потом вернулся домой вместо того, чтобы любой ценой удержать древнюю столицу, становится ясно, что ее политико-экономическое значение упало почти до нуля. Окончательное разрушение Киева монголами в 1240 г. поставило трагическую точку в киевском периоде истории Украины.
2. ОБЩЕСТВО И КУЛЬТУРА КИЕВСКОЙ РУСИ
Так чем же все-таки была Киевская Русь, если говорить о формах ее политической организации?
Проще сказать, чем она не была.
Она не была государством в современном смысле этого слова. Рассматривать ее как таковое значило бы приписывать ей гораздо более высокую степень политической организации, чем она имела на самом деле. Не было на Руси ни централизованного управления, ни всеохватывающей и специализированной бюрократической системы.
Сбор дани – вот это было всегда: незыблемая, единственно постоянная и надежная «обратная связь» правителя с управляемым им народом – городским, а особенно деревенским. И, конечно, не о народе и не о государстве думали князья, занимаясь высокой политикой: в основе ее чаще всего лежали их личные интересы, в крайнем случае – интересы династии. Взаимные права и обязанности членов общества были настолько неопределенными, рыхлыми, что при возникновении каких-либо внутриполитических проблем не оставалось другого выхода, как только прибегнуть к грубой силе.
И тем не менее уровень общественно-политической и экономической организованности всей жизни в Украине постепенно возрастал, и в течение киевского периода своей истории она достигла высокого уровня культуры. Понять, как ей это удалось,– задача данной главы.
Политическое устройствоПлемя было главной политической единицей у восточных славян до прихода варягов. То немногое, что мы знаем о племенной системе, позволяет думать, что главы семейных кланов и племен обладали всей возможной полнотой власти, хоть и не могли использовать ее иначе, чем в строгом соответствии с обычаем и традицией. Встречаясь на совете старейшин, те же самые патриархи находили решения важных, общезначимых вопросов. Таким образом, одни и те же люди задавали тон и на низших уровнях общественной организации, т. е. на уровне общины (мира, задруги), и на самых высоких – вплоть до таких известных нам племенных союзов, как союзы полян, северян и древлян.
На опушке леса или на вершине холма закладывался главный племенной «град», обнесенный частоколом. Их было много, и в них постепенно сосредоточивалась местная политическая власть. Каждое племя селилось вокруг такого центра.
Племенную систему восточных славян варяги использовали в своих целях. Цели эти нам известны – война и торговля, торговля и война. В жизнь местных племен требовалось внести элементы единства и порядка – ровно настолько, насколько это было необходимо для успешной деятельности тех «коммерческих предприятий», где «держателями контрольного пакета акций» были члены династии Рюриковичей. Впрочем, значительную долю добычи им приходилось отдавать своим дружинам, от которых они сильно зависели. Следовало постоянно помнить о дружине, заботиться о ней, удовлетворять ее прихоти – а то, гляди, сбежит к сопернику... Варяжские князья со своими дружинами селились в городах, расположенных на главных торговых путях. По мере того как варяги подчиняли себе окрестные племена, росло политическое значение каждого из этих городов. Главным городом стал Киев.
Однако далеко не всем киевским князьям удавалось сосредоточивать всю власть в своих руках, а только самым честолюбивым, одаренным и безжалостным. Это они, захватывая киевский престол, заставляли всех остальных членов династии признавать свои исключительные права. Подобные периоды сильной власти вроде бы смиряли центробежные поползновения и сплачивали подданных. Так продолжалось вплоть до середины XI в.
Затем Ярослав Мудрый реформировал систему престолонаследования, и вслед за этой реформой началась децентрализация страны. Теоретически каждый член династии мог теперь претендовать на свою долю власти и владений. В конце концов киевский князь стал не более чем титулованным главой связанного династическим родством, но раздираемого постоянными распрями аморфного конгломерата удельных княжеств.
Таково в общих чертах политическое развитие Киевской Руси. Каковы же были механизмы, позволявшие осуществлять власть практически? Какими силами она осуществлялась?
Прежде всего – силами самого князя и его дружины, совета бояр (думы) и собрания горожан (веча). Таким образом, в политическом устройстве Киевской Руси в той или иной степени проявлялись монархические, аристократические и демократические тенденции.
Князь властвовал над своими подданными, те окружали его почетом и уважением – само собой подразумевалось, что взамен они получат от князя защиту, порядок, справедливость. Но как защитник подданных и гроза врагов князь ровно ничего не стоил без своей дружины. Ну а уж если вражеская угроза была слишком велика, собиралось на подмогу ополчение горожан, а то и объявлялась всеобщая мобилизация. Обычно же княжеское войско не превышало 2—3 тыс. человек.
Управлением киевским княжеством (как и другими такими же догосударственными структурами) занимались и столь важные лица, как княжеский дворецкий, эконом и им подобные: князья не утруждали себя мыслями о том, где кончается их личное хозяйство и начинается «общественное». В удаленные города и веси князья назначали посадников – обычно из числа членов своей семьи. Тысяцкие местного ополчения исполняли волю князя на местах. Правосудие вершил сам князь и его чиновники сообразно «Русской Правде» Ярослава Мудрого. Все это достаточно ясно свидетельствует о том, что княжеская власть была, бесспорно, важнейшим фактором управления. А то, что она должна была соединять в себе военные, судебные и административные функции, также говорит о том, насколько вся эта система управления была еще примитивна и неразвита.
Если в военных делах князь всецело зависел от дружины, то для того чтобы содержать и ее, и все прочие институты власти, князю требовалась дань. Со временем процесс ее сбора усовершенствовался настолько, что возникла уже более развитая система налогообложения – от каждого отдельного хозяйства (от «дыма» или от «сохи»). Среди прочих источников княжеского благосостояния отметим торговые пошлины, судебные сборы и штрафы. Кстати, последним киевское законодательство явно отдавало предпочтение перед всеми иными возможными карами за преступные деяния. Так что не будем сбрасывать со счета и эту немаловажную статью дохода.
В некоторой степени князь нуждался и в боярской думе, в особенности когда требовались совет и поддержка. Поначалу это и был совещательный орган, состоящий из старших дружинников. Многие из них происходили из варяжской знати или были потомками славянских племенных вождей. Впоследствии места в думе получили и церковные иерархи. Однако существование думы вовсе не означало, что князь обязан с ней советоваться, да и вообще ее функции так до конца и не определились. И все-таки дума, фактически представлявшая всю боярскую знать, была, по-видимому, достаточно влиятельна, чтобы лишать князя поддержки в некоторых его начинаниях. Так что приходилось считаться и с думой.
Наконец, демократия в Киеве была представлена в лице городского веча. Оно, впрочем, возникло еще до появления в Киеве князей, ибо ведет свое происхождение, по-видимому, от племенных сходов восточных славян. Князь созывал вече в тех случаях, когда ему требовалось узнать мнение горожан, или сами они собирались на вече, если хотели высказать свое мнение князю. На вечах обсуждались вопросы войн и мирных договоров, престолонаследования, назначения чиновников, организации войска. Но вече могло лишь критиковать или приветствовать политику князя – собственной политической или законодательной властью оно не обладало. Хотя одно формальное право за ним все же признавалось – право заключать договор («ряд») с каждым новым князем, вступающим на престол. Тем самым вече как бы официально признавало власть князя, а взамен тот обещал не преступать традиционных пределов своей власти.
Участвовать в вечах имели право все главы семейств. Однако тон на них задавала купеческая элита, так что зачастую вече превращалось в место сведения счетов между враждующими городскими партиями.
Общественный укладКиевская Русь занимала огромную территорию – около 800 тыс. кв. км (лишь половина ее укладывается в границы современной Украины). В определении численности населения историки сильно расходятся друг с другом, называя цифры от 3 до 12 млн. В любом случае это было крупнейшее политическое образование во всей средневековой Европе. Тем более впечатляющими следует признать те изменения, которые Киевская Русь претерпела за свою не столь уж долгую историю.
В ІХ в. земледельческая община у восточных славян еще только начинает распадаться на простых общинников и племенную знать. В целом же восточные славяне в это время еще достаточно однородны как в этническом, так и в социальном отношении.
Но вот на восточнославянском небосклоне взошла политическая звезда Киева. Быстро расширяя свои пределы, новое политическое образование втягивает в орбиту славянского мира воинов-варягов, охотников-финнов, греческих ремесленников, турецких наемников, еврейских торговцев, армянских купцов. С развитием городов в них появляются собственные купцы и ремесленники, ни в чем не уступающие пришлым. Наконец, совершенно новый слой – духовенство – возникает с принятием христианства. Одним словом, население Киевской Руси, весь ее этнически пестрый и социально неоднородный люд становится соучастником и творцом общемировой культуры.
Между тем в обществе возникает своя иерархия. На вершине ее – правящая династия, Рюриковичи, число которых все более увеличивалось. Дальше – воины князя, дружинники, старшие и младшие, да еще местная провинциальная знать. Все они составляли слой бояр, или «мужей». При этом большинство варяжской знати со временем славянизировалось: мы видим это по тому, как легко скандинавские по происхождению имена – Хелги, Хелга, Ингвар, Валдемар – обретают убедительные славянские эквиваленты: Олег, Ольга, Игорь, Володимир... И постепенно этот древнейший клан воинов-купцов превращается в слой крупных землевладельцев. Тому в немалой степени способствовали объективные трудности, налагавшие ограничения на торговую деятельность: начиная с непрекращающихся набегов кочевников на торговые пути и заканчивая упадком важнейшего торгового партнера, Константинополя, к концу XII в. А вот земли как бы сами шли в руки. В громадных владениях киевского князя было вдоволь пахотной земли – чтоб и дружине раздать, и себя не обидеть. Это в тесноте Западной Европы землевладение мелких феодалов строго увязывалось с их службой суверену: не служишь – лишаешься всех своих угодий. Бояре же на Руси получали свои вотчины в вечное наследственное пользование и сохраняли их даже в том случае, когда от одного князя переходили на службу к другому. Многие бояре жили в городах и не вмешивались в дела крестьян на своих землях, требуя себе лишь определенную часть крестьянского урожая для свободной продажи. Таким образом, от западноевропейских феодалов бояре Киевской Руси отличались своей подвижностью, городской ориентацией, развитыми торговыми интересами.
Ниже бояр на иерархической лестнице стояла купеческая знать. В отличие от «мужей» это были просто «люди» – так сказать, средний класс. Знатные купцы торговали с заморскими странами, женились на боярышнях и задавали тон в городских делах. Современных им западноевропейских бюргеров они превосходили и числом, и влиянием. Таково было положение киевских купцов даже в XII в., когда упадок торговли приводил к постепенному уменьшению их роли и реального политического значения.
Менее богатых и влиятельных горожан называли «младшими людьми». К их числу принадлежали мелкие торговцы, лавочники или такие высокопрофессиональные ремесленники, как оружейники, каменщики, гончары, ювелиры, сгруппированные в ремесленные корпорации (цехи). Наконец, на самой нижней ступени стояла городская «чернь» – люди без собственности, нанимавшиеся на «черную» работу.
И все же большинство населения проживало отнюдь не в городах, и состояло оно из «смердов», т. е. крестьян. Но о них мы не знаем почти ничего: летописцы не считали крестьянство достойным упоминания и все свое внимание сосредоточивали на жизни высших классов. Между тем позднейшие историки единодушно отмечают относительную независимость крестьян киевского периода. Зато лихолетье XII—XIII вв. легло тяжким бременем прежде всего на крестьянство. Именно к этому времени относятся признаки растущего закабаления крестьян феодалами, формы которого становятся все более жестокими и разнообразными.
Свободный крестьянин мог обращаться в суд, переходить на новое место жительства, передавать землю по наследству, но только сыновьям. Если же у него были одни дочери, князь мог претендовать на его землю. К обязанностям смерда относились регулярная выплата дани и отбывание воинской повинности: во время войны крестьяне использовались на вспомогательных работах.
Наконец, в нашем распоряжении есть самый точный индикатор правового положения различных слоев общества на Руси – тариф предусмотренных «Русской Правдой» штрафов за убийство. Так вот, убийца купца или младшего дружинника должен был заплатить 40 гривен, убийца старшего дружинника – уже 80, жизнь же смерда оценивалась в пять гривен...
Так же легко, как жизнь, можно было потерять свободу. Достаточно сказать, что деньги в долг давались под 25– 50 %, и далеко не каждый мог их потом отдать. Если крестьянин или представитель иного социального слоя попадал в долговую кабалу или просто заранее соглашался отработать определенное время на кредитора взамен денежной компенсации, он заключал с ним договор и на этот период полностью поступал в его распоряжение. Такие лишь на время закабаленные работники назывались закупами. А те, кто окончательно и бесповоротно попадал в рабство, именовались холопами. Рабы, или холопы, составляли подножье общественной пирамиды. На основании того уже известного нам факта, что работорговля на Руси не только процветала, но и была главной статьей торгового обмена между Киевом и Константинополем, нетрудно заключить, что рабство было обычным явлением, особенно до принятия христианства. Множество рабов использовалось на работах в княжеских угодьях. Ряды рабов постоянно пополнялись за счет военнопленных, детей рабов, а также тех закупов, которые пытались укрыться от исполнения повинности, и им подобных бедолаг. Впрочем, за деньги можно было не только потерять, но и купить свободу, заплатив положенное хозяину. Наконец, хозяин мог даровать свободу рабу – за верную службу.
Особую и весьма многочисленную социальную группу составляли служители церкви и все, кто жил церковным подаянием. Приходские священники и дьяконы с семьями, монахи и монахини находились под исключительной юрисдикцией церкви. Кроме того, под защитой церкви были изгои. Поначалу это слово относилось лишь к князьям, по тем или иным причинам утратившим права на свои вотчины. Но затем изгоями стали называть всех, кто почему-либо выходил из рамок своей среды. В числе изгоев мог оказаться и только что освобожденный раб (а освобождение рабов церковь всемерно поощряла, считая делом богоугодным), и обанкротившийся купец, и сын священника, по неграмотности не допущенный к сану.
Историки долго бились над вопросом о том, насколько Киевская Русь по своему общественному укладу была подобна средневековой Западной Европе. В самом ли деле феодализм западноевропейского типа везде и всюду предшествовал эре промышленного переворота? Для советских историков здесь двух мнений быть не могло: разумеется, Киевская Русь была обществом феодальным. Однако и некоторые видные ученые-немарксисты придерживались этой же точки зрения. Среди них назовем, например, Николая Павлова-Сильванского, который обращал особое внимание на факт распада Киевской Руси в XII в. на малые княжества и на то, что в экономике каждого из них сельское хозяйство начинало играть явно преобладающую роль.
Однако большинство современных историков с этой теорией не согласны. Во-первых, говорят они, феодализму свойственна вассальная зависимость, а таковой в Киевской Руси фактически не существовало: слишком мала была власть князей над боярами. И, во-вторых, огромная роль торговли и городов, а также наличие в основном незакабаленного крестьянства – все это факты, свидетельствующие о том, что ситуация в восточной части Европы коренным образом отличалась от той, что сложилась на западе. Вот почему западные историки предпочитают не втискивать Киевскую Русь в рамки феодализма, а рассматривать как в своем роде единственную и неповторимую общественную систему.