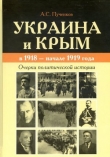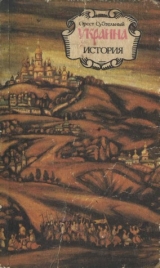
Текст книги "Украина: история"
Автор книги: Орест Субтельный
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 34 (всего у книги 62 страниц)
После 1848 г. Галичина, так же как и Закарпатье с Буковиной, оставались беднейшими регионами Европы, что давало некоторым историкам повод называть их «кладовой экономических абсурдов». Одним из главных хозяйственных недостатков этих провинций было отсутствие годной к экспорту продукции, вроде сахара или пшеницы, которые, к примеру, способствовали экономическому подъему российской Украины. Непреодолимым препятствием на пути развития промышленности. даже в скромных масштабах, была конкуренция со стороны таких развитых индустриальных провинций, как Богемия, Нижняя Австрия и Моравия, которые легко подавляли слабые попытки Галичины индустриализироваться. Политика Вены только усугубляла ситуацию. Кроме того что имперское правительство практически не заботилось об улучшении положения в Галичине, оно еще и явно отдавало предпочтение западным провинциям, устанавливая несбалансированные тарифы. Земли Габсбургов, населенные западными украинцами, были еще в большей степени внутренней колонией, чем Восточная Украина в Российской империи.
К тому же землевладельческая элита провинции отнюдь не горела желанием проводить экономические изменения, боясь, что развитие региона, особенно индустриальное, лишит ее дешевой и многочисленной рабочей силы. Таким образом, Галичина, Буковина и находившееся под влиянием Венгрии Закарпатье оставались аграрными обществами с малым накоплением капитала, слабой внутренней торговлей, низким уровнем урбанизации, минимумом промышленности, чрезвычайно низкой заработной платой и наивысшим избытком рабочей силы в империи. Только в последнее десятилетие XIX в. появились слабые проблески улучшения ситуации.
То, что Вена так пренебрегала Галичиной, не должно создавать впечатление, что это была какая-то совсем незначительная часть империи. В 1910 г. здесь проживало 15 % всех подданных Габсбургов. Территории, заселенные западными украинцами, были среди немногих, где наблюдался рост населения. В Галичине его численность выросла с 5,2 млн в 1849 г. до почти 8 млн в 1910. Впрочем, трудно сказать, было ли это благом, поскольку растущая плотность сельского населения (с 32 человек на 1 ка км в 1780 г. до 102 в 1910) только усиливала социально-экономические проблемы.
Большие изменения произошли и в этническом составе населения Галичины, хотя они и не были столь драматичны, как это кажется на первый взгляд. Если в 1849 г. украинцы составляли более половины населения провинции, то к 1910 г. свыше 58 % было зарегистрировано как поляки и только 40 % – как украинцы. Даже в Восточной Галичине доля украинцев снизилась до 62 %. Отчасти эти изменения можно объяснить притоком поляков из западных в восточные районы провинции и польской ассимиляцией, в первую очередь немцев. И все же главной причиной следует считать прирост евреев в составе населения провинции: с 1831 по 1910 г. их удельный вес удвоился с 6 до 12 %. Они же были склонны отождествлять себя, по крайней мере по языку, с поляками.
Впрочем, в структуре занятости наций, населяющих провинцию, изменения были невелики. Украинцы оставались всецело аграрным народом. В 1900 г. около 95 % из них было занято в сельском хозяйстве, лишь около 1 % – в промышленности (какой бы малой она ни была) и всего 0,2 % – в торговле. Украинская интеллигенция, включая священников, была немногочисленной – от 12 до 15 тыс. человек. (Согласно подсчетам Владимира Навроцкого, в 1876 г. украинская интеллигенция вместе со священниками насчитывала 5 тыс. человек, а польская без священников – 38 тыс.) Для сравнения, их соперники поляки распределялись по роду занятий так: 80 % – в сельском хозяйстве, 6,5 % – в промышленности, 2 % – в торговле. В 1914 г. поляки занимали свыше 300 высокопоставленных правительственных постов в Галичине, а украинцы – только 25. Таким образом, несмотря на реформы Габсбургов, украинцы сумели достичь весьма немногого в преодолении социально-экономических проблем, преследовавших их столетиями.
Положение крестьянства. Как и в России в 1861 г, освобождение крепостных в габсбургской империи в 1848 г., подняв их правовой статус и политические права, не облегчило экономического положения. По сути проблема заключалась в росте цен и снижении доходов. Основным бременем, лежавшим на крестьянах, был долг за земли, полученные в 1848 г. Поначалу венское правительство обещало покрыть стоимость передачи земель за свой счет, однако в 1853 г., когда были восстановлены дореволюционные порядки, оно переложило большую часть этих расходов на крестьян. Вдобавок ко всему крестьяне облагались целой серией прямых и косвенных налогов: на содержание школ, на дороги и т. д.
Однако более всего раздражала крестьян проблема так называемых сервитутов. По условиям раскрепощения помещики сохраняли за собой право владения сервитутами, т. е. лесами и пастбищами, пользоваться которыми до этого могли и крестьяне. Это означало, что теперь крестьянам приходилось платить любую назначаемую помещиком цену, чтобы получить дрова, стройматериалы или корм для скота. Обычно такая цена была столь высока, что, казалось, юридическое крепостничество периода до 1848 г. заменили экономическим закрепощением. Стремясь ослабить эту удавку помещиков, крестьяне тысячами обращались в суды по поводу сервитутов. По данным Ивана Франко, из 32 тыс. дел о сервитутах, рассмотренных судами с 1848 по 1881 г., помещики выиграли 30 тыс. Такой исход не оставлял ни малейших сомнений относительно того, в чьих интересах действовала система Габсбургов.
С ростом цен количество земли, находившейся во владении крестьян, уменьшалось, соответственно быстро падали их доходы. В 1859 г. средний крестьянский надел в Восточной Галичине составлял 12 акров (4,8 га), в 1880 г.– уже 7 акров (2,8 га), а в 1902 г.– 6 акров (2,4 га). Говоря иначе, удельный вес крестьян, которых можно было считать бедными (т. е. владевших менее чем 12 акрами земли), возрос с 66 % в 1859 г. до 80 % в 1902. Главной причиной уменьшения крестьянских наделов были их переделы между детьми владельца: в средней крестьянской семье обычно было до четырех детей. С уменьшением крестьянского землевладения крупные владения увеличивались, поскольку их собственники скупали земли крестьян, которые уже не могли прокормиться со своих крошечных участков. Таким образом, Восточная Галичина была краем, где около 40 % пахотных земель принадлежали 2,4 тыс. крупных землевладельцев, а на сотни тысяч крестьян с их крохотными наделами приходилось 60 % обрабатываемой земли.
Для крестьян, пытавшихся найти источники пополнения доходов, перспективы были далеко не радужными. Если они нанимались батраками в крупные поместья, их ожидала самая низкая плата в империи – приблизительно четверть той, что была принята в самой Австрии. Если же с отчания они обращались к ростовщикам-«лихварям» (обычно это были евреи – шинкари в селах или владельцы магазинчиков в городах, где не было банков), то рисковали провалиться в финансовую пропасть. Годовой процент 150—200 (еще одна причина, по которой деньги сосредоточивались у ростовщиков, а не вкладывались в промышленность) превращал в непосильное бремя ту небольшую ссуду, которую крестьянин брал, чтобы продержаться до следующего урожая. Часто наивные крестьяне залезали в большие долги по неосторожности: ростовщики нередко давали им товары или выпивку в кредит, а затем, дав долгам накопиться, выставляли огромные счета. Когда крестьяне оказывались не в состоянии их оплатить, кредиторы отбирали у них землю или пускали ее с молотка.
Хотя крестьяне не были особо предрасположены к пьянству, их угнетенное положение способствовало угрожающему росту алкоголизма. К этому подталкивали и крупные землевладельцы, монополизировавшие производство спиртного, и шинкари, продававшие его. Одним из способов приохотить крестьянина к выпивке было продление кредита, другим – расплата с батраками талонами, которые можно было реализовать только в питейном заведении. К этому добавлялось огромное количество последних. В 1900 г. в Восточной Галичине одна корчма или шинок приходились на каждые 220 жителей (и только одна начальная школа на каждые 1500).
Здравоохранение в Западной Украине также было среди самых заброшенных в империи. Если в Австрии одна больница приходилась на 295 жителей, то в Галичине это соотношение равнялось 1:1,2 тыс. Свыше половины детей не доживали и до пяти лет, обычно в результате эпидемий или недоедания. Однако самым ужасным было то, что каждый год голодной смертью умирало около 50 тыс. человек. В своей знаменитой книге «Несчастья Галиции» польский автор Станислав Щепа но вс кий утверждал, что производительность труда галичанина составляла лишь четверть соответствующего показателя среднего европейца, а потребление продуктов питания – половину. Не удивительно, что в конце столетия продолжительность жизни западноукраинских мужчин была на шесть лет меньше, чем у чехов, и на 13, чем у англичан.
Будучи аграрным, оседлым народом, украинские крестьяне испытывали сильнейшую привязанность к родной земле, и только исключительно тяжелые обстоятельства могли заставить их покинуть ее. В конце столетия стало совершенно очевидно, что пришли именно такие времена, и многие крестьяне столкнулись с неизбежностью эмиграции. Подобно своим собратьям из российской Украины западным украинцам пришлось обойти полсвета в поисках лучшей жизни. Однако в отличие от восточных украинцев, мигрировавших на восток, к берегам Тихого океана, западные украинцы двигались на запад – через Атлантику в Бразилию, Канаду и чаще всего – в Соединенные Штаты.
Города и торговля. Только около 10 % населения Галичины проживало в городах. Как и следовало ожидать, удельный вес украинцев в городских центрах был весьма невелик: в 1900 г. свыше 75 % населения городов провинции разговаривало по-польски, только 14 % – по-украински, остальные – по-немецки. Даже в Восточной Галичине украинцы составляли всего 25—30 % городского населения (почти столько же, сколько и поляки). В то же время евреями были 40—45 % горожан в восточных районах провинции; в некоторых городах, таких как Броды, их насчитывалось до 70 %. Рост населения в городах был неодинаков. Если во Львове – культурном, административном и экономическом центре Восточной Галичины – население выросло с 70 тыс. в 1857 г. до более чем 200 тыс. в 1910, большинство городов переживало куда более медленный рост.
Как и повсюду, основными экономическими функциями городов были торговля и коммерция. И если говорить о торговле на западноукраинских землях, то речь будет идти о евреях, которые полностью доминировали в этом секторе экономики. Именно они выступали торговыми посредниками между городом и селом. Мелкие торговцы-евреи доставляли в далекие села современные товары (спички и керосин), еврейские купцы скупали у крестьян урожай для продажи в городах. В самих городах почти все магазины и лавки, где крестьяне покупали готовую продукцию (одежду, обувь, металлоизделия, которые, кстати, производили евреи-ремесленники), также принадлежали евреям. Если крестьянину не хватало денег на покупку всего необходимого, еврейский купец мог предоставить ему кредит. Короче говоря, именно евреи втягивали крестьян в денежные отношения, средоточием которых были города.
Из услуг, предоставляемых ими, еврейские купцы старались извлечь наибольшую прибыль. Многим эта прибыль представлялась не только чрезмерной, но и неправедной. Например, изучив экономические взаимоотношения между евреями и украинцами в Закарпатье, венгерский экономист ирландского происхождения Эдмунд Эган докладывал правительству, что если администрация, магистраты и землевладельцы и ответственны за тяжелое положение крестьян, то главная вина все же лежит на евреях – ростовщиках, купцах и корчмарях, которые «лишают русинов денег и собственности». И хотя крестьяне возмущались эксплуататорской практикой многих еврейских купцов, они понимали, что без евреев невозможен ни один вид экономической деятельности. Эти взгляды довольно ясно были отражены в одном из секретных полицейских отчетов, посвященных отношениям украинских крестьян с евреями, который в 1890 г. был отправлен в Вену «За исключением ежедневного куска хлеба крестьянин на каждом шагу в своей жизни зависит от еврея. Он служит ему и заказчиком, и советчиком, и посредником, и доверенным лицом – в полном смысле слова. И если бы мы захотели изгнать их, крестьяне были бы первыми, кто потребовал бы их возвращения. Хотя евреи полностью используют выгоды своего положения, предоставляя ссуды под проценты, контролируя не только крестьянство, но и священников, было бы ошибкой говорить об антисемитизме в смысле расовой вражды».
Впрочем, следует подчеркнуть, что большинство евреев жили довольно скудно и не имели большого выбора в поисках средств к существованию. В конце XIX в. по роду занятий они представляли следующую картину: 15 % были арендаторами и корчмарями, 35 % – купцами, 30 % – ремесленниками и 20 % представляли смешанные профессии. Большинство еврейских торговцев были мелкими купцами, однако крошечное меньшинство, очень богатое и влиятельное, фактически осуществляло всю крупную торговлю в Галичине.
Промышленность. Ввиду конкуренции со стороны индустриальных западных провинций, неблагоприятной правительственной политики и узости местного рынка промышленность Галичины имела небольшие шансы для своего развития. Кроме того, не хватало капиталов. До 1890-х годов здесь не было коммерческих банков, еврейский капитал оборачивался в торговле и ростовщичестве, а богатые поляки предпочитали вкладывать деньги в землю. Как это ни парадоксально, сооружение железных дорог в Галичине, начавшееся в 1852 г., скорее сдерживало индустриальное развитие, чем способствовало ему.
До появления железных дорог местную промышленность – стеклодувную, текстильную и кожевенную – защищала от внешней конкуренции именно относительная изолированность провинции. Когда же по железной дороге сюда хлынул поток западных товаров, многие местные предприятия просто погибли. Большинство оставшихся имели ремесленный характер – в основном это были еврейские швейные и сапожные мастерские. Крупные предприятия занимались в основном лесоразработкой (их развитию способствовали наличие больших лесных массивов и потребность в строительных материалах на Западе) и, кроме того, специализировались на производстве алкоголя.
Впрочем, к 1890-м годам появились признаки сдвигов. В предыдущее десятилетие были основаны три банка, ставшие основой для финансирования крупных промышленных проектов. Польские магнаты, такие, например, как князь Анджей Любомире кий, добивались в Вене поддержки промышленного развития, а в 1901 г. была создана ассоциация владельцев фабрик. В 1870—80-е годы в районах Дрогобыча и Борислава быстро развивалась нефтедобыча, финансируемая в основном австрийским и английским капиталом. До первой мировой войны нефтепродукты из Галичины составляли 5 % их мировой добычи.
Медленно, но верно, рос пролетариат: к 1902 г. в провинции насчитывалось около 230 тыс. постоянных и сезонных рабочих. Из них 18 % были украинцы, 24 % – евреи, остальные – поляки. Как и в российской Украине, этот очень «молодой» слой сохранял сильные связи с селом, и многие украинские и польские рабочие возвращались к сельскому хозяйству, отработав часть года в промышленности. Впрочем, эти изменения шли очень постепенно и по масштабам были весьма скромными, поэтому в экономическом отношении западноукраинские земли все еще значительно отставали от других провинций империи.
Новый политический порядокПодавив восстание 1848 г и приободрившись, Габсбурги попытались ликвидировать революционные реформы и вернуться к абсолютной власти императора. Они распустили парламент и анннулировали конституцию – началось удушливое десятилетие неоабсолютистского правления. В Галичине, где украинское духовенство вернулось к сугубо церковным делам, в 1851 г. самораспустилась «Головна Руська Рада». Одним из немногих начинаний украинцев, несколько ожививших дремоту 1850-х, было возведение «Руського Народного Дому» во Львове – культурного центра, создававшегося на общественные пожертвования. Впрочем, несмотря на ото событие, всеобщие пассивность и инертность сменили динамизм 1848 г. «Хоч постав Народний Дім, де ж підвалини під ним?» – примерно так выражались по этому поводу остряки.
Однако на пороге уже стояли важные перемены – притом что, казалось их ничто не предвещает. В 1849 г. намесником Галичины был назначен граф Агенор Голуховский – богатый польский помещик и приближенный императора Франца Иосифа. В этом назначении было два важных аспекта: во-первых, вполне в духе автократического курса Вены новый наместник получил широчайшие полномочия, включавшие контроль над законом, экономикой, образованием и религиозными делами в провинции; во-вторых, Голуховский представлял собой новый тип политика, считавшего, что для улучшения положения поляков больше пользы будет не в героических, но бесплодных восстаниях, а в достижении пусть небольших, нс конкретных и реальных целей. В течение 25 лет Голуховский, трижды назначавшийся наместником Галичины и дважды – министром, играл решающую роль в формировании нового политического порядка в провинции.
Рост польского влияния. Демонстративно подчеркивая свою верность Габсбургам и готовность благосклонно относиться к украинцам, новый наместник за кулисами вел свою политику: он неуклонно и постоянно расширял польское влияние в управление провинцией. По его совету Вена отказалась от планов разделения Галичины на польскую и украинскую части. Его доклады, в преувеличенном виде представлявшие симпатии украинцев к России, поколебали доверие цесарского правительства к «тирольцам Востока». С возрастанием своего влияния Голуховский вел все более открытую антиукраинскую и пропольскую политику. Намереваясь устранить украинское присутствие во Львовском университете, он вынудил Головацкого уйти с должности профессора украинской литературы. Убежденный в необходимости полонизации украинцев, он даже попытался навязать грекокатолической церкви римский календарь, а в 1859 г. – ввести латинский алфавит для украинских изданий. Однако здесь он уже зашел слишком далеко. Возмущенная проектами Голуховского, украинская интеллигенция пробудилась от спячки, объявив наместнику настоящую «алфавитную войну», в которой ему пришлось уступить. Тем не менее наместник продвинулся вперед на других фронтах, систематически заменяя немецких чиновников польскими и расширяя употребление польского языка в школах. Таким образом он заложил фундамент для резкого усиления польского влияния в Галичине.
В 1859 г. империя Габсбургов подошла к еще одному поворотному пункту, пережив жестокое поражение от французов и сардинцев в Италии. Ослабев вовсе, Габсбурги были вынуждены пойти на внутренние уступки. В результате ушел в прошлое неоабсолютистский режим и было восстановлено конституционное парламентское правление, теперь уже ставшее постоянным. В Вене начал действовать центральный парламент, в провинциях – местные сеймы. До 1873 г. депутаты центрального парламента избирались из провинциальных сеймов.
Стараясь обеспечить себе поддержку высших классов, Вена обеспечила выгодную им избирательную систему. Члены провинциальных сеймов избирались по четырем куриям: крупных помещиков, торговых палат, мещан и сельских общин каждая из которых имела право на определенное количество депутатов. В галицком сейме из 150 депутатов 44 были избраны от крупных помещиков, три – от торговых палат, 28 – от мещан и 74 – от сельских общин (где тоже могли пройти помещики). Насколько малым было представительство крестьян, можно увидеть из самой выборной системы: для выбора одного депутата по курии помещиков нужно было 52 голоса, а по курии сельских общин – 8764. Украинцы, как народ преимущественно крестьянский, попадали в очень невыгодное положение. На выборах в галицкий сейм количество их депутатов обычно ограничивалось максимум 15 %. Соответственно, непропорционально малым было их представительство в венском парламенте. Разумеется, в Галичине парламентская система давала все преимущества польскому дворянству.
Однако, поляки были недалеки от того, чтобы достигнуть еще большего. В 1867 г. повторился старый ход. Потерпев поражение в войне с Пруссией, Габсбурги были вынуждены пойти на масштабные уступки венграм – сильнейшему народу империи. Результатом стал австро-венгерский компромисс, отдавший под прямую власть Венгрии почти половину империи, включая Закарпатье. Империя Габсбургов превратилась в Австро-Венгерскую империю. Успехи венгров побудили поляков требовать полного контроля над Галичиной. Формально Вена не пошла навстречу этим требованиям, однако по сути она заключила с поляками неофициальный политический компромисс: в обмен на польскую поддержку Габсбурги обещали не вмешиваться в польские дела в Галичине. В результате она превратилась в подобие польского «государства в государстве».
Неожиданный подъем польского влияния в Галичине вывел его далеко за рамки, гарантированные большинством поляков в сейме. До 1916 г. только поляки занимали пост наместника. Когда с 1871 г. центральное правительство стало назначать министра по делам Галичины, он всегда был польской национальности. Чиновничество быстро очищалось от немцев и становилось польским. Образование также полностью находилось в руках поляков, и в 1869 г. официальным языком образования и делопроизводства в провинции стал польский. В социально-экономическом и культурном отношении поляки были значительно сильнее украинцев. Их аристократия владела большей частью земель; интеллигенция была более многочисленной, образованной и имела более развитую профессиональную структуру; их удельный вес в городском населении рос быстрее; наконец, их достижения в области культуры, даже до 1867 г., были весьма впечатляющими. Поэтому не удивительно, что поляки, как говорится, нашли себя в Галичине.
Интересы поляков в Галичине. Что же собирались делать поляки, добившись власти? Чтобы понять польскую политику 1868—1914 гг., следует посмотреть на события глазами поляков, проникнуться их надеждами и устремлениями. Поляки, вернее их дворянство и интеллигенция (крестьянство здесь было почти так же политически наивно, как и украинское), были обиженным народом. В конце XVIII в. их лишили государственности, а когда они поднимались на ее восстановление в 1830 и 1863 годах, то терпели страшное поражение. Возможно, украинцам они казались высокомерными и необоримыми соперниками, однако многих поляков, как наваждение, преследовало чувство их слабости перед лицом немцев и русских. После катастрофы 1863 г. в мышлении поляков произошел важный сдвиг, суть которого наиболее явно выражал Голуховский. Отказавшись от революционной деятельности как непродуктивной, польские лидеры избрали политику «органической работы»: конкретной (попросту будничной) деятельности, направленной на укрепление польского общества путем его модернизации. Условия, сложившиеся в Галичине, были исключительно благоприятными именно для такого подхода, вследствие чего эта провинция стала рассматриваться поляками в качестве своеобразного «Пьемонта» – плацдарма, с которого можно было начать процесс возрождения польской нации.
Как же виделась судьба украинцев, этих преданных Габсбургам «тирольцев Востока»? Отношение Вены к данной проблеме отражено в циничном заявлении одного из австрийских политиков: «Могут ли существовать русины и в какой мере – этот вопрос остается на усмотрение галицкого сейма». Иными словами, украинцы были отданы на милость поляков. Учитывая характер планов, которые поляки (а многие из них были истинными демократами) строили относительно Галичины, можно понять, почему их отношение к украинским национальным устремлениям было отрицательным. Еще более непримиримо были настроены «подоляне» – архиконсервативные польские помещики Восточной Галичины, выступавшие против украинцев не только по политическим, но и по экономическим причинам: признание прав украинцев было для них равнозначно росту крестьянских требований. Таким образом, к старым социальным противоречиям между польской шляхтой и украинским крестьянством добавился новый, еще более взрывоопасный конфликт национальных интересов. Это сочетание придавало польско-украинскому противостоянию в Галичине особую остроту.
Поначалу отношение поляков к украинцам (особенно ярко выраженное консервативными «подолянами») сводилось к тому, чтобы вообще не признавать существования украинцев как отдельной нации и доказывать, что они являются всего лишь разновидностью поляков. Отсюда и заявление одного из польских лидеров: «Нет никаких русинов, есть лишь Польша и Московия». Когда активизация деятельности украинцев в 1848 г. поставила под сомнение подобный подход, была выработана новая линия, в наиболее законченном виде выраженная Голуховским. Она сводилась к дискредитации украинцев в Вене, всяческому препятствованию их национальному и социальному развитию и усилению их полонизации.
С особой решимостью эта политика осуществлялась в области просвещения. После 1867 г. польский язык заменил немецкий во Львовском университете и во всех технических и профессиональных учебных заведениях. Самым беспардонным образом развернулась полонизация гимназий: к 1914 г. в провинции существовало 96 польских и только шесть украинских гимназий, т. е. по одной на каждые 42 тыс. поляков и 520 тыс. украинцев. В начальных школах польских классов было втрое больше, чем украинских.
Дискриминация украинцев присутствовала на всех уровнях. Например, в 1907 г. польские культурные учреждения получили финансовую поддержку вдесятеро большую, чем украинские. Капиталовложения, если они были, направлялись прежде всего в западную, польскую часть провинции. На каждом шагу украинцы сталкивались не только с равнодушием, но и с активным противодействием властей. Их принуждали вести острую, упорную борьбу за каждое учреждение, каждое место, даже каждое украинское слово.
Это всепроникающее, часто сводившееся к мелочам противостояние усугублялось глубочайшей разницей в ментальности польских и украинских лидеров. Если мировоззрение польской интеллигенции несло на себе отпечаток аристократизма, то украинская интеллигенция была явно плебейской. Как писал Иван Лысяк-Рудницкий, «каждый образованный украинец лишь на одно – два поколения отдалился от дома приходского священника или крестьянской хаты». Единственной общей чертой мировоззрения образованных поляков и украинцев было, вновь говоря словами Лысяка-Рудницкого, то, что «оба общества воспринимали свой конфликт как нечто подобное великим войнам XVII ст. между польской аристократией и украинскими казаками».