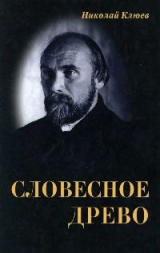
Текст книги "Словесное древо"
Автор книги: Николай Клюев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 46 страниц)
ежеминутно грозила гибелью и океан во всей своей лютой мощи разбивал о скалы
корабль – жизнь мою, – до верха нагруженный не контрабандой, нет, а только
самоцветным грузом моих песен, любви, преданности и нежности, я выброшен
наконец на берег! С ужасом, со слезами и терпкой болью во всем моем существе я огля-
дываюсь вокруг себя. Я в поселке Колпашев в Нарыме. Это бугор глины, усеянный
почерневшими от непогод и бедствий избами. Косое подслеповатое солнце, дырявые
вечные тучи, вечный ветер и внезапно налетающие с тысячеверстных окружных болот
дожди. Мутная торфяная река Обь с низкими ржавыми берегами, тысячелетия
затопленными. Население – 80% ссыльных – китайцев, сартов, экзотических кавказцев,
украинцев, городская шпана, бывшие офицеры, студенты и безличные люди из разных
концов нашей страны – все чужие друг другу и даже, и чаще всего, враждебные, все в
поисках жранья, которого нет, ибо Колпашев давным-давно стал обглоданной костью.
Вот он – знаменитый Нарым! – думаю я. И здесь мне суждено провести пять звериных
темных лет без любимой и освежающей душу природы, без привета и дорогих людей,
дыша парами преступлений и ненависти! И если бы не глубины святых созвездий и
потоки слез, то жалким скрюченным трупом прибавилось бы в черных бездонных ямах
199
ближнего болота. Сегодня под уродливой дуплистой сосной я нашел первые нарымские
цветы – какие-то сизоватые и густо желтые, – бросился к ним с рыданием, прижал их
к своим глазам, к сердцу как единственных близких и не жестоких. Они благоухают,
как песни Надежды Андреевны, напоминают аромат ее одежды и комнаты. Скажите ей
об этом. Вот капля радости и улыбки сквозь слезы за все десять дней моей жизни в
Колпашеве. Но безмерны сиротство и бесприютность, голод и свирепая нищета,
которую я уже чувствую за плечами. Рубище, ужасающие видения страдания и смерти
человеческой здесь никого не трогают. Всё это – дело бытовое и слишком обычное. Я
желал бы быть самым презренным существом среди тварей, чем ссыльным в
Колпашеве. Недаром остяки говорят, что болотный черт родил Нарым грыжей. Но
больше всего пугают меня люди, какие-то полупсы, люто голодные, безблагодатные и
сумасшедшие от несчастий. Каким боком прилепиться к этим человекообразным,
чтобы не погибнуть? Но гибель неизбежна. Я очень слаб, весь дрожу от истощения и от
недающего минуты отдохновения больного сердца, суставного ревматизма и ночных
видений. Страшные темные посещения сменяются областью загробного мира. Я
прошел уже восемь демонических застав, остается еще четыре, на которых я
неизбежно буду обличен и воплощусь сам во тьму. И это ожидание леденит и лишает
теплоты мое земное бытие. Я из тех, кто имеет уши, улавливающие звон березовой
почки, когда она просыпается от зимнего сна. Где же теперь моя чуткость, мудрость и
прозорливость? Я прошу Ваше сердце, оно обладает чудотворной способностью
воздыхания. О, если бы можно было обнять Ваши ноги и облить их слезами! Сейчас за
окном серый ливень, я навьючил на себя все лохмотья, какие только уцелели от
тюремных воров. Что будет осенью и бесконечной 50-градусной зимой? Временно или
навсегда, не знаю, я помещен в только что отстроенный дом, похожий на дачный и в
котором жить можно только летом. Углы и конуры здесь на вес золота. Ссыльные
своими руками роют ямы, землянки и живут в них, иногда по 15-ть человек в землянке.
Попасть в такую человеческую кучу в стужу считается блаженством. Кто кончил срок и
уезжает, тот продает землянку с печкой, с окном, с жалкой утварью за 200-300 рублей.
И для меня было бы спасением одному зарыться в такую кротовью нору, плакать и не
на пинках закрыть глаза навеки. Если бы можно было продать мой ковер, картины или
складни, то на зиму я бы грелся живым печужным огоньком. Но как это осуществить?
Мне ничего не известно о своей квартире. Нельзя ли узнать и написать мне, что с нею
сталось? Хотя бы спасти мои любимые большие складни, древние иконы и рукописные
книги! Стол расписной, скамью резную и ковер один большой, другой шелковый,
старинной черемисской работы, а также мои милые самовары! Остальное бы можно
оставить на произвол судьбы. В комоде есть узел, где хранится плат моей матери,
накосник и сорочка. Как это уберечь?! Все эти вещи заняли бы только полку в Вашем
шкафу. Но что говорить об этом, когда самая жизнь положена на лезвие! Продуктов
здесь нет никаких. Продавать съестное нет обычая. Или всё до смешного дорого.
Бутылка жидкого водяного молока стоит 3 руб. Пуд грубой, пополам с охвостьем, муки
100 руб. Карась величиной с ладонь 3 руб. Про масло и про мясо здесь давно забыли.
Хлеб не сеют, овощей тоже... Но что нелепей всего, так это то, что воз дров стоит 10
руб., в то время как кругом дремучая тайга. Три месяца дождей и ветров считаются
летом, до сентября, потом осень до Покрова, и внезапный мороз возвещает зиму. У
меня нет никакой верхней одежды, я без шапки, без перчаток и пальто. На мне синяя
бумазейная рубаха без пояса, тонкие бумажные брюки, уже ветхие. Остальное всё
украли шалманы в камере, где помещалось до ста человек народу, днем и ночью при-
бывающего и уходящего. Когда я ехал из Томска в Нарым, кто-то, видимо, узнавший
меня, послал мне через конвоира ватную короткую курточку и желтые штиблеты,
которые больно жмут ноги, но и за это я горячо благодарен. Так развертывается жизнь,
200
так страдною тропою проходит душа. Не ищу славы человеческой, ищу лишь одного
прощения. Простите меня, дальние и близкие! Всем, кому я согрубил или был неверен,
чему подвержен всякий, от семени Адамова рожденный! Благословляю всякого за
милостыню мне, недостойному, ибо отныне я нищий, и лишь милостыня – мое
пропитание! Одна замечательная русская женщина мне говорила, что дорого мне
обойдется моя пенсия, так и случилось, хотя я и не ждал такой скорой развязки. Но
слава Богу за всё! Насколько мне известно, расправа с моей музой произвела
угнетающее действие на лучших людей нашей республики. Никто не верит в мои
преступления, и это служит для меня утешением. Если будет милостыня от Вас, то
пришлите мне чаю, сахару, если можно, то свиного шпику немного, крупы манной и
компоту – потому что здесь цинга от недостатка растительной пищи. Простите за
указания, но иначе нельзя. Если можно, то белых сухарей, так как я пока еще очень
слаб от тюремного черного пайка и воды, которыми я четыре месяца питался. Теперь у
меня отрыжка и резь в животе, ломота в коленях и сильное головокружение, иногда со
рвотой.
Получил от Н<адежды> А<ндреевны> 50 руб. по телег<рафу> уже* в Колпашев.
Сердце мое озаряется счастьем от сознания, что русская блистательная артистка
милосердием своим и благородством отображает «Русских женщин» декабристов, «во
глубину сибирских руд» несущих свет и милостыню. Да святится имя ее! Когда-нибудь
в моей биографии чаша воды, поданная дружеской рукой, чтоб утолить алкание и
печаль сосновой музы, будет дороже злата и топазия. Так говорят даже чужие холодные
люди. Простите за многие ненужные Вам мои слова. Я знаю, что для Вас я только лишь
страдающее живое существо и что Вам и Вашему милосердию я совершенно не нужен
как культурная и тем более общественная ценность, но тем потрясающее и прекраснее
Ваша простая человечность!
Простите, не осудите, и да будет ведомо Вашему сердцу, что если я жив сейчас, то
главным образом надеждой на Вашу помощь, на Ваш подвиг доброты и милостыни. На
золотых весах вечной справедливости Ваша глубокая человечность перевесит грехи
многих. Кланяюсь Вам земно. Плачу в ладони рук Ваших и с истинной преданностью,
любовью и обожанием, которые всегда жили в моем духе, и только дьявольский
соблазн и самая трепетная глубокая забота не причинить Вам горя на время отдалили
внешне меня от Вас – в Москве. Жадно и горячо буду ждать от Вас письма. Кланяюсь
всем, кто пожалеет меня в моем поистине чудовищном несчастии.
Если бы удалось зажить своей землянкой, то было бы больше покоя для души моей,
а главное, чужие глаза не видели б моего страдания. Что слышно в Москве про меня?
Возможны ли какие-либо надежды? Нужно торопиться с хлопотами, пока не поздно. Я
подавал из Томска Калинину заявление о помиловании, но какого-либо отклика не
дождался. Не знаю, было ли оно и переслано. Еще раз прощайте! Еще раз примите
слезы мои и благословения. Земно кланяюсь Анат-<олию> Ник<олаевичу>, милым
Вашим комнатам с таким ласковым диваном, на котором я спал! Где будете летом и где
будет Н<адежда> А<ндреевна> ?
Адрес: Север<о>-Запад<ная> Сибирь, поселок Колпашев. До востребования
такому-то.
200. С. А. КЛЫЧКОВУ
12 июня 1934 г. Колпашево
Дорогой мой брат и поэт, ради моей судьбы как художника и чудовищного горя,
пучины несчастия, в которую я повержен, выслушай меня без борьбы самолюбия. Я
сгорел на своей «Погорел ыцине», как некогда сгорел мой прадед протопоп Аввакум на
костре пустозерс-ком. Кровь моя волей или неволей связует две эпохи: озаренную смо-
листыми кострами и запалами самосожжений эпоху царя Феодора Алексеевича и нашу,
201
такую юную и потому много не знающую. Я сослан в Нарым, в поселок Колпашев на
верную и мучительную смерть. Она, дырявая и свирепая, стоит уже за моими плечами.
Четыре месяца тюрьмы и этапов, только по отрывному календарю скоро проходящих и
легких, обглодали меня до костей. Ты знаешь, как я вообще слаб здоровьем, теперь же
я навсегда загублен, вновь опухоли, сильнейшее головокружение, даже со рвотой, чего
раньше не было. Поселок Колпашев – это бугор глины, усеянный почерневшими от
бед и непогодиц избами, дотуга набитыми ссыльными. Есть нечего, продуктов нет или
они до смешного дороги. У меня никаких средств к жизни, милостыню же здесь
подавать некому, ибо все одинаково рыщут, как волки в погоне за жраньем. Подумай об
этом, брат мой, когда садишься за тарелку душистого домашнего супа, пьешь чай с
белым хлебом! Вспомни обо мне в этот час – о несчастном – бездомном старике-
поэте, лицезрение которого заставляет содрогнуться даже приученных к адским
картинам человеческого горя спец-переселенцев. Скажу одно: «Я желал бы быть
самым презренным существом среди тварей, чем ссыльным в Колпашеве!» Небо в
лохмотьях, косые, налетающие с тысячеверстных болот дожди, немолчный ветер – это
зовется здесь летом, затем свирепая 50-градусная зима, а я голый, даже без шапки, в
чужих штанах, потому что всё мое выкрали в общей камере шалманы. Подумай,
родной, как помочь моей музе, которой зверски выколоты провидящие очи?! Куда
идти? Что делать? Что-либо ра <гасть текста утрагена> ему, как никому другому, сле-
довало бы мне помочь. Он это сам хорошо знает. Помогите! Помогите! Услышьте хоть
раз в жизни живыми ушами кровавый крик о помощи, отложив на полчаса
самолюбование и борьбу самолюбий! Это не сделает вас безобразными, а напротив,
украсит всеми зорями небесными! <Часть текста утрагена.>
Прошу и о посылке – чаю, сахару, крупы, компоту от цинги, белых сухарей, пока у
меня рвота от 4-хмесячных хлеба с водой! Умоляю об этом. Посылка может весить до
15-ти кило по новым почтовым правилам. Летним сообщением идет три недели.
Прости меня за беспокойство, но это голос глубочайшего человеческого горя и отча-
яния. Узнай, что с моей квартирой – соседи мои Швейцер тебе расскажут подробно.
Ес<ть> ли какие надежды на смягчение моей судьбы, хотя бы переводом в самые
глухие места Вятской губ<ернии>, как напр<имер>, Уржум или Кукарка, отстоящие от
железной дороги в полтысячи верстах, но где можно достать пропитание. Поговори об
этом – Кузнецкий мост, 24 – с Пешковой, а также о помощи мне вообще. Постарайся
узнать что-либо у Алексея Максимыча. Не может ли мне помочь Оргкомитет хотя бы
денежным переводом. Нельзя ли поговорить с Бубновым? Подать ли во ВЦИК
Калинину о помиловании? Думаю, что тебе на свежую голову всё это ясней, я вовсе
оглох и во всем немощен. Бормочу с тобой, как со своим сердцем. Больше некому.
Целую твои ноги и плачу кровавыми слезами. Благословляю Егорушку, земно
кланяюсь куме и крепко верю в ее милосердие. Не ищу славы человеческой, а одного
– лишь прощения ото всех, кому я согрубил или был неверен. Прощайте, простите!
Ближние и дальние. Мерзлый нарымский торфяник, куда стащат безгробное тело мое,
должен умирить и врагов моих, ибо живому человеческому существу большей боли и
поругания нельзя ни убавить, ни прибавить. Прости!
Целую тебя горячо в сердце твое. Поторопись сделать добро – похлопочи и напиши
или телеграфируй мне: Колпашев, до востребования. Н. Клюеву.
12 июня 1934 г.
201. А. Н. ЯР-КРАВЧЕНКО
Первая половина июня 1934 г. Колпашево
Жду, – не дождусь – весточки-письма. Невероятно тоскую. Усердно прошу 3. П.
потрудиться и спасти мои любимые вещи, которых не надеюсь больше видеть и
ласкать! Крепко надеюсь на милостыню. Написал поэму – называется «Кремль», но нет
202
бумаги переписать. Как с поэмой поступить – посоветуй! Жизнью и смертью обязан
твоему милосердию. Потерпи. Вероятно, я зимы не переживу в здешних условиях.
Прошу о письме. О новостях, об отношении ко мне. «Кремль» я писал сердечной
кровью. Вышло изумительное и потрясающее произведение. Где живете летом?
Райское место – этот городок Горбатов на р. Оке, весь в вишнях и фруктах. Жители
только садами и промышляют. У меня много нужды – всего не перескажешь —
получу ответ на это, напишу большое письмо. Но сгораю предчувствием твоего
письма. Прощайте. Простите!
202. С. А. ТОЛСТОЙ-ЕСЕНИНОЙ
17 июня 1934 г. Колпашево
Дорогая Софья Андреевна! Ради моей судьбы художника и человека помогите мне
чем можете. Поговорите с богатыми писателями и с моими почитателями -ведь их у
меня еще недавно было немало. Я погибну в Нарыме без милостыни со стороны, без
одежды, без пищи и без копейки. Поговорите с В. Ивановым, Леоновым! Нельзя ли
написать Шолохову и Пантелеймону Романову, Смирнову-Сокольскому. Если будет
исходить просьба от Вас – они помогут. Если пять человек дадут по жалких 20 руб. в
месяц, то я останусь жив. Сходите к Антонине Васильевне Неждановой, Б<ольшой>
Кисловский пер<еулок>, дом 4. Поговорите с ней обо мне – и о том, чтобы она
поговорила с Горьким – об облегчении моего положения. Скажите А<нтонине>
В<асильевне>, что Горькому будет приятно видеть ее – не забудьте. Они давно знако-
мы – еще по Италии, когда Алексей Макс<имович> был там в изгнании. Объясните
Неждановой просьбу: убавить срок ссылки (дано пять лет по 58-10 статье за поэму
«Погорельщина» и агитацию ею).
Дать минус шесть или даже двенадцать без прикрепления к месту ссылки. Оставить
мне мою писательскую пенсию, просить ГПУ передать мои рукописи в архив
Оргкомитета писателей. Если раздобудете денег, то пришлите их телеграфом, —
письма и посылки идут месяц и больше. Обрадовали бы, если бы соорудили посылочку
– чаю, сахару, сухарей из белого хлеба, компоту от цинги, – простите, но я так
тоскую по всему этому! Здоровье мое сильно пошатнулось. – Теперь бы Вы меня и не
узнали бы – такой я стал. Сообщите – можно ли Вам послать доверенность на всё мое
имущество, что на квартире на Гранатном, № 12. Сообщите телеграммой о Вашем
согласии. Поговорите с С. Клычковым об этом же – быть может, ему удобней и квар-
тира у него свободна в доме писателей. Помогите, родимая, простираюсь к Вам
сердцем своим, целую Ваши ноги и плачу кровавыми слезами. Милосердие и русская
поэзия будут Вам благодарны. Адрес: поселок Колпашев Томского округа, Сев<еро>-
Запад<ной> Сибири, до востребования Николаю Ал. Клюеву.
Нельзя ли о переводе меня в лучшие климатические условия поговорить в
Оргкомитете писателей – на том основании, что я по тяжелой болезни сердца и
общего ревматизма – погибну в Нарыме!!
203. Н. С. ГОЛОВАНОВУ
18 июня 1934 г. Колпашево
Дорогой Н. С!
Ради моей судьбы как художника, так и человека, помогите мне милостыней, ибо
только на помощь сердец, чувствующих трагедию русской музы, всё мое упование.
Все свои самые прекрасные и заветные вещи я предоставляю на Вашу оценку и
усмотрение. Помогите! Телеграфом, т. к. почта сюда ходит очень долго. Прошу о
пищевой посылке. Умоляю о помощи великую Нежданову. Целую ноги Ваши и плачу
кровавыми слезами! Выслан я за стихи. Больше за мной ничего не водится. Адрес:
поселок Колпашево Нарымского округа Север<о>-Запад<ной> Сибири.
Н. Клюев.
203
204. Л. Э. КРАВЧЕНКО
27 июня 1934 г. Колпашево
Получил перевод по телеграфу 27-го июня. Всем сердцем Ваш. Жду письма, адрес
– до востребования, Федору Васильевичу Иванову. Для перевода и посылок адрес
остается прежний, т. е. с моей фамилией, именем и отчеством. Прошу усердно
написать письмо. Я посылал их несколько.
205. А. Н. ЯР-КРАВЧЕНКО
Вторая половина июня 1934 г. Колпашево
Дорогое дитятко, я послал тебе две телеграммы и большое спешное письмо и
доверенность – просил известить о получении телеграфом, но нет и нет от тебя
весточки! Ну, здравствуй! Целую тебя крепко и заочно в сердце твое, такое уже
мужественное, прекрасное и простое! Прошу тебя известить телеграфом, где ты
будешь проводить летний отдых, лучше бы всего в Сочи в санатории писателей – по-
принимал бы мацесты, укрепил бы сердце и нервы. Теперь там самое бархатное солнце
и виноград. Простираюсь памятью к хрустальным берегам югочерноморья... Где ты,
сказка моя? Я живу днем. Когда наступает ночь, с ужасом думаю, что проснусь к новым
страданиям. Конечно, достаточно мне услышать звук твоего голоса, чтоб я проснулся и
пришел в себя, а так я разрушаюсь невероятно быстро, а главное, не могу
гармонизировать себя, собрать в кучу. Знаю, что многие миллионы двуногих существ
всю жизнь пребывают в таком именно состоянии и что оно весьма помогает тому,
чтобы слиться с человеческим стадом, но я знаю, что тогда нужно сказать прости себе
как художнику, а это равносильно для меня самоубийству.
Дорогое дитя мое! Я бы не хотел и для меня очень тяжело описывать тебе свои
нужды, ведь нище<та> скучная вещь, и пронзать твое сердце видениями и жалами
горя, будней, голода и холода – самое вредное дело. Припомни нашу совместную
жизнь, когда всё мое напряжение было устремлено на то, чтобы украсить, насколько
позволяли обстоятельства, твое бытие. Хотя бы чашкой кофе, сдобными пышками,
стихами и образным мышлением... Теперь же как мне быть? Я в великой нищете.
Впереди... Но что об этом рассуждать? Иногда собираюсь с рассудком и становится
понятным, что меня нужно поддержать первое время, авось мои тяжелые крылья,
сейчас влачащиеся по земле, я смогу поднять. Моя муза, чувствую, не выпускает из
своих тонких перстов своей славянской свирели. Я написал, хотя и сквозь кровавые
слезы, но звучащую и пламенную поэму. Пришлю ее тебе. Отдай перепечатать на
машинке, без опечаток и искажений, со всей тщательностью и усердием, а именно так,
как были напечатаны стихи, к титульному листу которых ты собственноручно
приложил мой портрет, писанный на Вятке на берегу с цветами в руках – помнишь?
Вот только такой и должна быть перепечатка моей новой поэмы. Шрифт должен быть
чистый, не размазанный лилово, не тесно строчка от строчки, с соблюдением всех
правил и указаний авторской рукописи и без единой опечатки, а не так, как были напе-
чатаны стихи «О чем шумят седые кедры», что, как говорил мне Браун, и прочитать
нельзя, и что стало препятствием к их напечатанию и даже вызвало подозрение в их
художественности. Всё зависит от рукописи и как ее преподнесешь. Прошу тебя
запомнить это и потрудиться для моей новой поэмы, на которую я возлагаю большие
надежды. Это самое искреннейшее и высоко зовущее мое произведение. Оно написано
не для гонорара и не с ветра, а оправдано и куплено ценой крови и страдания. Но всё,
повторяю, зависит от того, как его преподнести чужим, холодным глазам. Если при
чтении люди будут спотыкаться на каждом слове и тем самым рвать ритм и образы, то
поэма обречена на провал. Это знают все поэты. Перепечатка не за спасибо и не
любительская стоит недорого. Текста немного. Лучше всего пишущая машинка,
кажется, системы ундервуд. Прежде чем отдавать печатать, нужно спросить и систему
204
машинки, а то есть ужасные, мелкие и мазаные. Отнюдь не красным шрифтом —
лучше всего черным. Всё это очень серьезно.
С радостью я всматривался в снимок с портрета твоей работы – Зощенко. Как ты
растешь, дитя мое! Глупая болтовня Сонечки Кали-тиной, конечно, ни при чем. Но
сколько вкуса в Зощенко! И античный барельеф на стене, и простота позы придают
глубину и смывают всякое легкомыслие с этого писателя. Мера портрета, пропорция,
весь план говорят о высоком твоем чутье. Прошу тебя, присылай мне всё, что можешь.
Снимки, книги, журналы. В моем сером бытии всё это будет празднично и сладко! У
меня голые стены, но на зиму, вероятно, придется залечь в земляную яму с каменкой,
как в черной бане, так как я не смогу платить за жилье 20 руб. в месяц. Ах, если бы
были эти аккуратные ежемесячные 20 рублей! Я бы имел совершенно отдельную келью
с избяной плотной дверью, с оконцем на сосновый перелесок, с теплом, тишиной и
чистотой, отсутствие которых причиняет мне нестерпимые страдание! Подумай об
этом, дитятко!
206. А. Н. ЯР-КРАВЧЕНКО
4 июля 1934 г. Колпашев
Незабвенное мое дитятко. Кланяюсь я тебе низко, приветствую, благословляю и
целую душевно! Я писал тебе несколько писем, но ответа на них не получал, исключая
двух телеграмм – одну в Томск, другую – в Колпашев, по которым сужу, что что-то
до тебя дошло. Со слезами благодарю твое сердце за заботу. Сознание, что кто-то меня
пожалел – дает мне силы тянуть унылые дни, а они воистину так тошны и унылы, что
нужно быть остяком, чтобы найти в них смысл и содержание! К тому же я болен,
давнишняя болезнь сердца теперь остро дает себя знать, – я без сил, хожу и шатаюсь,
к тому же в дверь мою постучалась мертвой костью неизбежная в здешнем краю
тетушка Малярия. Два дня и две ночи меня трясло то в поту, то во льду. Лекарств,
конечно, никаких.
Сейчас 12 ч. дня, за окном тяжелое, низкое, совершенно зимнее небо; тускло,
свинцово-зеленым блеском мреет жалкий картофельный огород, за ним две огромных,
покосившихся избы без изгороди, без единого кустика вокруг; собака, похожая головой
на щуку, сидит прямо в грязи и как околевшая неподвижно смотрит в бухлое серое
небо. Я никогда не мыслил, что есть в мире такие окаянные места.
Из обломка стакана, который заменяет мне чернильницу, я пишу тебе. Не можешь
ли ты твоей свежей головкой уловить, что со мной? Кончилась ли моя жизнь или
начинается иная, полная привидений и болотных призраков, которые беззвучны и лишь
обдают меня сырым холодом? Я сейчас дрожу, нужно бы затопить печку, но дров нет,
потому что они десять руб. воз. Послали меня в общежитие исполкома – это только
что срубленный длинный дом, с модными огромными окнами, стекла которых с одного
<окна> с треском вылетают из рам, уступая первому налетевшему ветру. Помещение —
летнее. В щели пола виден свет и трава, и т. д. Как я буду коротать в нем 60-градусную
зиму? Есть каморка в полземлянке, оконце выходит на Обь, за ним растет куст лебеды;
каморка шагов пять длины и три ширины с печуркой – плата 15 руб. в месяц без дров.
Что делать? Напиши об этом.
Ссыльные своими руками нарыли здесь целые улицы землянок и живут в них. С
непривычки в землянке – как в могиле – очень обидно. Стены такой ямы выложены
досками, мелким лесом, крыша покрыта дерном и завалена всяким хламом; горшок,
обломок железа заменяет трубу. На зиму я совершенно голый – есть надежда достать
сермяги – но нужно 1У2 кило ваты, черных ниток и метров шесть черной подложки,
хотя бы самой дешевой и марли, чтобы настегать вату. Подумай об этом, согрева моя
теплая, нельзя ли хотя через добрых людей, достать всё это, зашить в тряпку и послать
ценной посылкой?.. То-то бы была радость мне голому!
205
Когда я ехал или, скорей, когда нас везли из Томска в Колпашев, кто-то, видимо,
узнавший меня, послал мне через конвоира ватную коротенькую курточку – вот и вся
моя одежда – что делать? Как быть? Всё, что было на мне, – всё пропало. Как, не буду
описывать, нельзя ли устроить мне, хотя бы коллективную посылку – ведь можно 15
кило круп, сахару, чаю, белых сухарей. Здесь нет ничего, одна жалкая столовка, где я
проедаю 1 р. 10 к. за хлёбово и 49 коп. 700 гр. черного хлеба – это один раз в день.
Кружку кипятку разными извинениями выпрашиваю у соседей по бараку. Просыпаюсь
с кислым ощущением голода под ложечкой. Столовка открывается в три часа дня.
Сплю я на чужой койке, которую грозят взять от меня хозяева -нужно приобретать
какую-либо кроватушку, какой-либо стол, лавку. Одним словом, бед моих не
перечислить. Написал в Москву в Красный Крест помощи заключенным и ссыльным -
жене Горького Екатерине Пешковой – просил о содействии дать мне минус шесть или
даже двенадцать без прикрепления к одному месту. Просил затребовать из Бюро
медицинской экспертизы удостоверение о моей инвалидности второй группы.
Удостоверение осталось у меня в Москве в немецкой большой Библии. Если бы оно
было со мной – я бы был уже давно в Вятской губ. Так как инвалидность второй
группы дает прямое освобождение или минуса – шесть. Припомни, дитятко, когда мы
ходили с тобой в Бюро медэкспертизы, поговори с Белогород-ским или с Нарбутом —
нет ли у них возможности получить вновь на меня удостоверение? В крайнем случае
сходи сам – ведь, наверно, ведутся какие-либо записи выданных документов? Если
получишь удостоверение, то оригинала не посылай (непременно ценным письмом), а
засвидетельствованную нотариально копию. Ах, если бы у меня был на руках этот
документ! Всё бы пошло по-другому. Если Зинаида Павловна доберется до моих
вещей, то в первую очередь пусть переберет тщательно листы немецкой Библии – она
самая большая из моих старинных книг, удостоверение заложено приблизительно
около первой половины листов Библии. Если она найдет, то высылать мне
засвидетельствованную нотариальную копию, а оригинал беречь накрепко. Местная
комиссия по больным чисто арестантская – всех подозревают в симуляции, и только
такой документ, как мой – заставит здешних врачей отнестись ко мне внимательней.
Есть такой закон – по которому инвалид второй группы освобождается совсем или
переводится на минус – шесть или двенадцать. При одной мысли об этом я
становлюсь счастливым. Где ты проводишь лето? Доволен ли? Как твое искусство? Как
жизнеощущение? Софья Андреевна говорила мне зимой, что можно купить у тебя мой
портрет. Как твой взгляд? В таких бедствиях, как мое, отцы продают своих дочерей и
кровных в рабство. Подумай об этом. Я всю жизнь не понимал себя и того, что руки
мои не приучены гнуться лишь к себе. Я не пил, не ел один, всегда кого-либо угощал
– попросту кормил, потому, вероятно, сейчас жду и от людей чего-то и как-то странно,
что для людей это очень тяжело и сложно, когда для меня всё связанное с помощью
другому было простым и даже приятным.
Прости меня, ангел мой, что я возлагаю на тебя всякие заботы. Но когда пробил час
железной проверки моей жизни, то во всем мире один ты для меня и существуешь. Вот
почему я не молчу перед тобой о своих бедствиях и ранах, твоя молодая душа
оказывается крепче моей – я нуждаюсь в тебе, как и в утешителе. Твоя телеграмма
«Будь совершенно спокоен», думаю, не безосновательна, но как быть спокойным в
моем положении? Ни одного волоса на моей голове и бороде не осталось
<не>выбеленным несчастием. Ты теперь бы и не узнал своего поэта, а мои красивые,
знаменитые и раздушенные знакомые пришли бы попросту в испуг и не
удовлетворились бы одной дезинфекцией после моего визита, а самую бы обивку стула
или дивана спороли бы и отдали в стирку или заменили бы ее новой. <Часть текста
утрагена.>
206
Вот уже четвертый лист пишу тебе и не могу оторваться от бумаги. Но всего не
перескажешь. В ужас прихожу от грозящей зимы. Из Москвы мне выслали две рубахи
и пару кальсон, два полотенца, простыню, две наволочки, пять носовых платков, двое
носков, наволоку тиковую – набить постель, сухарей ржаных, немного чаю, конфет
маленько, мыла и сала свиного. Кланяюсь земно этим людям – за их милосердие. Но,
вероятно, всё это только на свежие раны – со временем охладеют, и это приводит меня в
леденящий ужас. Как я буду без милостыни?! Лучше умереть или погрузиться в тайгу,
чтобы задрал медведь, чем остаться без любви и сожаленья! Мне так необходима
керосиновая кухня, их у меня в Москве две, одна с чугунной накладкой, другая с
высокой трубой – обыкновенная. Вот если бы эту обыкновенную, вылив керосин,
уложить в крепкий ящичек и послать мне почтой, какое бы было для меня удобство!
Вместе можно положить котелки, две вилки и два ножа – чер<енки> из слоновой
кости. Если тебе нравятся, то возьми себе и кушай, а мне пошли похуже. Ковер
расстели себе под ноги, они стоят ковра, только ковер боится чернил и лаков. Картины
возврати куме и Сергею Алексеевичу. Но всё это не к спеху. Главное – получить по
доверенности и кое-что продать мне на пропитание. Конечно, всё, что тебе нравится -
всё твое и нераздельно. В одном из писем я просил тебя сходить к Софье Викторовне
– попросить ее о помощи мне – что ей удобней, ведь профессор был к нам так добр!
Поговори с ним – он выдаст удостоверение, что я болен истерией в тяжелой форме. Я
у него лечился много лет.
Нужно бы поговорить с Коленькой – не может ли он прислать мне занавес в окно,
на зиму потеплее – размер 4 ар<шина> на три, если больше, то лучше. Окно было бы
закрыто и меньше дуло – ведь всё равно девять месяцев придется сидеть круглые
сутки с огнем, так что оконный свет ни при чем. Прошу и молю о письме: где ты
провел лето, как? И что написал? Если можно, пришли фотографии со своих работ!
Кланяйся Васильевскому острову, всем, кто меня знает или спросит. Если Зин<аида>
Павл<овна> увидит мою пенсионную книжку, то пусть приберет ее и спросит о моей
пенсии – в кассе, что не доходя Зоологического сада, если идти с Кудринской площади
вниз, на левой руке. Я думаю, что я могу получить за февраль по май. Это очень важно.
Еще раз простираю к ногам твоим сердце мое, обливаюсь слезами и прошу не оставить
милостыней! Мужай, крепни, мое прекрасное дитятко. Унесу в могилу твой образ, твой
аромат. Одно жаль, что не угодно Провидению, чтобы ты закрыл мне глаза в час
смертный. Часто я утешал себя этим. Умру, в лучшем случае, в тесном бревенчатом
больничном бараке, в худшем – под нарымской пургой, и собаки обглодают мои кости.
И это не гипербола, а самое простое и никого здесь не волнующее явление. Прощай.
Прости. Торопись с весточкой. Почта здесь ходит месяцами, а с осени до саней будет
всё прекращено. Кланяюсь твоей маме, папе, Борису – кто у него родился? И кто кум?








