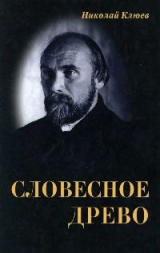
Текст книги "Словесное древо"
Автор книги: Николай Клюев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 46 страниц)
команд на Выгу не посылали, рублёвских икон не бесчестили и торговать медным и
серебряным литьем дозволяли.
Чтил мой дед своего отца (а моего прадеда) Андреяна как выходца и страдальца
выгорецкого. Сам же мой дед был древлему благочестию стеной нерушимой.
Выговское серебро ему достаток давало. В дедовском доме было одних окон 52; за
домом сад белый, черемуховый, тыном бревенчатым обведен. Умел дед ублажать голов
и губных старост, архиереев и губернаторов, чтобы святоотеческому правилу
вольготней было.
С латинской Австрии, с чужедальнего Кавказа и даже от персидских христиан
бывали у него гости, молились пред дивными рублёвскими и диосиевскими образами,
писали Золотые Письма к заонежс-ким, печорским и царства Сибирского христианам,
укрепляя по всему северу левитовы правила красоты обихода и того, что ученые люди
называют самой тонкой одухотворенной культурой...
Женат мой дед был на Федосье, по прозванию Серых. Кто была моя бабка, от какого
кореня истекла, смутно сужу, припоминая при-читы моей родительницы, которыми она
ублажала кончину своей матери. В этих причитах упоминалось о «белом крепком Нове-
горо-де», о «боярских хоромах перёныих», о том, что ее
31
Родитель-матушка не чернавка была дворовая.
Родом-племенем высокая,
На людях была учтивая,
С попами-дьяками была ровнею.
По заветным светлым праздничкам
Хорошо была обряжена,
В шубу штофную галунчату,
В поднизь скатную жемчужную.
Шла по улице боярыней,
А в гостибье государыней.
Во святых была спасеная,
Книжной грамоте ученая...
Что бабка моя была, действительно, особенная, о том свидетельствовал древний
Часовник, который я неоднократно видел в детстве у своего дяди Ивана Митриевича.
Часовник был узорно раскрашен и вызолочен с боков. На выходном же листе
значилась надпись. Доподлинно я ее не помню, а родитель мне ее прочитывала, что
«книга сия выгорецкого посельника и страдальца боярина Серых...»
<1924> Петроград
<0 СЕБЕ: Автобиографическая заметка>
Говаривал мой покойный тятенька, что его отец, а мой дед, медвежьей пляской сыт
был. Водил он медведя по ярманкам, на сопели играл, а косматый умняк под сопель
шином ходил. Подручным деду был Федор Журавль – мужик, почитай, сажень
ростом: тот в барабан бил и журавля представлял. Ярманки в Белозерске, в
Кириловской стороне, до двухсот целковых деду за год приносили.
Так мой дед Тимофей и жил. Дочерей, а моих теток, за хороших мужиков замуж
выдал. Сам жил не на квасу да редьке: по престольным праздникам кафтан из
ирбитского сукна носил, с плисовым воротником, кушак по кафтану бухарский, а
рубаху носил тонкую, с бисерной накладкой по вороту.
Разоренье и смерть дедова от указа пришла. Вышел указ: медведей-плясунов в
уездное управление для казни доставить... Долго еще висела шкура кормильца на стене
в дедовой повалуше, пока время не стерло ее в прах.
Но сопель медвежья жива, жалкует она в моих песнях, рассыпается золотой зернью,
аукает в сердце моем, в моих снах и созвучиях...
Я – мужик, но особой породы: кость у меня тонкая, кожа белая и волос мягкий.
Ростом я два аршина и восемь вершков, в грудях двадцать четыре, а в головной обойме
пятнадцать с половиной. Голос у меня чистый и слово мерное, без слюны и без лая,
глазами же я зорок и сиз: нерпячий глаз у меня, неузнанный. Не пьяница я и не табакур,
но к сиропному пристрастен: к тверскому прянику, к изюму синему в цеженом меду, к
суслу, к слоеному пирогу с куманичным вареньем, к постному сахару и ко всякому
леденцу.
В обиходе я тих и опрятен. Горница у меня завсегда, как серебряная гривна, сияет и
лоснится. Лавка дресвяным песком да берёстой натерта – моржовому зубу белей не
быти...
Жизнь моя – тропа Батыева: от студеного Коневца (головы коня) до порфирного
быка Сивы пролегла она. Много на ней слез и тайн запечатленных. Труды мои на
русских путях, жизнь на земле, тюрьма, встреча с городом, с его бумажными и
каменными людями. революция – выражены мною в моих книгах, где каждое слово
оправдано опытом, где всё пронизано рублёвским певческим заветом, смысловой
графьей, просквозило ассис<т>ом любви и усыновления.
32
Из всех земных явлений я больше люблю огонь. Любимые мои поэты – Роман
Сладкопевец, Верлен и царь Давид. Самая желанная птица – жаворонок, время года —
листопад, цвет – нежно-синий, камень – сапфир. Василек – цветок мой, флейта —
моя музыка.
<АВТОБИОГРАФИЯ>
Родился 1887 г.
Родом я крестьянин с северного Поморья. Отцы мои за древлее православие в книге
«Виноград Российский» навеки поминаются. Знаю Русь – от Карелы и Пинеги до
сапфирных гор китайского Беловодья. Много на своем веку плакал и людей жалел. За
книги свои молю ненавидящих меня не судить, а простить. Почитаю стихи мои только
за сор мысленный – не в них суть моя... Тоскую я в городе, вот уже целых три года, по
заячьим тропам, по голубым вербам, по маминой чудотворной прялке.
Учился – в избе по огненным письмам Аввакума-протопопа, по Роману
Сладкопевцу – лета 1440-го.
Н. Клюев.
1930?
В Главискусство поэта Клюева Николая Алексеевига
БИОГРАФИЯ
Родился 1887 г. от родителей крестьян – Алексея Тимофеевича и Парасковьи
Димитриевны Клюевых Олонецкой губ<ернии>. Грамоте и песенному складу научен
своей матерью. Двадцать пять лет в литературе.
Имею 18 сборников стихотворений, переведен на языки: немецкий, английский,
японский, итальянский, финский, сербско-хорватский, украинский. Положен на музыку
как иностранными, так и русскими композиторами, жизнь моя на земле, солдатчина,
царская тюрьма рассказаны моими стихами. В настоящее время тяжело болен. Исход
моей болезни – сумасшествие и смерть. Усердно прошу Главискусство о помощи —
назначении мне персональной пенсии.
Николай Клюев.
27 февраля 1930 г.
Адрес: Ленинград, ул. Герцена, дом № 45, кв. 8.
33
34
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
РАЗДЕЛ II
Записи разных лет: о себе и времени, классиках и современниках
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
35
36

1
ГОЛУБАЯ СУББОТА
избы есть корни; она как кондовая сосна: хвоя на ней ржаная, а шишки золотом
сычены. Семь чаш пролито на избу: первая чаша – покой, вторая – нетление, третья
– духо-видчество, четвертая – мир мирови, пятая – жертва Авеля, шестая – победа,
седьмая – и во веки веков.
Мистерия избы – Голубая Суббота, заклание Агнца и урочное Его воскресение.
Коврига – Христос избы, хлеб животный, дающий жизнь верным.
Рождество хлеба, его заклание, погребение и воскресение из мертвых, чаемое как
красота в русском народе, и рассказаны в моей «Голубой Субботе».
Причащение Космическим Христом через видимый хлеб – сердце этой поэмы.
Человек-пахарь, немногим умаленный от ангелов, искупит ржаной кровью мир.
Ходатай за сатану, сотворивший хлеб из глыбы земной, пахарь целует в уста древнего
Змия и вводит в субботу серафима и диавола, обручая их перстнем бесконечного
прощения...
10 сентября 1922
2
Я бы давно написал «Голубую Субботу», да записывается только десятая часть всех
слов и образов, какие приходят и стучатся в душу, из тысячи гостей только одному.
С такой силой и в таком неистовстве прут на меня слова и образы, что огрызаешься
от них как собака, стараясь хоть как-нибудь распугать их, выбирая из них только
простое и тихое.
<1922>
4
Не хочу быть литератором, только слов кощунственных творцом. Избави меня Бог
от модной литературщины! То, что я пишу, это не литература, как ее понимают обычно.
<1922>
5
Разные ученые люди читают мои стихи и сами себе не верят. Эта проклятая порода
никогда не примирится с тем, что человек, не прокипяченный в их ретортах, может
быть истинным художником. Только тогда, когда он будет в могилке, польются
крокодиловы слезы и печати, и общества; а до тех пор доброго слова такому, как я,
художнику ждать нечего. Скорее наши критики напишут целые книги про какого-
нибудь Нельдихена или Адамовича, а написать про меня у них не поднимется рука.
Всякому понятно, что всё то, чем они гордятся, самое их потаенное, давно уже мной
проглочено и оставлено позади себя. Сказать про это вслух нашим умникам просто
опасно: это, значит, похерить самих себя, остаться пустыми бочками, от которых по
мостовой шум и гром, а доброго вина ни капли...
<1922>
6
Лучшие мои произведения всегда вызывали у разных ученых, у людей недоумение
и непонимание. Во всем Питере и Москве мои хлыстовские распевцы слушал один
Виктор Сергеевич Миролюбов. Зато в народе они живы за их красоту, глубину и
подлинность. Разные бумажные люди, встречаясь с моим подлинным, уподоблялись
журавлю в гостях у лисы: не склевать журавлю каши на блюде. Напоследок я плюнул
на всякие ученые указания и верю только любви да солнцу.
Мой Христос не похож на Христа Андрея Белого. Если Христос только монада,
гиацинт, преломляющий мир и тем самым творящий его в прозрачности, только лилия,
37
самодовлеющая в белизне, и если жизнь – то жизнь пляшущего кристалла, то для
меня Христос – вечная неиссякаемая удойная сила, член, рассекающий миры во влага-
лище, и в нашем мире прорезавшийся залупкой – вещественным солнцем, золотым
семенем непрерывно оплодотворяющий корову и бабу, пихту и пчелу, мир воздушный
и преисподний – огненный.
Семя Христово – пища верных. Про это и сказано: «Приимите, ядите...» и «Кто ест
плоть мою, тот не умрет и на Суд не приидет, а перейдет из смерти в живот».
(Богословам нашим не открылось, что под плотью Христос разумел не тело, а семя,
которое и в народе зовется плотью.)
Вот это <понимание> и должно прорезаться в сознании человеческом, особенно в
наши времена, в век потрясенного сердца, и стать новым законом нравственности.
А без этого публичный дом непобедим, не будет истинного здоровья, мужества и
творчества.
Вот за этот закон русский народ почитает Христа Богом, а так бы давно забыл его и
поклонялся бы турбинам или пару.
<1922>
8
Наша интеллигенция до сих пор совершенно не умела говорить по-русски; и любая
баба гораздо сложнее и точнее в языке, чем «Пепел» Андрея Белого.
Октябрь 1922
9
ЧЕТВЕРТЫЙ РИМ
Только в союзе с землей благословенное любовью железо перестанет быть
демоном, становясь слугой и страдающим братом человека. Это последняя песня —
праведный строй и торжество рая.
Но кто слышит ее? Ученый застегивает сюртук, и поэт затыкает уши книгой.
Истинная культура это жертвенник из земли. Колосья и гроздь винограда – жертва
Авеля за освобождение мира от власти железа.
Расплавятся все металлы земли и потекут, как реки. В этом последнем огне сгорит
древний Змий... И вот уже ворон сидит на черепе стали.
В русском народе существует чаяние: воскресение Авеля. Путь к нему через
любовь Иоаннову. Слушать сердце возлюбленного – путь к Авелеву воскресению.
Через ледяное горло полюса всех нас отрыгнет земля в кошель доброго Деда. Вот
тут-то: «Ау, Николенька, милый!»
Возвращение Жениха совершается вечно. Оно станет и моим уделом за мою любовь
к возлюбленному, как к сердцу мира.
Что ищите живого с мертвыми?
Воскрес Авель, и железо стало гроздью и колосьями.
<1922>
10
ЛЬВИНЫЙ ХЛЕБ
Львиный хлеб это в конце концов – судьба Запада и Востока.
Россия примет Восток, потому что она сама Восток, но не будет уже для Европы
щитом.
Вот это обретение родиной-Русью своей изначальной родины -Востока и есть
Львиный хлеб.
<1922>
11
Там, в вечных темных полях – скала-кристалл, густо-лиловый аметист. Вершина —
язык ножовый. Стоит на острие мой темный, без лица (лица я не вижу) Паганини, со
38
скрипкой – цельным зеленым изумрудом. Играет он, высасывает душу. Горошинка —
звук в ухе моем – это новый стих. Без горошинки в ухе – я глухонем...
<1922>
12
Я – лень непробудная, лютая Азия в дрёме. Моей Азии изумилась бы настоящая
Азия: лежать бы мне в тени минарета, млеть в верблюжьем загаре, яблоко – пища
дневная да пригоршня воды из фонтана.
Бубенцы ишачьи, две—три закутанных в тафту богомолки да голубиные плески в
шафранных небесах – мои видения.
Ах, я – непробудная лень! Только бы не проспать самого себя!
<1922>
Кольцов – тот же Васнецов: пастушок играет на свирели, красна девка идет за
водой, мужик весело ладит борону и соху; хотя от века для земледельца земля была
страшным Дагоном: недаром в старину духу земли приносились человеческие жертвы.
Кольцов поверил в крепостную культуру и закрепил в своих песнях не подлинно народ-
ное, а то, что подсказала ему усадьба добрых господ, для которых не было народа, а
были поселяне и мужички.
Вера Кольцова – не моя вера, акромя «жаркой свечи перед иконой Божьей
Матери».
17 ноября 1922
14
Разные есть муки слова: от цвета, от звука, от форм, синий загнивший ноготь,
смрадная тряпица на больной человеческой шее – это мука верхняя.
Из внутренних же болей есть боль от слова, от тряпичного человеческого слова,
пролитого шрифтом на бумагу.
Часто я испытываю такую подкожную боль, когда читаю прозу, вроде: «Когда зашло
солнце, то вода в реке стала черной, как аспидная доска, камыши сделались жесткими,
серыми и большими, и ближе пододвинул лес свои сучья, похожие на лохматые
лапы...» (Серге-ев-Ценский).
Перекось и ложь образо-созвучий в этих строчках гасят вечерний свет, какой он
есть в природе, и порождают в читателе лишь черный каменный привкус, тяжесть и
холод, вероятнее всего, аспидного пресс-папье, а не окунью дрёму поречного русского
вечера.
<1922>
15
Читали «Записки из подполья» Достоевского. Человек из подполья – существо без
креста, без ангела в сердце. Путь из подполья под сень Креста, в основании которого
череп Адама – отца глины-плоти; отсюда и могильная земля – не холодные страшные
глыбы, а теплый мягкий воск, покрывало сот, где погребена душа-царица до первой
пчелиной весны.
Без ангела в сердце люди и в хрустальном дворце останутся мертворожденными
сынами своих мертвых отцов.
Декабрь 1922
Покупали с Ник<олаем> Ал<ексеевичем> подошвы на Андреевской толкучке...
Вонь, толкотня... С деревенского ржаного воздуха да затишья тяжело и страшновато.
Летним коротким наездом всех питерских чудес не высмотришь.
Только выглядели мы на развале рыночном редкость редкостную: на дорожных
булыжинах ноги вроспашь, пиджак из «благородных» общипанный и протертый, как
рогожа под порогом, сидит челове-чишко, разным выгребным сором, что из питерских
помойных ям выужен, торгует.
39
«Здравствуйте, – говорит, – товарищ Клюев! Мы с вами в Пролеткульте
встречались на одном из грандиозных вечеров, я свои стишки эстрадировал... А теперь
все бросил! Ну их к лешему! Вот торгую... любая вещь – копейка! Не желаете?!»
Поглядели мы на человечишка, видим: угорь из садофьевского садка, так вьюном и
вьется, и голову, как губернаторский лакей, закидывает.
«С прибылью, – говорит Н<иколай> Ал<ексеевич>, – торговать! Зачем большому
человеку за стихами гнаться, он и без них найдет свою истинную дорогу! С
Пролеткульта один путь – на развал: любая вещь, в том числе душа и поэзия —
копейка!»
<1922>
17
Что ты, да разве Садофьев – личность? Нет, нет! Один галстук горохом да умные
очки на носу без нюха. Ни глаз, ни ушей, ни уст человеческих у него не распознать...
Я же ищу в людях лика и венца над головой... Лику кланяюсь и венца трепещу. Так
и живу, радуясь тихо... Да знаменуется и на мне грешном свет от Лика Единого.
22 декабря <1922>
18
Пишут обо мне не то, что нужно. Треплют больше одежды мои, а о моем сердце нет
слов у писателей.
Не литератором модным хотелось бы мне стать, а послушником у какого-нибудь
Исаака Сириянина, чтобы повязка на моих бедрах да глиняный кувшин были
единственным имуществом моим, чтобы тело мое смуглое и молчаливое, как песок
пустыни, целовал шафранный ветер Месопотамии.
Вот отчего печаль моя и так глубоки морщины на моем лбу. .
Милый мой братец, радость моя не в книгах, а в изумлении духовном, и покой мой
в мятеже и обвалах гор, что окружают внутреннюю страну мою.
Люблю эти обвалы, потоки горных вод, львиную яростную пляску слов последних.
Приходит ли это в голову моим критикам?
Январь 1923
19
Я не нашел более приятных способов выражения Блоку своей приязни, как написав
стихи в его блоковской излюбленной форме и чувстве. Стихи эти написаны мною
совершенно сознательно по-бло-ковски, а вовсе не оттого, что я был весь пронизан его
стихотворной правдой. В этой же книге «Сосен перезвон» наряду со стихами, по-
священными Блоку и написанными по-блоковски, имеются песни «О соколе и трех
птицах Божиих», «В красовитый летний праздничек», которые только глупец или
бесчестный человек обойдет молчанием, как порождение иного мира, земли и ее
совести, которые суть подлинная моя стихия.
И если разные Городецкие с длинным языком, но коротким разумом, уверяют
публику, что я родился из Блока, то сие явление вытекает от скудного и убогого сердца,
которого не посещала любовь, красота и Россия как песня.
<1923>
20
Городецкий супротив Блока – просто-напросто вонючий меща-нишко, настолько
опустошенный, что и сказать нельзя.
<1923>
21
Исчадие питерских помойных ям, завсегдатаи заведений двенадцатого сорта, слизь
и писуарная нежить, выброшенная революционной улицей, усвоившая для себя только
пикейную жилетку и фикса-туарный пробор, со смердяковским идеалом открыть кафе
40
в Москве «для благородных» – проклята в моем сердце и не прощена в моей молитве. У
нежити крылья нетопыря, ей не взлететь выше крыши «Европейской» гостиницы. Там
она и правит свой смрадный шабаш своим будто бы железным искусством, ругаясь над
народной душой и кровью. Мой же путь – тропа Батыева ко стенам Града невидимого.
Да будет так! Да свершится! Иду и пою.
<1923>
22
У меня не мера какая-нибудь и не свирель, как у других поэтов, а жернова, да и то
тысячепудовые. Напружишь себя, так что кости затрещат, – сдвинешь эти жернова
малость. Пока в движении камень, есть и помол – стихи, приотдал малость – и
остановятся жернова, замолчат на год, на два, а то и больше.
Тяжел труд мельника.
<1923>
23
Я думаю, что священный сумрак гумна не менее священен, чем сумрак готических
соборов.
23 февраля <1923>
24
Есть подземный пчельник с земляным пасечным дедом. Там черные (антрацитовые)
ульи и черный мед в них – мед души народной. Серебряные пчелы множат тяжкий мед.
Серебро на черни – морщина на лике России, глубь зрачков ее, на дне которых
полощутся лазурные ангелы. Там рождается голубоо-кость и серебро риз – чистая риза
Христа.
Блюдут подземные пасеки, посвященные от народа: Александр Свирский, Лазарь
Муромский, их же сонм не перечислишь. Тьмы серафимов над печью, Агнец-коврига
– поющие знаки вечности, за ними же следует Лев, Ангел, Телец и Орел.
Лев – страж умный, Орел – очи мысленные, Ангел – сердце слезное, Телец —
плоть. Для плоти же Тельца хлев – формы земные: изба, гумно, посев, лен и одежда.
Огонь же не разгадан и ангелами – он от уст Агнца. От огня – Роза поцелуя. Рождество
поцелуя празднуется, как некогда рождество слова во плоти (Слово стало плотию).
Подземные пасечники это знают.
Февраль 1923
Чтобы быть писателем, – надо быть богатырем Черномором, чтобы во всякое
время выйти из книжного моря на злат берег, где нетленный город Красоты и Иван-
царевич – мирское сердце.
Апрель 1923
26
Паровому котлу нечего сказать на языке искусства и религии. Его глубины могут с
успехом исчерпать такие поэты, как Бердников или Арский. Мы же помолчим до
времени.
20 июня 1923
27
Критики моей поэмы «Мать-Суббота» указывают на умность этого произведения,
противопоставляя ей «глуповатую поэзию» как подлинную. Конечно, если считать
поэзией увядающую розу, луну и гитару, то мои критики правы.
Мой же мир: Китеж подводный, там всё по-другому. Рассказывая про тайны этого
мира, я со страхом и трепетом разгребаю словесные груды, выбирая самые точные
образы и слова для выявления поддонной народной правды. Ни убавить, ни прибавить
словесной точности я не дерзаю, считаю за грех. Самоцветный поддонный ум может
быть судим только всенебесным собором.
41
«Мать-Суббота» – избяной Экклезиаст, Евангелие хлеба, где Лик Сына
Человеческого посреди животных: льва, вола, орла и ангела любви Иоанновой.
20 июня 1923
28
Популярность не есть прекрасное. «Чудный месяц» популярен, но слава его позорит
искусство. В квашне Анны Ахматовой – закваска «чудного месяца», оттого ахматовские
бисквиты стали вкусны для чистой публики. Это зловещий признак, и я не радуюсь
такой бисквитной популярности.
«Сердце словно вдруг откуда-то...» – вот строчка, которой устыдился бы и Демьян
Бедный! А она пышно напечатана в «Тяжелой лире» Владислава Ходасевича... Проходу
не стало от Ходасевичей, от их фырканья и просвещенной критики на такую туземную
и некультурную поэзию, как моя «Мать-Суббота». Бумажным дятлам не клевать моей
пшеницы. Их носы приспособлены для того, чтобы тукать по мертвому сухостою так
называемой культурной поэзии. Личинки и черви им пища и клад. Пусть торжествуют!
❖❖♦>
Ходасевич это мертвая кость, да и то не с поля Иезекиилева, а просто завалящая.
<1923>
30
Я очень люблю живопись старых голландских мастеров, их пищ-ные миры, города
из редиски, рыб и окороков, – пир сытости, смачных губ и беспощадных зубов... Но в
стране еды и здоровья, в сальном и брюквенном воздухе не слышно свирели ангела,
стука его золотого цепа, молотящего жито созвучий.
<1923>
31
Блок отгорожен от живого солнца и живой земли Офицерской улицей. Теперь он
ближе к подлинной России и к избяному раю, чем к так называемой жизни.
<1923>
32
Мне надо идти куда-нибудь в приход священником, и ничего мне не нужно,
насущное будет. Уж слишком тяжел стихотворный крест.
Декабрь 1923
Сегодня во сне слышал стихи:
Чтоб Русь, как серьга, повисла В моем цареградском ухе...
<1923>
34
Видел на Сенной рыбину в сажень – 2000 руб. фунт. Тут видел леща с решето в
обойме. И возрадовалось сердце мое, учуяло ухо рыбий голос, что не оскудела еще
речная, озерная и поморская Россия рыбником румяным, ухой поминальной, майками
да икрой именинной.
Весело мне стало. Пришел домой, как с митрополичьей трапезы, в ушах соленое
Поморье шумит, здоровья прибавляет.
За здоровье и люблю Сенную паче всех питерских кружал и ристалищ.
Январь 1924
35
Вот подлинно огненное имя: протопоп Аввакум! После Давида царя – первый поэт
на Земле, глубиною глубже Данте и высотою выше Мильтона. А хвалят Ваську
Князева!.. Оттого и вянут розы на земле и мед в ульях с привкусом крови
человеческой... Брачные пчелы Аввакума не забыли.
<1924>
36
42
Такие стихи о России, какие сочинил Блок, мог бы с одинаковым успехом написать
и какой-нибудь пленный француз 1812 года. Наши критики врут и ломаются, возводя
стихи Блока в национальные творения. На самом деле эти стихи только внешне
написаны русскими литерами, по духу же, конечно, не народны и не национальны.
<1924>
Всякого мусора навалили на Блока, всю его могилу засрали. Чистому человеку и
подойти к ней тошно.
Февраль < 1924>
38
За меня и за себя Есенин ответ дал. Один из исследователей русской литературы
представил Есенина своим гостям как писателя «из низов». Есенин долго плевался на
такое непонятие: «Мы, – говорит, – Николай, не должны соглашаться с такой кличкой!
Мы с тобой не низы, а самоцветная маковка на злотоверхом тереме России, самое
аристократическое – что есть в русском народе».
Разным Львовым-Рогачевским этого в голову не приходит, они Есенина и меня от
Сурикова отличить не могут, хотя и Суриков не «низы».
<1924>
39
ИЗ БЕСЕДЫ СО СВЯЩЕННИКОМ ЖИВОЙ ЦЕРКВИ
«Да что вы, батюшка, досадуете на темноту верующих: ведь в Еру-салим только на
осле и можно въехать!»
Папе римскому не сказать так! Прости, Господи, меня грешного!
<1924>
40
Среди человеческого мусора Гребенщиков Я. П. – избранный, не то Иоанн
Лествичник, не то сама лествица, возводящая от житейской скуки на простое, на
мудрое небо – в прядильню слова человеческого, а прядево, не то Млечный Путь, не
то простая бабкина куделя. Касаясь Гребенщикова, – касаешься какой-то нерушимой
стены, за которой прекрасный Ионафан и скрип золотой писчей трости.
Был у Тихонова в гостях, на Зверинской. Квартира у него большая, шесть горниц,
убраны по-барски – красным деревом и коврами; в столовой стол человек на сорок.
Гости стали сходиться поздно, всё больше женского сословия, в бархатных платьях, в
скунсах и соболях на плечах, мужчины в сюртуках, с яркими перстнями на пальцах.
Слушали цыганку Шишкину, как она пела под гитару, почитай, до 2-х час<ов> ночи.
Хозяин же всё отсутствовал; жена его, урожденная панна Неслу-ховская, с
таинственным видом объясняла гостям, что «Коля заперся в кабинете и дописывает
поэму» и что «на дверях кабинета вывешена записка: «вход воспрещен», и что она не
смеет его беспокоить, потому что «он в часы творчества становится как лютый тигр».
Когда гости уже достаточно насиделись, вышел сам Тихонов, очень томным и
тихим, в теплой фланелевой блузе, в ботинках и серых разутюженных брюках.
Угощенье было хорошее, с красным вином и десертом. Хозяин читал стихи «Юг» и
«Базар». Бархатные дамы восхищались ими без конца...
Я сидел в темном уголку, на диване, смотрел на огонь в камине и думал: «Вот так
поэты революции!..»
20 марта 1924
42
Глядишь на новых писателей: Никитин в очках, Всев<олод> Иванов в очках,
Пильняк тоже, и очки не как у людей – стекла луковицей, оправа гуттаперчевая. Не
писатели, а какие-то водолазы. Только не достать им жемчугов со дна моря русской
43
жизни. Тина, гнилые водоросли, изредка пустышка-раковина – их добыча. Жемчуга
же в ларце, в морях морей, их рыбка-одноглазка сторожит.
Апрель 1924
43
БЕСОВСКАЯ БАСНЯ ПРО ЕСЕНИНА
Много горя и слез за эти годы на моем пути было. Одна скорбь памятна. Привели
меня в Питер по этапу, за секретным пакетом, под усиленным конвоем. А как я перед
властью омылся и оправдался, вышел из узилища на Гороховой, как веха в поле, ни
угла у меня, ни хлеба. Повел меня дух по добрым людям; приотъелся я у них и своим
углом обзавелся. Раскинул розмысли: как дальше быть? И пришло мне на ум написать
письмо Есенину, потому как раньше я был наслышан о его достатках немалых,
женитьбе богатой и легкой жизни. Писал письмо слезами, так, мол, и так, мой
песенный братец, одной мы зыбкой пестованы, матерью-землей в мир посланы, одной
крестной клятвой закляты, и другого ему немало написал я, червонных и кипарисовых
слов, отчего допрежь у него, как мне приметно, сердце отеплялось.
В городе дни – чердачные серые кошки, только растопляю я раз печку: поленья
сырые, горькие, дуну я на них, глотаю дым едучий. Выело у меня глаза дымом, плачу я,
слезы с золой мешаю, сердцем в родную избу простираюсь, красную лежанку
вспоминаю, избяной разоренный рай... Только слышу, позад меня стоит кто-то и город-
ским панельным голосом на меня, как лошадь, нукает: «Ну, ну!» Обернулся я, не
признал человечину: стоит передо мной стрюцкий, от каких я на питерских улицах в
сторону шарахаюсь. Лицо у него не осеннее и духом от него тянет погибельным, нос
порошком, как у ночной девки, до бела присыпан и губы краской подведены. Есенин -
внук Коловратов, белая верба рязанская! Поликовался я с ним как с прокаженным; чую,
парень клятву преступил, зыбке своей изменил, над матерью-землей-надругался, и
змей пестрый с крысьей головой около шеи его обвился, кровь его из горла пьет. То ему
жребий за плат Вероники; задорил его бес плат с Нерукотворным Ликом России в торг
пустить. За то ему язва: зеленый змий на шею, голос вороний, взгляд блудный и весь
облик подхалюзный, воровской. А как истаял змиев зрак, суд в сердце моем присудил
– идти, следа не теряя, за торгашом бисера песенного, самому поле его обозреть; если
Бог благословит, то о язвах его и скверностях порадеть.
❖♦>❖
Так и сталося. Налаял мне Есенин, что в Москве он княжит, что пир у него
беспереводный и что мне в Москву ехать надо.
Чугунка – переправа не паромная, не лодейная, схвачен человек железом и влачит
человека железная сила по 600 верст за ночь. Путина от Питера до Москвы – ночная,
пьяная, лакал Есенин винища до рассветок, бутылок около него за ночь накопилось,
битых стаканов, объедков мясных и всякого утробного смрада – помойной яме на
зависть. Проезжающих Есенин материл, грозил Гепеу, а одному старику, уветливому,
благому, из стакана в бороду плеснул; дескать, он, Есенин, знаменитее всех в России,
потому может дрызгать, лаять и материть всякого.
Первая мука минула.
Се вторая мука. В дрожках извозчичьих Есенин по Москве ехал стоймя, за меня
сидячего одной рукой держась, а другой шляпой проходящим махал и всякие срамные
слова орал, покуль не подъехали мы к огромадному дому с вырванными с петель
деревянными воротами.
На седьмом этаже есенинский рай: темный нужник с грудами битых винных
бутылок, с духом вертепным по боковым покоям.
Встретили нас в нужнике девки, штук пять или шесть, без лика женского,
бессовестные. Одна в розовых чулках и в зеленом шелковом платье. Есенинской
44
насадкой оказалась. В ее комнате страх меня объял от публичной кровати, от
резинового круга под кроватью, от развешанных на окне рыбьих чехольчиков, что за
ночь накопились и годными на следующую оказались.
Зеленая девка стала нас угощать, меня кофеем с колбасой, а Есенина – мадерой.
С дальнейшей путины до переполоха спится крепко. Прикурнул и я, грешный, где-
то в углу, за ширмами. И снилась мне колокольная смерть. Будто кто-то злющий и
головастый чугунным пестом в колокол ухнул (а колокол такой распрекрасный,
валдайского литья, одушевленного). Рыкнул колокол от песта, аки лев, край от него в
бездну низвергся, и грохот медный всю вселенную всколыхнул.
Вскочил я с постели, в костях моих трус и в ушах рык львиный, под потолком лампа
горит полуночным усталым светом, и не колокол громом истекает, а у девок в номерах
лютая драка, караул, матерщина и храп. Это мой песенный братец над своей половиной
раскуражился. Треснул зеркало об пол, и сам голый, окровавленный по коридору
бегает, в руках по бутылке. А половина его в разодранной и залитой кровью сорочке в
черном окне повисла, стекла кулаками бьет и караул ревет. Взяла меня оторопь, за
окном еще 6 этажей, низринется девка, одним вонючим гробом на земле станет
больше...
Подоспел мужчина, костистый и огромный, как и Есенин, в чем мать родила, с
револьвером в руке. Девку с подоконника за волосы стащил, ударил об пол, а по
Есенину в коридоре стрелять начал. Сия моя третья мука.
«Стойло Пегаса» унавожено изрядно. Дух на этом новом Олимпе воистину конский,
и заместо «Отче Наш» – «Копытами в небо» песня ржется. В «Стойле» два круга,
верхний и нижний. В верхнем – стойка с бутылками, со снедью лошадиной: горошек
зеленый, мятные катышки, лук стриженый и всё, что пьяной бутылке и человеческому
сраму не претит.
На дощатом помосте будка собачья с лаем, писком и верезгом -фортепьяно. По








