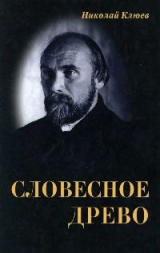
Текст книги "Словесное древо"
Автор книги: Николай Клюев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 46 страниц)
цифирь»).
Мысль о спасительной миссии духовной культуры для. революционной России
является в «вытегорской» публицистике Клюева основополагающей. Не без тревоги он
предупреждает: «Надо быть повнимательней ко всем этим ценностям, и тогда станет
ясным, что в Советской Руси, где правда должна стать фактом жизни, должны признать
великое значение культуры, порожденной тягой к небу. .» («Слово о ценностях
народного искусства»).
Каким бы ни был Клюев противником Церкви, однако предпринятые властями
решительные меры по искоренению в русском народе «религиозного дурмана» отнюдь
не могли отозваться в нем чувством солидарности с ними, особенно проводившаяся в
ударном порядке, не имевшая в истории прецедента, кампания по «вскрытию мощей»,
почитаемых в народе святыми, – с целью их дискредитации. На нее он отзывается
12
статьей «Самоцветная кровь» с характерной адресовкой в ее конце «Из Золотого
Письма Братьям-Коммунистам» (1919), в которой их действия определяет как
«поругание народной красоты», «хулу на Духа жизни».
Пафос Клюева, направленный на соединение «Матери-Красоты» с революционной
«новью», а также его предупреждение «Братьям-Коммунистам» по поводу их
необдуманного наступления на нее возымели как раз обратное действие – его
отстраняют от их сонма (исключают из партии ввиду недопустимости пребывания в ее
рядах человека, посещающего церковь и почитающего иконы).
Другой принципиально несозвучной большевистским идеалам оказалась у Клюева
мысль о губительности для России, ее природы и естественного человека (разумеется,
прежде всего, крестьянина) -«машинной цивилизации», выражаемой им в символах
«железа» и «Америки». Эта мысль являлась преобладающей в его поэзии и, есте-
ственно, нашла отражение и в публицистике. Причиной упадка Матери-Красоты он
считает здесь не только «Голштинское самодержавие», но и капитализацию России,
несущую, по мысли поэта, духовное опустошение (приход «Железного ангела»).
«Железным часом» для России считает он и наступившее губительное время, вос-
клицая с горечью: «Где ты, золотая тропиночка, – ось жизни народа русского <...> по
золоту, – настилу твоему басменному, броневик – исчадие адово прогромыхал»
(«Сорок два гвоздя», 1919). И еще из этой же статьи: «Слышит олонецкое солнышко,
березка родимая, купальская, что не гвозди, а само железо на душу матери-земли похо-
дом идет. Идолище поганое надвигается. По-ученому же индустрия, цивилизация
пулеметная, проволочная Америка».
Выступление поэта против «машинной цивилизации» вызвало яростные нападки на
него истовых певцов революционного железа, каковыми являлись деятели
Пролеткульта. И вовсе не случайна их атака – резко отрицательная рецензия П.
Бессалько на «революционный» сборник стихов Клюева «Медный кит» (1919,
фактически: нояб. 1918).
Что же касается поэтики клюевской публицистики, то здесь, по наблюдению Е.
Пономаревой, обращает на себя внимание следующее: «опора на народное мнение» —
как один из приемов его текстов, «ориентация на манеру говорения "старичка с Онеги",
на просторечные формы, сказовость повествования, что было свойственно и раз-
говорной речи самого Клюева <...> В то же время в статьях и очерках, опубликованных
в газете "Звезда Вытегры", есть черты революционной прокламации и лозунга,
митинговая риторика и пафос, публицистическая заостренность и прямая авторская
оценка современности» 1.
Дает здесь о себе знать и особый «клюевский», так сказать, «ис-толковательный»
стиль – когда автор принимается разъяснять обладающему своими самобытными
понятиями «народу» незнакомые будто бы ему «культурные» слова, например, понятие
«поэт»: «От старины выискивались люди с душевным ухом: слышат такие люди, как
пырей растет, как зерно житное в земле лопается, норовит к солнцу из родимой
келейки пробиться <...> ныне же тех людей величают поэтами» («Медвежья цифирь»).
Вытегорский период жизни Клюева был пиком в его публицистике. После
исключения из партии (1920), а затем статьи о нем Л.Троцкого в «Правде» (сентябрь
1922), завершавшейся словами: «Духовная замкнутость и эстетическая самобытность
деревни <...> явно на ущербе. На ущербе как будто и сам Клюев»2, как публицист поэт
уже не выступает, поскольку для прославления революции в этом жанре, как и в
поэзии, у него уже не стало прежней убежденности и запала.
Более всего как прозаик Клюев проявил себя в эпистолярном жанре, ибо письма
поэта – «его дневник, его философия, этика и эстетика, его исповедь»3.
1 Пономарева Е. Проза Николая Клюева 20-х годов. С. 23, 125.
13
2 Троцкий Л. Литература и революция. М., 1991. С. 62.
3 Базанов В. Г. С родного берега. О поэзии Николая Клюева. Л., 1990.
С. 47.
В первых же письмах литераторам он заявляет о себе как о поэте, стремящемся
путем личного знакомства с ними заручиться поддержкой для опубликования своих
опытов: «Я, крестьянин Николай Клюев, обращаюсь к Вам с просьбой – прочесть мои
стихотворения и, если они годны для печати, то потрудитесь поместить их в какой-либо
журнал», – с такой просьбой он начинает в 1907 году длительную переписку с А.
Блоком. С тем же обращается он и к другим адресатам – к Л. Д. Семенову (15 июня
1907 г.), В. Брюсову (около 30 ноября 1911 г.). В свою очередь затем и сам, имея уже
литературное влияние, он не забывал оказывать содействие таким же начинающим
поэтам: «Пришли мне новые свои песни, я постараюсь их поместить в журнал
Миролюбова», – писал, к примеру, поэт 22 декабря 1913 года А. Ширяевцу.
Уже на раннем этапе вхождения в литературу его переписка с ее представителями, а
также с другими деятелями искусства, не ограничивается только прагматическими
целями. В значительной степени она диктовалась потребностями общения поэта на
высоком духовно-интеллектуальном и сердечном уровне, о чем он сам признавался Е.
М. Добролюбовой по поводу своей переписки с Л. Д. Семеновым: «Очень тяжело не
делиться с Леонидом Дмитриевичем написанным. Если бы Вы знали мои чувства к
нему – каждое его слово меня окрыляет – мне становится легче...» (сентябрь —
конец, октябрь – начало 1907 г.).
Через всю переписку проходит тема поисков и обретения (а также потери)
родственной души в чужом и враждебном мире. Коснемся кратко лишь тех пластов
писем, в которых сказалась особенная острота и напряженность текущего момента
жизни поэта, глубина в осмыслении им истории России и ее судьбы в настоящее время.
Первая по времени и значимости стала переписка с А. Блоком, оказавшая, кстати,
определенное влияние и на адресата. О Клюеве как поэте Блок упоминает в текстах,
предназначавшихся к публичному обнародованию, всего лишь несколько раз и то
мимоходом в 1907 году. Но зато на протяжении более чем десятилетнего общения
Клюев являлся для него выразителем той «истинной» жизни, проникнуть в которую он
стремился. Многочисленные упоминания Клюева Блоком в своих дневниках, записных
книжках и письмах к родным и знакомым (а также в разговоре с ними)
свидетельствуют о его отношении к «олонецкому крестьянину» как к некоему нрав-
ственному символу, представителю загадочной народной веры. Он считает нужным,
судя по ответным письмам Клюева (письма Блока не сохранились), даже
исповедоваться перед ним, выступая в известной с XIX века роли «кающегося
дворянина». Блока приводят в смятение проскальзывающие иногда в письмах адресата
нотки обличения с призывом порвать со своим предосудительным, «барским» образом
жизни. «Письмо Клюева окончательно открыло глаза»1, – пишет он матери, а через
год в письме к ней снова: «Всего важнее для меня – то, что Клюев написал мне
длинное письмо о "Земле в снегу", где упрекает меня в интеллигентской порнографии.
<...> Другому бы я не поверил так, как ему»2.
Обращенные Клюевым к Блоку слова в письме от 22 января 1910 года: «Понимаю,
что наружная жизнь Ваша несправедлива, но не презираю, а жалею Вас», – могут быть
истолкованы (что и делается) как неподобающим образом взятое им на себя право
«казнить» Блока или «жаловать» ему «прощение». На самом же деле, думается, здесь
всё иначе. Блок, скорее всего, сам напрашивался в порыве «раскаяния» на «презрение»
со стороны своего адресата, что вполне в духе христианской этики (уничижение с
целью внутреннего очищения). Клюев же, наоборот, отказывается от такой миссии: он
способен лишь пожалеть, а не осуждать кающегося грешника, тем более что и сам не
14
считает себя достойнее и чище: «Не отталкивайте же и Вы меня своей, быть может,
фальшивой тьмой. Сам себя я не считаю светлым...»
На иной основе возникла и развивалась переписка с С. Есениным, первым, кстати,
подавшим голос к сближению, что и понятно. В нем к середине 1910-х годов уже
сложился и выплескивался в восторженно-звонких, с долей светлой юношеской грусти,
стихах поэтический мир русской деревни. Да к тому же не убого-народнической,
«сури-ковской», а деревни «Святой Руси», осознающей свою духовную и эстетическую
самобытность. Есенин едет в поисках родственного понимания в Петроград, где в
начале октября 1915 года и произойдет его встреча с Клюевым, успевшим к тому
времени в сборниках стихов уже запечатлеть свою пригрезившуюся ему «потаенную»,
в исконно крестьянском обличий «Святую Русь». Есенина, естественно, окрылило
существование родственной души. Не менее окрыленным оказался и Клюев – и
стихами обретенного «песенного собрата», и всем его обликом юного «рязанского
Леля». И одним из первых чувств, пробуждаемых в нем Есениным, является чувство
своей ответственности за судьбу этого возросшего на одной с ним почве чудесного
дичка, попадающего теперь в чуждый для него, таящий немалые соблазны и пагубу
городской мир. От них-то, еще до встречи с Есениным, отвечая на его первые письма,
Клюев и хочет предостеречь своего «милого братика». Своими антагонистами в этот
период он считает поэтов городской культуры, творчество которых определялось
1 Блок А. Собр. соч.: В 8 т. М.; Л., 1963. Т. 8. С. 219.
2 Там же. С. 258.
им как «бумажное». Они оторваны от природы, в их жилах течет вялая,
неврастеническая кровь вырождающегося племени, отторгнутого цивилизацией от
живительных сил природы. Их тяга к поэтам – сынам деревни с их полноценной,
здоровой кровью и творчеством, как бы порождаемыми могучими силами земли, как
объяснял Клюев в своем письме Есенину, понятна: им (городским поэтам) «не нужно
лишний раз прибегать к шприцу с морфием или кокаином, потеревшись около нас»
(август? 1915 г.).
Переписка Клюева и Есенина не составила обширного пласта в их творчестве, хотя
и обозначена весьма импульсивными единичными всплесками со стороны первого. Она
иссякла, лишившись той доверительности и сердечности, которые питаются взаимной
симпатией и взаимным пониманием адресатов-единомышленников. После лета 1917
года между Клюевым и Есениным этого уже не было. Младший стал тяготиться
излишней опекой старшего, а пуще всего неприемлемой теперь для него идеей
патриархальной клюевской Руси с ее «избяным космосом» и «берестяным раем», тогда
как для старшего оказался крайне неприемлемым бравирующий и в творчестве, и в
манере поведения имажинизм младшего (в придачу с «урбанизацией» своего образа
недавнего «рязанского Леля»). Всё это становилось уже стимулом отнюдь не для
дружеской переписки, а всего лишь для некоторой пикировки уже в других словесных
жанрах, что и наблюдается в творчестве обоих поэтов в двадцатые годы.
Самый большой пласт писем Клюева адресован молодому художнику Анатолию
Яр-Кравченко (1929-1937 годы).
В каждом из адресатов Клюев находил отражение какой-то из существенных
моментов его жизненного и творческого пути. В письмах к Блоку «олонецким
крестьянином» утверждалось право быть равным среди равных в русской поэзии, в
письмах к Есенину – Клюев раскрывался как борец за сохранение в русской
духовности, красоте их самых глубинных корней, чистых родников в трагический
период разрушения основ национального бытия. В письмах к Яр-Кравченко поэтом
преодолевался драматизм как личной жизни (одиночество), так и конфликт с
отвергающей его и чуждой ему самому современностью, утверждалась связь с миром
15
общечеловеческих ценностей (природа и сердечная привязанность). Любовь Клюева к
Анатолию порождала в молодом человеке глубокую ответную признательность поэту,
оказывающему громадное воздействие на формирование его духовного мира. «У тебя,
– писал своему бывшему ученику Анатолию киевский профессор И. Ф. Селезнев, —
есть необычайный вдохновитель – Клюев! Это громадная радость иметь общение с
таким поэтом! Это творчество будит твою душу, и твои нарождающиеся ху-
дожественные сны облекаются в надлежащий и выразительный наряд... Не бойся этих
снов. Это то, для чего стоит жить. Это то царство-государство, где можно спрятаться от
теперешней окружающей нас мрази»1.
Арест и ссылка Клюева в Сибирь не стали причиной их разрыва. Добрые
взаимоотношения между ними продолжались и в переписке. В письмах к своим
родным А. Яр-Кравченко свидетельствовал: «Он благословил мой жизненный путь
великим светом красоты и прекрасного. Имя его самое высокое для меня» (18 февраля
1935 г.). «Я среди этих каменных гор и этого гордого молчания природы много думаю о
дедушке, который прошел через мою жизнь, показал диковинную птицу и ушел. А я
стою зачарованный, стою, боюсь дышать, чтоб не отпугнуть паву. Но она неудержима,
обнимает протянутые к ней руки и расправляет крылья, чтобы улететь. Я плачу» (5 мая
1935 г.)2.
Трагическими письмами из сибирской ссылки последнему «песенному собрату» С.
А. Клычкову (преимущественно его жене Горбачевой) и своей «духовной сестре» Н. Ф.
Христофоровой отмечен заключительный этап жизненного пути поэта – страдного,
мученического, исповедального.
В этих письмах поэт раскрывается во всей полноте своей высокой судьбы.
Действительно, если родной Олонецкий край (откуда взошла его яркая поэтическая
звезда) создал его вдохновенным певцом радости, красоты и божественных
откровений, то Сибирь (где она вместе с его жизнью закатилась) способствовала
исторжению из его души только одного голоса – голоса страдания и скорби.
В них запечатлены все подробности состояния Клюева, пребывающего на
протяжении трех лет в жутких условиях неволи и выживания, под постоянной угрозой
гибели и холода. Гнетущая обстановка оказывает свое разрушительное действие на
поэта, и тогда в его письмах появляются признания в потере чувства внутренней
гармонии и равновесия, жизненной ориентации: «Я живу, как в тумане, ничего не
слышу и не вижу, и многое перестал понимать...» (В. Н. Горбачевой, 25 ноября 1935 г.).
Однако на помощь теряющему ориентацию и ясность мышления приходит по
обыкновению всегда спасительное у Клюева – осознание душевное. Из тупика
губительных обстоятельств поэт выходит путем обращения к миру собственной души,
к идее очистительной христианской жертвы, прежде всего – покаяния. В первые
месяцы ссылки он пишет: «Не ищу славы человече-
1 См.: Михайлов А. И. Лед и яхонт любимых зрачков // Север. 1993. № 10. С. 135.
2 См.: Михайлов А. Пути развития новокрестьянской поэзии. Л., 1990.
С. 240.
ской, а одного – лишь прощения ото всех, кому я согрубил или был неверен.
Прощайте, простите! Ближние и дальние» (С. Клычкову, 12 июня 1934 г.). «Целую ноги
Ваши и плачу кровавыми слезами» (Н. С. Голованову, 25 июля 1934 г.).
Напоминающая по первому впечатлению этикет эпистолярного стиля
древнерусской литературы поэтика этих формул не является, однако, стилизацией, а
происходит от самой жизни, неизменно исторически повторяющиеся типичные
ситуации которой как раз и повлияли на формирование подобного стиля, а затем давали
ему возможность закрепляться. Об этом пишет и сам поэт: «Теперь я калека. Ни позы,
ни ложных слов нет во мне. Наконец, настало время, когда можно не прибегать к ним
16
перед людьми, и это большое облегчение» (Н. Ф. Христофоровой, после 5 июля 1936
г.).
По сути дела все обращения Клюева с просьбой о помощи к своим адресатам
представляют собой мольбу о спасении его музы: «Меня нужно поддержать первое
время, авось мои тяжелые крылья, сейчас влачащиеся по земле, я смогу поднять. Моя
муза, чувствую, не выпускает из своих тонких перстов своей славянской свирели» (А.
Яр-Кравченко, вторая половина июня 1934 г.). Жалобы на невозможность в
существующих условиях проявиться его музе носят разнообразный характер – от
сетования на бытовые помехи до скорби в общенациональном масштабе по поводу
печального пренебрежения в его отечестве поэзией, являющейся подлинной «солью»
России: «Не жалко мне себя как общественной фигуры, но жалко своих песен. <...>
Верю, что когда-нибудь уразумеется, что без русской песенной соли пресна поэзия под
нашим вьюжным небом, под шум новгородских берез» (Н. Ф. Христофоровой, конец
1935 г.).
В целом же письма поэта из Сибири носят характер, сближающий их с
«посланиями» древнерусских авторов «духовного завещания», -завещания тем, кто
остается на воле, завещания молодым, которым суждено пережить весь ужас
лихолетья. Насколько они являются выражением «глубинных основ мировосприятия и
мироощущения их автора» исследователь подчеркивает: «Письма Клюева из ссылки
представляют собой сложный сплав эпистолярного жанра и идущего от древнерусской
литературы жанра духовного завещания. В этом нет ничего удивительного: годы и
болезни не оставляли Клюеву никакой надежды на благополучное возвращение из
ссылки. Удивительно другое: письма поэта свидетельствуют, сколь прочно и глубоко
жили в народе восходящие к средневековой древности взгляды и понятия, сколь
неистребимо сохранялась этикетность мышления и поведения русского крестьянина»1.
1 Юхименко Е. М. Народные основы творчества Н. А. Клюева. С. 11.
Следует также несколько остановиться на некоторых особенностях их содержания,
а также стиля всех клюевских писем вообще.
Подобно автобиографической прозе и публицистике они в значительной степени
насыщены апологией крестьянства (преимущественно в письмах к Блоку). В
противоположность известному славословию революции в своей публицистике, в
письмах, как жанре более искреннем, доверительном и «камерном», Клюев
высказывается о ней уже как о силе разрушительной: «Хотя при пролетарской культуре
такие люди, как я, и должны погибнуть, но все-таки не думалось, что моя погибель
будет так ужасна», – пишет он из Вытегры в Петроград В. С. Миролюбову в первой
половине января 1918 года. В том, что «революция сломала» «деревню» и его, Клюева,
«быт», его «избяной рай», он жалуется в письмах к М. Горькому (в том же году), а
также Есенину (22 января 1922 г.). Правда, в письме к С. Городецкому (лето 1920 г.) он
к этой жалобе добавляет: «Я очень страдаю, но и радуюсь, что сбылось наше -
разинское, самосожженчес-кое...» В полном отчаяния и безысходности письме
Миролюбову (осень 1919 г.) он признается в невозможности писать, несомненно, о
революции в том духе, в каком писал о ней раньше: «Они (стихи. – А. М.) уже с
занозой, с ядком. Бесенята обсели их, как мухи...»
Клюевские письма изобилуют отзывами, суждениями о текущей литературе, о
собратьях-писателях. Здесь он отмечает «удивительные по строгости, простоте и
осиянности строки» «свежих, как Апрельский Лес» стихотворений С. Клычкова (А.
Ширяевцу, 28 июня 1914 г.), «строгость линий» в стихах А. Ахматовой (В. С.
Миролюбову, январь 1915 г.), есенинскую «Радуницу» – как «чистейшую из книг» (А.
Ширяевцу, начало 1917 г.), «чудесные арсеналы с кладенцами» в поэзии П. Васильева
17
(В. Н. Горбачевой, 22 декабря 1936 г.) и, наоборот, «серость» и «неточность» в стихах
печатающихся в газетах «знаменитостей» (Н. Ф. Христофоровой, конец 1935 г.).
Письма – все-таки жанр в своей сущности весьма специфический, и не
отношением в них автора к окружающему миру он более всего определяется, а в
основном – отношением его к своему адресату, побудившему в данном случае
написать вот это самое письмо. Одним из таких побуждений выступает в письмах
Клюева стремление подсказать ему некие правильные действия, направить его на
верный путь. «...Нужно идти тем путем, который труднее всего. Брать то, что мир
отвергает, не делать того, что делает мир» (А. Яр-Кравченко, 14 февраля 1933 г.).
Опять же вспоминается наследуемый от традиции древнерусской литературы жанр
«духовного завещания».
Но еще более, чем наставительным, пульсируют письма Клюева тоном покаянным
и самоуничижительным (и не только из Сибири, а также более ранние, к примеру,
Блоку). Верный заветам традиционной архаической культуры, поэт использовал в
своих уничижительных формулах старинную эпистолярную этику и эстетику,
использовал ее органично и естественно.
И как ни у кого другого пульсируют письма Клюева чрезвычайно эмоциональными
обращениями к своим адресатам, щедрым одариванием их чувственно-красочными
эпитетами.
Только недавно опубликованная (и частично републикованная) проза Клюева имеет,
естественно, еще меньшую давность ее исследовательской интерпретации, тем более
истолкования ее поэтики. И всё же известные результаты уже имеются. В первую
очередь это неоднократно нами упоминавшиеся выявления ее генетической связи с
древнерусской литературой не только по линии жанра «духовного завещания», но и
многих концептов – символов, восходящих к фольклору. «Поэтика клюевской прозы
является мифологической. Его образы опираются одновременно на тексты Священного
Писания, апокрифы, народные легенды и фольклор. Мифологемы Голгофы, распятия
(сораспятия), воскресения, «последних дней», Преображения, огня, пожара, света,
тьмы, Красного коня, Змея становятся центром его художественного мира»
Обнаруживается исследователями «прозы поэта» ее пронизан-ность стиховым,
ритмическим началом, опять же унаследованным, по наблюдениям другого автора, от
образцов древнерусских и библейских текстов (в частности, так называемого
«версийного стиха»). Здесь средством ритмизации становятся «инверсия, анафоры и
другие риторические фигуры речи»; создаваемая с их помощью симметричность речи
образует своеобразный ритмический облик клюевской прозы как художественной, так
и публицистической». В статьях 1919 года эту ритмизацию данный исследователь
обнаруживает на уровне целых фрагментов, что дает повод считать произведение не
только «стихоподобным», но и настоящим «стихотворением в прозе» 2. Подобное же
отмечается А. Казаркиным, назвавшим всю «Гагарью судьбину» «прозаической
поэмой»3.
Проза Клюева (несомненно, в большей степени, чем его поэзия, подверженная
известному влиянию символизма) представляет собой соединительное звено между
литературой XX столетия и древнерус-
1 Пономарева Е. Проза Николая Клюева 20-х годов. С. 124-125.
2 Орлицкий Ю. Б. Проза и стих в творчестве Н. Клюева и других поэтов
новокрестьянского направления//Вытегорский вестник. 1994. № 1. С. 42.
3 Казаркин А. Игровое и трагедийное в поэмах Клюева // Николай Клюев: образ
мира и судьба. С. 49.
ской. Оставаясь уникальной по своему характеру, она, однако, не замыкается сама в
себе, а имеет много «сродников» в отечественной словесности, ибо, по словам
18

исследователя, Клюев как «прозаик – подлинно поэт, ощущающий язык как
сокровенное лоно культуры. При всей разности и значительности это, думаю, —
Алексей Чапыгин, в чем-то и Андрей Платонов, и Леонид Леонов, Валентин Распутин,
и Василий Белов, и Владимир Личутин, а возможно, и Александр Солженицын. Мне,
скорее всего, возразят и скажут: "Солженицын – другое"... Но замечу, что эта вязкость
слова, эта приверженность к языковой стихии, несмотря на многие несхожести, все-
таки роднит их»1. Наметится ли в поисках новейшей литературы сближение с прозой
Клюева, за которой стоит богатейшая традиция исконной национальной словесности и
духовной культуры, покажет литература наступившего нового времени.
Для читателя же, всецело погруженного в еще такой близкий XX век, с его
вершинными взлетами всей многовековой отечественной культуры и ее падением,
включая трагедию национального самосознания и самого генофонда, проза Клюева,
отобразившая всё это на самых разных уровнях и в завидной многожанровости,
окажется более чем самодостаточной.
Как и в известные далекие времена сердце такого читателя, уязвленное
изображенными в этой прозе «страданиями человеческими», вполне могло бы впасть в
глубокое помрачение, если бы само же творчество Клюева не содержало в себе ко
всему прочему еще и мощного заряда преодоления – через очищение духа и
воздействие неувядаемой красоты.
Александр Михаилов
1 Лазарев В. Я. Об особенностях творческого развития Николая Клюева и об их
современном восприятии // Вытегорский вестник. С. 49.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
РАЗДЕЛ I
Автобиографические штрихи
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
19
20

ИЗ ЗАПИСЕЙ 1919 ГОДА
– мужик, но особой породы: кость у меня тонкая, кожа белая и волос мягкий.
Ростом я два аршина, восемь вершков, в грудях двадцать четыре, а в головной обойме
пятнадцать с половиной. Голос у меня чистый и слово мерное, без слюны и без лая;
глазом же я зорок и сиз: нерпячий глаз у меня, неузнанный...
Принимая тело свое, как сад виноградный, почитаю его и люблю неизреченно
(оттого и шелковая рубаха на мне, широкое с теплой пазухой полукафтанье, ирбитской
кожи наборный сапог и персидского еканья перстень на пальце). Не пьяница я и не
табакур, но к су-ропному пристрастен: к тверскому прянику, к изюму синему в цеже-
ном меду, к суслу, к слоеному пирогу с куманичным вареньем, к постному сахару и ко
всякому леденцу.
В обиходе я тих и опрятен; горница у меня завсегда, как серебряная гривна, сияет и
лоснится; лавка дресвяным песком да берёстой натерта – моржовому зубу белей не
быть. В большом углу Спас поморских зеленых писем – глядеть не наглядеться: лико,
почитай, в аршин, а очи, как лесные озера... Перед Спасом лампада серебряная
доможирной выплавки, обронной работы.
В древней иконе сердце и поцелуи мои. Молюсь на Андрея Рублёва, Дионисия,
Парамшина, выгорецких и устюжских трудников и об-разотворцев...
Родом я из Обонежской пятины – рукава от шубы Великого Новгорода. Рождество
же мое – вот уже тридцать первое, славится в месяце беличьей линьки и лебединых
отлетов – октябре, на Миколу, черниговского чудотворца...
Грамоте я обучен семилетком родительницей моей Парасковьей Димитриевной по
книге, глаголемой Часослов лицевой. Памятую сию книгу, как чертог украшенный,
дивес пречудных исполнен: лазо-ри, слюды, златозобых Естрафилей и коней огненных.
...Родительница моя была садовая, а не лесная, во чину серафи-мовского
православия. Отроковицей видение ей было: дуб малиновый, а на ней птица в
женьчужном оплечье с ликом Пятницы-Параскевы. Служила птица канон трем звездам,
что на богородичном плате пишутся; с того часа прилепилась родительница моя ко
всякой речи, в которой звон цветет знаменный, крюковой, скрытный, столбовой...
Памятовала она несколько тысяч словесных гнезд стихами и полууставно, знала Лебедя
и Розу из Шестокрыла, Новый Маргарит – перевод с языка черных христиан, песнь
искупителя Петра III, о христовых пришествиях из книги латинской удивительной,
огненные письма протопопа Аввакума, индийское Евангелие и многое другое, что
потайно осоляет народную душу – слово, сон, молитву, что осолило и меня до костей,
до преисподних глубин моего духа и песни...
Пеклеванный ангел в избяном раю – это я в моем детстве... С первым пушком на
губе, с первым стыдливым румянцем и по особым приметам благодати на теле моем
был я благословлен родителью моей идти в Соловки, в послушание к старцу и
строителю Феодору, у которого и прошел верижное правило. Старец возлюбил меня,
аки кровное чадо, три раза в неделю, по постным дням, не давал он мне не токмо
черного хлеба, но и никакой иной снеди, окромя пряженого пирожка с изюмом да вина
кагору ковшичка два, чистоты ради и возраста ума недоуменного – по древней
греческой молитве: «К недоуменному устремимся уму. .»
Письма из Кожеозерска, из Хвалынских молелен, от дивногорцев и спасальцев
кавказских, с Афона, Сирии, от китайских несториан, шелковое письмо из святого
города Лхаса – вопияли и звали меня каждое на свой путь. Меня вводили в
воинствующую вселенскую церковь...
21
Жизнь моя – тропа Батыева: от студеного Коневца (головы коня) до порфирного
быка Сивы пролегла она. Много на ней слез и тайн запечатленных.
Я был прекрасен и крылат В богоотеческом жилище, И райских кринов аромат Мне
был усладою и пищей. Блаженной родины лишен И человеком ставший ныне...
Осознание себя человеком произошло со мной в теплой закавказской земле, в
ковровой сакле прекрасного Али. Он был родом из Персии и скрывался от царской
печати (высшее скопчество, что полагалось в его роде Мельхиседеков). Родители через
верных людей пересылали ему серебро и гостинцы для житейской потребы. Али
полюбил меня так, как учит Кадра-ночь, которая стоит больше, чем тысячи месяцев.
Это скрытное восточное учение о браке с ангелом, что в русском белом христианстве
обозначается словами: обретение Адама-Али заколол себя кинжалом...
Меня арестовали на Кавказе; по дороге в тюрьму я угостил конвойных табаком с
индийским коноплем и, когда они забесновались, я бежал от них и благополучно
добрался до Кутаиса, где жил некоторое время у турецких братьев-христиан...
О послушании моем в яслях и купелях скопческих в Константинополе и Смирне, в
садах тамошних святых тебе, милый, выведывать рано, да и не вместишь ты
ангельского воображения...
Саровский медведь питается медом из Дамаска.
❖ ❖❖
Труды мои на русских путях, жизнь на земле, тюрьма, встреча с городом, с его
бумажными и каменными людьми выражены мною в моих песнях, где каждое слово
оправдано опытом, где всё пронизано рублёвским певческим заветом, смысловой
графьей, просквозило ас-сис<т>ом любви и усыновления.
Из всех земных явлений я больше люблю огонь. Любимые мои поэты Роман
Сладкопевец, Верлен и царь Давид; самая желанная птица – жаворонок, время года —
листопад, цвет – нежно-синий, камень – сапфир, василек – цветок мой, флейта —
моя музыка.
<1919>
ГАГАРЬЯ СУДЬБИНА
Я родился, то шибко кричал, а чтоб до попа не помер, так бабушка Соломонида
окрестила меня в хлебной квашонке.
А маменька-родитель родила меня, сама не помнила когда. Говорила, что «рожая
тебя такой холод забрал, как о Крещении на проруби; не помню, как тебя родила».
А пестовала меня бабка Фёкла – Божья угодница – как ее звали. Я без мала с двух
годов помню себя.
Грамоте меня выучила по Часовнику мамушка. Посадила меня на лежанку и дала в
руку творожный колоб, и говорит: «Читай, дитятко, Часовник и ешь колоб и, покуль
колоба не съешь, с лежанки не выходи». Я еще букв не знал, читать не умел, а так








