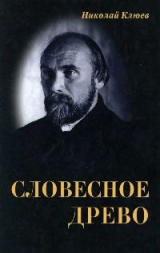
Текст книги "Словесное древо"
Автор книги: Николай Клюев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 46 страниц)
из себя обиду – это, конечно, тяжелей вдвойне. Твердо уверен, что мой тюльпан не
увянет и не надломится. Умелые бульварные профессора истратили свой газ попусту, и
ты не бросился в объятия первой встречной, на что был рассчитан вонючий выстрел.
Тут не без корысти и надежд и со стороны самого куплетиста. Приеду, если не умру,
третьего числа... Благословляю еще раз. Готовлюсь к сладкой казни. Мир тебе и жизнь!
Больше письма не будет. Телеграмма же послана: «Приеду третьего». Приезжай,
приезжай – судья мой неумолимый! Жду. Сердце и песни мои да будут тебе щитом от
темных нападений!
182. А. Н. ЯР-КРАВЧЕНКО
182
17 декабря 1932 г. Москва
Обязательные поправки в стихах для «Звезды». Общее заглавие:
Стихи из подвала
Художнику Анатолию Яру (Без Кравченко, чтобы звучало поэтичнее, и без
заголовка «Письмо».)
В строке: «Они не укоризна пиру» – нужно: «Их стон не укоризна пиру».
В стихот<ворении> «Ночь со своднею...» написано: «Ставлю я булыжной», нужно:
«Ставлю я горбатой Пресне».
Написано: терпкую росу, нужно: ярую росу.
Написано: «Заблудился Марк Аврелий», нужно: «Серебрится Марк Аврелий».
Написано: «Я выверну ишачью шею», нужно: «Я надломлю ишачью шею».
Написано: «Чиня былые корабли», нужно: «Чиня былого корабли».
Прошу тебя, друг мои верный, обратить на подчеркнутые слова самое тщательное
внимание. Это стихи твои кровные, и ты должен ради их потрудиться, даже если бы
тебе пришлось отложить свой визит к Горбову, насколько бы этот визит <ни> был для
тебя дорог!
Послал тебе большое спешное письмо с доверенностью, – посылку с палеховским
зографом. Если не передали, то сходи к Дыдыкину Николая Васильевичу, она лежит у
него на Крюковом канале, против церкви Николы Морского. Пей чай (заваривать
можно по неполной чайной ложечке) и помни своего деда – приедешь – найдешь его
еще более старым, чем в твой приезд с Горбовым. Одевай дома валенки, я думаю у вас
сыро – не захвати ревматизма – не то эта болезнь влияет на сердце и вылечивается
годами. В Москве зима пушистая и сухая. У меня в подвальце очень тепло и сухо.
Только сердце устает непрестанным созданием твоего присутствия. Твои вятские
штанишки висят в обнимку с лапотками, и я прикладываюсь к их заплаткам всякое
утро и даже ночью. Что будет дальше? Выдержит ли сердце и песня?
Твой Дед.
В стихот<ворении> «Ночь со своднею...» написано: Вяткой, Вологдой, Рязанью,
нужно: Черемисиной, Рязанью. Написано: луна косая, нужно: луна глухая. Целую до
зубов – до крови, до души!
183. М. А. ЗЕНКЕВИЧУ
21 декабря 1932 г. Москва
Дорогой поэт – мне передали, что моя поэма о юном герое находится у тебя. Мне
нужно знать, что с нею делается. Тройский мне обещал ее напечатать в «Новом мире».
Убедительно прошу об ответе!
Низко кланяюсь.
Н. Клюев.
Гранатный, 12, кв. 3.
184. А. А. ПРОКОФЬЕВУ
Наголо 1933 г. Москва
Дорогой поэт!
Присылаю Вам свои стихи, прошу что-либо выбрать для журнала и усердно прошу
об авансе рублей триста! Жить очень тяжело.
Ради моего сердца прошу Вас не давайте никаких прямых ответов на вопросы
Брауна о певице (она оказалась не московской, а питерской) и протчем. Толя просил
Брауна разузнать косвенно от Вас – источники Ваших сведений. Умоляю, поэт, не
выдавайте! Кланяюсь любезно братски. Жду ответа.
Преданный Н. Клюев.
185. А. Н. ЯР-КРАВЧЕНКО
14 февраля 1933 г. Москва
183
Дорогое дитятко! Получил твое письмо, благодарен тебе за него глубоко. Много бы
можно о нем поговорить или отписывать, но отлагаю это до твоего приезда ко мне.
Прошу тебя известить меня заранее о своем выезде, чтоб я мог, насколько
позволяют мои силы, встретить гостя не буднями.
Виктор живет у меня на полном содержании, у него ни копейки. Поступил он на 200
руб. Первая получка будет в марте, и его придется попросить жить у себя и питаться
без моих хлопот. Мне очень тяжело с ним. Хотя и спасибо ему, что он ночует у меня,
пока я болен. Врач очень доволен, что сосуд у меня разорвался в легком и во рту у
слюнной железки, могло быть кровоизлияние в мозгу.
Кровь не перестает показываться – вот уже неделя – каждый день. После твоего
письма как будто стало в глазах светлей, но главная боль левой половины затылка очень
сильная. Прописано лекарство. Верю тебе – твоему лекарству. Только оно может меня
поставить на ноги, возвратить творческие часы, которые в моем положении все
считаны. Ими весьма надо бы дорожить. Пока же они погасли. Во всю зиму я не был
ни у кого, не оттого что я боюсь людей, а потому что не жду и не желаю от них ничего.
И сладостно, что в болезни и мучении последних недель я как никогда утверждаюсь в
том, что нужно идти тем путем, который труднее всего. Брать то, что мир отвергает, не
делать того, что делает мир. Идти против мира во всех путях его, и тогда дойдешь к
торжеству кратчайшим путем. Входите тесными вратами; потому что широки<е> врата
и пространный путь ведут в погибель (Евангелие от Матфея). И когда ты говоришь, что
нужно всё испытать вплоть до спермоля – это лишь ядовитый суррогат познания. На
самом же деле тебе нужно быть покорным шепоту души и сказать самому себе так:
нужно быть многострунным, нужно всем пожертвовать, всё претерпеть, ни перед чем
не останавливаться, нигего не бояться, ничему не верить, кроме подлинного голоса
сердца. Должно всюду искать, углубляться в изыскания философии, изучать древность,
черпать из музыкальных созвучий, жить с каждым цветком в природе, понять все
страдания и их умиротворить, жить в вихре суетного света, не принимая его законов
как истины, любить, плыть по волнам фантазии, читать, любить искусство, понять пре-
лесть варварства, всё нанизать на ось опыта и оставаться теплым и ясным, как заря над
озером, быть спокойным, недвижным, как снег на вершинах гор, и лишь в любви и
ревности быть буйным и мятежным, как море! Вот твой истинный голос, когда ты
говоришь, что нужно всё испытать. Я договариваю за тебя. Верю, что ты примешь это.
Прости, ласточка, что первый раз за все шесть лет нашей близости я позволяю себе
что-то похожее на поучение. Не принимай этих прекрасных слов и за насилие над
тобой. Видно, так надо, чтоб они сказались. Пастернаку написал, но ответа еще нет.
Послал тебе пару белья, – получи их у Елены Михайловн<ы>. Больше ничего не взя-
лись везти. В «Земле советской» напечатаны мои стихи, но гонорара никак не могу
получить. Даже не на что выкупить паек. Мамин пирог я получил. Напрасно
беспокоилась – благодарю!
Написал Тихонову письмо, чтоб напечатали два стихотворениях Предложи им: «Я
лето зорил на Вятке...» В стихот<ворении> «В разлуке жизнь...» слово «молился»
можно заменить словом -«трудился» (хотя это и будет клеветой на самого себя). Павел
Васильев объявился. – шубу на хорях снес обратно в комиссинку, пьет до опухоли,
ходит звероподобным – на волосок от ночлежки и воровской «фомки» (так называется
инструмент для взлома). Одним словом, настоящий Пушкин, только такой, каким его
понимает каторжная камера, дебри ночлежек и ночных трущоб. Спрашивал: «Где
Толька Кравченко? Я его хочу познакомить «с одной» из "Нового мира"». Я собрал кое-
что про эту «одну». Оказывается, она дочь инвалида из ларька с квасом и пивом -
изъеденного всеми проказами существа, была замужем за наборщиком объявлений, но
об<ожрала его – костюм, велосипед, полевой бинокль, керосинку и всё белье —
184
теперь марьяжит с Васильевым, с которым видела тебя в «Новом мире». Одним словом,
лилия с полей Саронских. Что породило возможность таких предложений моей
ласточке, моему светлому другу? И почему моей юности никто не смел делать таких
сувениров? Клычков тоже видел тебя с Васильевым в «Новом мире» – говорил, что
после вашего ухода долго смеялись, что Пашка таскает за собой ходячую
американскую рекламу. Так, вероятно, было нелепо, пришей кобыле хвост, видеть вас
парой! Как водится, Пашка спарил Клычко-ва с «лилией», и получилась панорама:
Клычков заболел – очень серьезно твердым шанкром. Приходил ко мне и, не
стесняясь Виктора, чужого человека, умолял помочь, обвинял Пашку, что он спарил его
с больной, с умыслом довести до пули, предварительно издеваясь над его, Клычкова,
семейным счастьем и напирая на поэтическую свободу (мол, мама заругает). И
Клычков не выдержал и доказал свою свободу и независимость от мамы...
Так Провидение оберегает тебя. Запомни это покрепче. Поразмысли и над таким
явлением: вот Пастернак – поэт и известный человек, ты им весьма очарован, почему
же никакой Васильев не властен над ним, никто не может затащить его в кабак или к
Эльзе? Попробуй-ка затащи! Но, прости меня, моя камская чайка, – всё от заботы, всё
от боли. Прости! Я ведь знаю, что моя ласточка, в какую бы помойную яму ни залетела,
со щебетом, полным омерзения и тревоги, выпорхнет из нее сверкающей и чистой, как
утренний луч. Верю в это. Поддержи во мне эту веру! Простираюсь к тебе любовью
моей. Благословляю, ограждаю от темных житейских наитий. Учись разбираться в
людях, не ходи за ними по первому зову. И будешь счастливей и жить будет легче,
потому что меньше будет ошибок.
В Москве глубокий снег. По утрам заглядывает солнышко в мой подвалец. День
заметно прибыл. Как в Питере? Есть зацепочка в Курских краях: река, лес, изба в саду
яблонном, губерния не жаркая и не холодная – климат и погода ровные. Как тебе это
представляется? Можно Карелию – к большому рыбному озеру – светлому, с пре-
красными сухими берегами, лесом, охотой, но скудно маслом и яйцами. Напиши свои
соображения. Как живешь? Придут оттепели, не простудись, не стой долго на улице
после усиленной беготни. Сообрази – как бы тебе прислать гостинец – поспрошай, не
поедет ли кто. Прокофьева у меня не было, вероятно, и не заходил, я все дни и вечера
дома безысходно. Вышли книги с портретами. Кланяется Грабарь и советует мне
удержать тебя от жажды скороспелой славы. Ему, говорит, нужно не жажда славы, а
жажда знания, а остальное всё придет в свое время. Это его точные слова. Он был у
меня. Прости, дитятко мое! Не осуди деда. Жду ответа. Только твоими письмами и
живу.
186. А. Н. ЯР-КРАВЧЕНКО
22 февраля 1933 г. Москва
Дорогой Толечка! Жду ответа на два последние письма. – Ставлю тебя в извест-
ность, что по твоему заявлению ты временно выписан из моей квартиры. Как, дитя,
живешь? Всё ли у тебя благополучно? Как твоя душенька? Извещай о времени приезда.
Не то я сам приеду. Как только оттеплит немного. Больше нет сил ждать... Истерзался
сердцем и песней. Тяжко. Не медли письмом. Целую тебя. Как твои карие яхонты -
небось, стали мутнее? Прости.
187. А. А. ПРОКОФЬЕВУ
24 февраля 1933 г. Москва
Дорогой поэт! Сейчас Толечка ездит в Детское писать Федина. Беспокою Вас
просьбой поговорить – с Толей – о моей к Вам просьбе. Время самое подходящее.
Нужно в экстренном порядке, не медля ни одного дня. Сердце мое будет Вам
благодарно.
Москва, Гранатный, 12, кв. 3.
185
Н. Клюев.
188. А. Н. ЯР-КРАВЧЕНКО
4 марта 1933 г. Москва
Здравствуй, мое дитятко.
Пишу на почте. Очень рад, что «Липы» не прозвучали в твоем сердце как панихида
по нашей дружбе. Мне вовсе не лестно, что Фе-дин взволновался моей болезнью, вот
если бы ты почувствовал ее во всей значимости, то это было бы для меня драгоценно, а
для тебя прекрасно и благородно!
Я одиночествую только для тебя, чтоб не мог ты ничем укорить меня. Люблю.
Целую. Дед.
189. А. Н. ЯР-КРАВЧЕНКО
1 апреля 1933 г. Москва
Благодарю тебя, свет мой и любимое дитя мое, за цидульку жалкую и рваную, но
всё же сердечно дорогую и желанную! Доехал я благополучно. Виктор, как и следовало
ожидать, прибыл на вокзал встречать меня тогда, когда я уже был дома и ждал его
несколько часов, сидя у соседей. Свое гнездо я нашел, разумеется, хлевом, все вещи и
посуда до единой чашки унавожены до неузнаваемости. Квартиру Виктор не топил.
Форточку не открывал, окон не протирал, так что они заросли грязью снаружи. С
самоваров воды не выливал, и они проржавели и стали течь. Прокипятил их с содой и
изгнал смрад и гниль из них. Занавес, одеяло и подушки – как передник у кузнеца —
всё отдал в стирку до половиков включительно. Эта скотина ничего не видит и не
слышит, и никаких даже присущих собаке чувств и привязанностей у него к тебе или ко
мне и допустить смешно, так что твое милое хозяйство здорово пострадало от
испытанного лишь в идиотстве и шалапайстве приятеля! Он всё мучит меня
обещаниями купить белила и проч<ее> и тем тормозит отправление тебе штиблет и
галош почтой. Не две же посылки соображать?! Радоваться ли, что тебе дали отпуск —
месяц? По-моему – хорошо! И учебный год тебе зачтется, и осень будет без хлопот об
экзамене. Непременно попей нарбутовского лекарства и возьми хоть 8—10 ванн.
Многое в твоем поведении, вплоть до излишней дозы портвейна в чай, объясняется
твоим нездоровьем. Ты, конечно, это понимаешь, тем более имея всегда перед глазами
такое страшное доказательство невнимания к своему здоровью, как твой брат
Владимир! Я содрогаюсь за острую опасность для тебя от близкого общения с ним до
поцелуев включительно,
когда у тебя на губе появится кровоточащая маленькая с виду невинная ранка —
будет поздно. Подумай об этом посерьезнее – и не обвиняй – лихорадку и нервы в том,
что они породили в лице Владимира – экспонат – наглядное пособие для изучения
даже невеждами, даже родственными сердцами, прогрессивного сифилиса. Я очень
боюсь, ласточка, за тебя! Хотя мне и тяжело говорить так о твоем брате. Прости меня,
но я не могу молчать. Не вздумай вести Владимира к Нарбуту, он ему не поможет, а о
тебе и о твоих близких Нарбуты выведут крайне темное представление. Врачей в
Питере по сифилису достаточно. И тебе путаться в это дело нельзя. Помни, что
безногое дальше бежит. Жду твоих резонов о приезде в Москву – так буду и
соображать, не доводи извещением до последнего дня. Моих слез и так достаточно.
Вплоть до Твери я плакал. Так что соседи по вагону жалели «бедного священника»,
которому, вероятно, не дали паспорта и разлучили с горячо любимым сыном. Они
видели тебя в окне. Жалкие люди, убогие и серые вороны!.. Надеюсь, что до 15-го ты
удосужишься написать мне, чтобы я не жил предположениями, особенно мне что-то
жутко за твои поездки в Детское, что-то царапает мое сердце... Обрати на это
внимание. В общем же у меня как будто всё благополучно. Дров березовых полная
кладовка – приехал, нанял троих мужиков – распилили в полчаса и сложили. Виктор и
186
этого не сделал. Здоровье мое покрепчало – после свидания с тобой, и в груди что-то
похоже<е> на успокоение, но, конечно, не равнодушие. Как ты себя чувствуешь? Не
простудись на вешнем ветру. В Москве погода синяя и ясная. Только под утро сухо —
прохладно. Я топлю печь каждый день... (конец письма утраген).
190. Л. И. РАКОВСКОМУ
11 апреля <1933 г.> Москва
Раковскому.
Извините – не знаю Ваших имени и отчества, но мне передавали, что Союз
пожалел меня и постановил помочь мне деньгами, мануфактурой и более сытным
пайком. Мне необходимо крайне получить всё это, а о пайке иметь, конечно,
постановление Союза для Москвы. Помогите мне в этом! Я очень болен и для меня
очень невыносимы хлопоты.
Адрес: Москва, Гранатный переулок, дом 12, кв. 3.
Н. Клюев.
Низко Вам кланяюсь. 11 апр<еля>
191. А. Н. ЯР-КРАВЧЕНКО
11 мая 1933 г. Москва
Дорогое мое дитятко, сказка моя прекрасная и ненаглядная, целую тебя, кланяюсь и
припадаю к сердцу твоему со слезами: пожалей меня, не губи, – без игры и
самолюбования, как только прочитаешь это письмо, немедля напиши мне ответ. После
того, как я усадил тебя на извозчика и с сердцем, полным слез вернулся в свой
опустевший угол, я непрерывно все последние недели хвораю. Физическую болезнь
моего сердца ты знаешь, но в душевную мою боль навряд ли веришь. Так вот, я болен
именно этой душевной болезнью, и всё время после твоего отъезда безмерно страдаю,
собирая в одно целое все твои словесные кусочки, звук твоего голоса, выражение глаз и
лица, и, конечно, твоего поведения. Так восстанавливают мелко разорванное письмо —
складывая его буква к букве. Такой работой я и занят день и ночь. Не скрываю, что
работа очень мучительная. Ты, как бы предвидя ее, постарался изорвать письмо
помельче, видимо, еще жалея свою старую добрую ворчунью-няньку, но не в силах
поступиться и крупицей своего Я в пользу этой няни (или деда). Произошло же это в
тебе потому, что ты под напором гужого, холодного мнения обо мне усомнился в моей
мудрости и значительности как человека и художника. А это для тебя и для любви
нашей величайшая опасность, ибо природа любви – это служение любящих друг
друга. Никогда я не верховенствовал над тобой, а только служил и желаю служить, как
дед, как няня Родионовна, даже как последняя кухарка, – до гроба, а в небесном
прощении – первой моей просьбой к Источнику жизни, конечно, будут слова:
благослови, спаси, введи в свою любовь и раба твоего – юношу Анатолия! Но только
не за себя. Это я знаю твердо. Спаси – от широкого пути, ведущего в погибель – к
черным вершинам гор и пропастям! Спаси от путей дешевой авантюры, мишуры
житейской и вредных растлевающих похвал! Пусть дитятко мое идет в голубую страну
(о которой ты пишешь в последнем письме) не путем Шурок Быстряковых и его
страшной компании, не торцовой мостовой жигана, но в общем дурака негодяя
Васильева, а трудной, но радостной тропинкой Иванова, Серова, Гоголя, Рериха,
Чистякова!
Толечка, ласточка моя апрельская, всем опытом, любовью, святыней, заклинаю тебя
– не отравляйся личинами, не принимай за подлинность – призраков Быстряковых и
его патронов, Васильевых и старых, как ад, Эльз Каминских – с непременной
бутылкой с клеве-тами и бесчисленными предательствами! Все подобные исчезают, как
смрадный дым. Пройдешь мимо и не найдешь даже того места, где они были. Даже
житейски пользоваться ими тебе – нет моего согласия. Ты, надеюсь, убедился в этом:
187
получил несколько тюб белил, а заплатил за них лучшей стороной своего существа,
строил рожу по Калитину – идиотскую и безответственную, заискивая перед заведо-
мыми негодяями, в угоду им пьянствовал всю ночь и часть следующего дня (лошадь бы
не выдержала) и этим ввергнул в пучину страдания своего песенного деда... Я до сих
пор болен. Издевательство Васильева надо мною (вот, мол, твой ангел-то! Был пьянее
всех и ночевал – где? не скажу), разговор Быстрякова с Витоном – ехидный, с намеками
на твое величие, и его уверения, что ты никогда у него не бывал, что вечеринки у него
не было и что он тебя видел в последний раз в июне месяце – не считая твоих личных
недомолвок, – всё это сделало свое дело... Проведя страшную ночь в нервной
лихорадке, теперь я вовсе доконал себя. У меня воспаление затылочных нервов. Боль
страшная, временами даже слепну на оба глаза, ночи напролет не сплю, всё вижу тебя в
ужасных превращениях. Сегодня всю ночь отбивался от тебя – будо ты хочешь всадить
мне нож, а я, слепой, не вижу твоего дорогого лица, только умоляю выслушать меня!
Собираюсь в пять часов в клинику к профессору Вер-зилову по нервам. Виктор
проводит меня. Головой я не могу пошевелить. Шея сзади опухла, уши заложило, и
болят глазные яблоки. Движусь лихорадкой – пишу тебе, пока вижу бумагу, при
первом же ударе ослепну, как Озаровская. Мысленно смотрю – не нагляжусь в твои
глаза-яхонты, любовь моя нетленная, лосенок мой душистый, но, конечно, не в глаза,
поставленные по калитинской школе – мутные, как у лунатика, а строгие и умные, без
улыбочки на лице – что так украшало тебя! И что влекло к тебе старших серьезных
людей.
Рыдая, продолжаю писать. Вот тебе еще пример из книги жизни: ты жадно смотрел
на Васильева, на его поганое дорогое пальто и костюмы – обольщался им, но это
пустая гремящая бочка лопнула при первом ударе. Случилось это так: Оргкомитет во
главе с Тройским заявили, что книги Васильева – сплошной плагиат – по Клюеву и
Есенину – нашли множество подложных мест, мою Гусыню в его поэме и т. д., и т. д.
Немедленно вышел приказ рассыпать печатный набор книг Васильева, прекратить
платежи и договоры объявить несостоятельными, выгнать его из квартиры и т. д.
Васильев скрылся из Москвы. Все его приятели лают его, как могут, а те дома, где он
был, оправдываются тем, что они и не слыхали и незнакомы с Васильевым и т. п., и т. п.
Вот тебе, дитятко, памятка, к чему приводит легкий путь авантюры без труда и
чистого сердца! Замутится разум у художника, и неминуемо отразится это на искусстве.
Вспомни рассказ Грабаря о Сомове! Твой же дед, вопреки чужому холодному мнению,
имеет право и замолчать, как имеют на это право, напр<имер>, Нежданова, Шаляпин
– что в том плохого, если Сирин-птица, отпев свои земные песни, вознесется домой, в
рай?! Ты же моим молчанием и одиночеством смущен. Не смущайся, любовь моя
сладкая, после твоей Родионовны (так звали няню Пушкина) останется <ноский> чулок
и волшебные спицы, и тебе, при всем твоем славолюбии, не придется стыдиться
дружбы с нею! Предсказываю тебе: если ты повредишь нравственное существо в самом
себе, – то и с тобой будет то же, что и с Васильевым. Мой долг сказать тебе это.
Выпивоны с недоросшими до тебя в культуре сверстниками самое длительное года
через два-три сделают из тебя дисгармоничное обозленное, как Клычков, Есенин,
существо с пропадом впереди. Поэтому молю тебя, свет мой, уклоняйся от выпивонов,
как бы они по виду невинно <ни> были обставлены.
Есенин гораздо позже твоего, 27 лет, стал привыкать к рюмочке – сперва только к
портвейну, и через четыре с небольшим года его путь кончился в меблиражке на
собачьей веревке. Напиши мне чистосердечно и просто, как старой няньке – поклон и
объясни, что значит, что Быстряков уверяет, что никакой вечеринки у него не было и
что ты у него никогда не ночевал и никакого у него дивана под лестницей не
существует, где бы ты мог спать, тем более в квартире его патрона и мецената? Если ты
188
этот мой вопрос замолчишь, то доконаешь меня окончательно. Клянусь тебе, что
любовь моя останется невозмутимой, как лесное озеро! Ведь только от лжи оно тем-
неет. Не подбирай слов для своего ответного письма. Всё можно сказать твоему деду.
Всё он поймет. Всё примет во внимание. Бережно, с истовым доверием приму я каждое
слово твое – ласточка моя! Где ты был в проклятую ночь? Помню, пахло от тебя чужим
мылом, ты был серый, с <печенками> под глазами, с сухими губами – всю поправку
своего здоровьишка, все хлопоты деда истратил в одну ночь. Поди, в Питер-то приехал
зеленый? Напиши мне немедленно, в случае удара со мной приедешь ли хоронить меня
или темны <леса> помешают и широкие пути задержат тебя?
Представь ярче мертвецкую больницы и одинокий гроб. А это может случиться
раньше и проще, чем ты думаешь. Смерть бабушки в день свадьбы твоего брата – тебе
пример и указание. Поторопись, дитя мое, щебетом ласточки поведай мне, пожалей
мою ревность: где ты провел пьянку? О чем просил Васильева на кухне? Была ли
пьянка с Васильевым у тебя, когда я был в Сочи (то, что ты был с ним в ресторане и у
Каминской, ты мне говорил сам). Сколько выпили? И где ты ночевал после выпивки с
Васильевым и с кем? Или ночевал Васильев у тебя и с кем? При каких милых
отношениях мои стихи попали к Васильеву? Чем он тебя вовлек в это преступление?
Обещал протекцию и т. п.? Всякий бы и каждый на твоем месте давно бы рассказал всё
по порядку. Ответь, что тебе мешает? Наша светлая дружба останется алмазной, и еще
больше раскроется душа моя навстречу тебе – моему солнышку. Слезами бы я омыл
ноги тебе за чистосердечный лепет о твоих молодых и таких понятных грехах, но ты,
видно, боишься, что я слаб, и охладеет любовь моя? Какое заблуждение! Разве только
поплачу, а ведь слезы, как говорит мудрость, самый крепкий цемент любви. И нет
другого материала, годного для скреп стен вокруг дружбы. Радость моя, возврати мне
чувство свежих древесных вершин! Исцели меня! Никакая клиника не поможет мне в
этом. Только ты одним словом можешь возвратить мне здоровье и свет душевный.
Плача, прошу тебя об этом! Пожалей, не озлобляйся, поверь, почувствуй и наконец
пойми! Уразумей, мое ненаглядное дитятко, что если Бог продлит тебе жизнь, о чем
моя всегдашняя молитва, то моя гибель – будет тяжкой для тебя ношей! Я так верю.
Ты слишком прекрасен и горд, чтобы мне понимать это иначе. Благословляю, целую
горячо. Полагаю к твоим ногам любовь пригоршней, как птичку всю избитую и
окровавленную. Жду ответа. Не досадуй. Укрепись. Будь здоров, береги себя. Не суди
меня строго.
В Москве дни заметно стали дольше – светлее. Помоги моей тьме! Твой дед.
192. А. Н. ЯР-КРАВЧЕНКО
Середина мая 1933 г. Москва
Дорогой друг, дитятко мое ненаглядное, незабвенная песня моя, получил от тебя
бандероль, и мгновенно сбежала с глаз муть и хмара, увидел я, что Москва вся залита
солнцем, в окно нашего гнезда тянет тополевой почкой... Господи, верно, я еще жив!
Мягко и тепло дышит сердце, мысленно спускаюсь как бы по бесчисленным ступеням
подземелья, в последний предел глубины его, смотрю – цело ли сокровище мое?
Любовь моя, тяжелая, как платина, дружба, груды чистейших сверкающих слез. Всё,
как было. Всё нерушимо, ничто не потрачено и не расхищено. Это мой заповедник, мой
заклятый клад. И в то же время не мой, а лишь тебе, по какому-то таинственному
избранию, единственному, – принадлежащий. Ты наследник души моей. Но страшно
от вещей полноты, от осознания этого таинства. Моя молитва, чтобы ты хотя бы
почувствовал кое-что из этой грозной, обручающей человека с вечностью евхаристией!
Не верю, что я говорю эти слова впустую. (Но ведь так властны горы словесного праха
и мусора и так трудно из-за них услышать настоящее. Особенно в твоем положении!)
Но не беспокойся обо мне! Прошу тебя. Будь за меня спокоен. Я выживу и тараны
189
кораблекрушенья. Давно, в предугадывании кораблекрушения, сложило сердце песни о
грядущей розе и луне. Но, ласточка моя, живи, трепыхайся и щебечи, не жалей меня и
не делай мне ничего хорошего из сострадания. Умоляю тебя об этом! Пусть из
сострадания не родится мое счастье. Ибо счастье и сострадание -огонь и вода – вечно
несоединимы, и только женское коварство может прикрываться состраданьем, да не
будет между нами так!
Я здоров, успокоился... Сплю хорошо, ем тоже. Недавно испёк ватрушку, такую же,
как на Пасху к твоему приезду. Долго смотрел на нее и вдыхал аромат, и вдруг
явственно увидел тебя сидящим за столом, на твоем обычном месте: в одной нижней
рубашке, руки опущены вниз, голова забинтована через подбородок больничной
марлей, и на правом бугре лба бурое кровяное пятно. Так и не попробовал я ватрушки,
перерезал ее пополам и подал нищей приходящей монахине, Христа ради, за упокой
твоей души. И что-то похоже<е> на зависть к тебе осталось во мне. Прошу тебя,
Толечка, – являйся мне хотя бы изредка! Как там? Ты уже знаешь. И что делать мне,
чтобы приобрести твою способность посещений? Я радуюсь за тебя, за твои горькие
удачи, они прекрасны, но роковая пьянка не замедлила отразиться и на твоем
искусстве: у Пастернака две разных половины лица едва связан<ы> (пропуск в тексте
истогника) у этих друг друга плеча.
(Пропуск в тексте истогника) доказательство, что пьянка и живопись не сестры.
Сам Пастернак наблюдает за своим стихом то же самое, что выявилось для меня в его
портрете. Прости меня, но я в своем уверен. И ничьих рецептов на этот случай слушать
не хочу. Всю трепологию отвергаю. Как ты и предупреждал – я получил анонимное
письмо от Воробьевой. Это гнусный, шитый белыми нитками донос на нашу дружбу и
на тебя в особенности – на твою совесть и благородство. Письмо написано набело с
черновика, и не без участия второго лица – это я остро чувствую. Ни малейшего
волнения психического эфира в нем не наблюдается. Оно жалко и трафаретно-ко-варно,
с предварительной лестью-подкупом мне как поэту, и с угрозой, что «законы
революции и диалектики не на моей стороне». Эта фраза наводит на размышление: в
таком же звучании, смысле и скреплении я слышал ее от следователя... Она уже стала
классической и известна многим. Во всяком случае это не творчество влюбленной
женщины <...>
Прости меня, дитятко, и не осуди! Но дело в следующем: 5-го мая, в смертельной
тоске по любви твоей, я сжег уже засвидетельствованное нотариально и
предназначенное тебе вместо красного яйца мое духовное завещание. Смерть так
близка ко мне, а тьма и неопределенность твои так мучительны, что я не мог поступить
иначе. Все письма твои собраны мною и перевязаны... А на земле весна. Леса и поля
посылают вести в город – ветки и цветы. Они во всех киосках, на всех углах, и даже у
меня на столе желтые ручьевые цветы. Ведь они так идут ко мне: их цвет выражает
судьбу мою, последние дни мои. Ах, Клюев, до чего ты дошел! Тур из Беловежья,
медведь печер-ский, а хнычешь хуже зайца про любовь, про цветы, про заблудившегося
дорогого лосенка, который запутался золотыми рожками в бабьей юбке, и, быть может,
и знать не хочет твоих лугов резедовых! Ну, поживем если, то увидим. А пока есть
вера: оттого море не стало поганым, коли его пес налакал. Так дружба и душа наша. С
Оки пришли худые вести: голод, мука 150 р. пуд, картофель 60 руб. ведро и т. д.
Протягиваю руки к русским рекам, к перелесицам: сестры мои родимые – возьмите
меня к себе! Ах, друг мой старинный, Толюн мой, за что ты своими руками – удавил
лебедя – сказку нашу. Ведь эта сказка сказывалась целых шесть лет, и всё про тебя —
утверждая путь в историю, в радужную страну живописи и поэзии! Прости! Благослов-
ляю. Сердечно лобызаю. Желаю душевного здоровья. Мужества, веры, прямоты и
благородства. Желаю ясно отличать эти качества от бравады – которая столько
190
причинила тебе страдания. Да исчезнет бравада! К подвигу за искусство. За великую
дружбу!
193. А. Н. ЯР-КРАВЧЕНКО
18 мая 1933 г. Москва
Милый дорогой друг.
Получил от тебя бандероль с моей поэмой, конечно, искаженной и обезображенной
с первого слова: «Песня о великой матери» – разве ты не знаешь, что песнь, а не
песня, это совсем другой смысл и т. д., и т. д., но дело теперь уже не в этом, а в гибели
самой поэмы – того, чем я полн как художник последние годы – теперь все замыслы
мои погибли – ты убил меня и поэму зверским и глупым образом.
Разве ты не понимаешь, кому она в первую очередь нужна и для чего и сколько
было средств и способов вырвать ее из моих рук. То, что не удалось моим черным и
открытым врагам – сделано и совершено тобой – моим братом. Сколько было
заклинаний и обетов с твоей стороны – ни одной строки не читать и не показывать...
Но ты, видимо, оглох и ослеп и лишился разума от своих успехов на всех фронтах! Нет
слов передать тебе ужас и тревогу, которыми я схвачен. Я хорошо осведомлен, что








