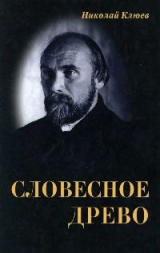
Текст книги "Словесное древо"
Автор книги: Николай Клюев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 46 страниц)
и лютости правителей страны, – наши златоусты, так еще недавно певшие хвалы
священному стягу свободы и коленопреклоненно славившие подвиги мученичества,
видя в них залог великой вселенной радости, ныне, сокрушенные видимым торжеством
произвола, и не находя оправдания своей личной слабости и стадной растерянности,
дерзают публично заявлять, что руки их умыты, что они сделали всё, что могли для
дела революции, что народ – фефёла – не зажегся огнем их учения, остался
равнодушным к крестным жертвам революционной интеллигенции, не пошел за
великим словом «Земля и Воля».
Проклятие вам, глашатаи, – ложные! Вы, как ветряные мельницы, стоящие по
склонам великой народной нивы, вознеслись высоко и видите далеко, но без ветра с
низин ребячески жалки и беспомощны, – глухо скрипите нелепо растопыренными
крыльями, и в скрипах ваших слышна хула на духа, которая никогда не простится вам.
Божья нива зреет сама в глубокой тайне и мудрости. Минута за минутой течет
незримое время, ниже и ниже склоняются полным живым зерном колосья, – будет и
хлеб, но он насытит только верных, до конца оставшихся мужественными, под
терновым венцом сохранивших светлость чела и крепость разума.
Да не усомнятся сердца борющихся, слыша глаголы нечестивых людей с павлиньим
хвостом и с телячьим сердцем, ибо они имеют уши – и не слышат, глаза – и не видят, а
если и принимают косвенное участие в поднятии народной нивы, то обсеменить
свежевзрытые борозды не могут, потому что у них нет семян – проникновенности в
извивы народного духа, потому что им чужда психология мужика, бичуемого и
распинаемого, замурованного в мертвую стену – нужды, голода и нравственного
одиночества. Но под тяжким бременем, наваленным на крестьянскую грудь, бьется, как
голубь, чистое сердце, готовое всегда стать строительной жертвой, не ради
самоуслаждения и призрачно-непонятных вожделений, свойственных некоторой доле
нашей так называемой интеллигенции, а во имя Бога правды и справедливости...
Не в ризе учитель – народу шут, себе поношение, идее пагубник, и что дальше
пойдет, то больше сворует.
Так и г. Энгельгардт в своей статье (Свободные мысли), изображая русскую
революцию пузырем, лопнувшим от пинка барского сапога, выдает с головой свою
несостоятельность, как учитель без ризы сознания великой ответственности перед
родиной, той проникновенной чуткости, которая должна быть главным свойством души
истинного глашатая-публициста. Обвиняя народ в неспособности отстаивать свои
самые насущные, самые дорогие интересы, Энгельгардт умышленно замалчивает
тысячи случаев и фактов ясно и определенно показывающих врожденную
революционность глубин крестьянства, его мудрую осторожность перед опасностью,
веру в зиждитель-но-чудотворную силу человеческой крови.
Народ знает цену крови, видит в ней скрытый непостижимый смысл, и святит имя
тех, кто пострадал, постигнув тайну ее.
Портреты Марии Спиридоновой, самодельные копии с них, переведенные на
бумажку детской рукой какого-нибудь школяра-грамотея, вставленные в киот с
лампадками перед ними, – не есть ли великая любовь, нерукотворный памятник в
сердце народном тем, кто, кровно почувствовав образ будущего царства, поняв его
таким, как понимает народ, в величавой простоте и искренности идет на распятие.
69
Такое отношение народной души к далеким незнаемым, но бесконечно дорогим людям,
пострадавшим за други своя, выше чувствований толпы.
Народ-богочеловек, выносящий на своем сердце все казни неба, все боли земли,
слышишь ли тех сынов твоих, кто плачет о тебе, и, припадая к подножию креста
твоего, лобзая твои пречистые раны, криком, полным гнева и неизбывной боли,
проклиная твоих мучителей, молит тебя: прости нас всех, малодушных и робких, на
руинах святынь остающихся жить, жить, когда ты распинаем, пить и есть, когда ты
наполнен желчью и оцетом!..
С РОДНОГО БЕРЕГА
Мы убили дьявола. Ответ крестьянина на суде перед сытыми.
«Царь Голод» Леонида Андреева
Дорогой В. С, Вы спрашиваете меня, знают ли крестьяне нашей местности, что
такое республика, как они относятся к царской власти, к нынешнему царю и какое
общее настроение среди их? Для людей вашего крута вопросы эти ясны и ответы на
них готовы, но чтобы понять ответ мужика, особенно из нашей глухой и отдаленной
губернии, где на сотни верст кругом не встретишь селения свыше 20 дворов, где
непроходимые болота и лесные грязи убивают всякую охоту к передвижению, где
люди, зачастую прожив на свете 80 лет, не видали города, парохода, фабрики или
железной дороги, – нужно быть самому «в этом роде». Нужно забыть кабинетные
истории зачастую слепых вождей, вырвать из сердца перлы комнатного ораторства,
слезть с обсиженной площадки, какую бы вывеску она ни имела, какую бы кличку
партии, кружка или чего иного она ни носила, потому что самые точные вожделения,
созданные городским воображением «борцов», при первой попытке применения их на
месте оказываются дурачеством, а зачастую даже вредом; и только два-три искренних,
освященных кровью слова неведомыми и неуследимыми путями доходят до сердца
народного, находят готовую почву и глубоко пускают корни, так например: «Земля
Божья», «вся земля есть достояние всего народа» – великое неисповедимое слово! И
сердцу крестьянскому чудится за ним тучная долина Ефрата, где мир и благоволение,
где Сам Бог.
«Всё будет, да не скоро», – скажет любой мужик из нашей местности. Но это
простое «всё» – с бесконечным, как небо, смыслом. Это значит, что не будет «греха»,
что золотой рычаг вселенной повернет к солнцу правды, тело не будет уничижено
бременем вечного труда, особенно «отдажного», как говорят у нас, т. е. предлагаемого
за плату, и душа, как в открытой книге, будет разбираться в тайнах жизни.
«Чего не знаешь, то поперек глаза стоит», заставляет пугаться, пятиться назад перед
грядущим, перед всем, что на словах хорошо, а на деле «Бог его знает». Каменное «Бог
его знает» наружно кажется неодолимым тормозом для восприятия народом
революционных идей, на него жалуются все работники из интеллигентов, но жалобы
их несправедливы, ибо это не есть доказательство безнадежности мужика, а, так
сказать, его весы духовные, своего рода чистилище, где всё ложное умирает, всё же
справедливое становится бессмертным.
Наша губерния, как я сказал, находится в особых условиях. Земли у нас много,
лесов – тоже достаточно. Аграрно, если можно так выразиться, мы довольны, только
начальство шибко забижает, земство тоже маху не дает – налогами порато прижимает.
Как пошли по Рос-сеи бунты, так будто маленько приотдало и начальство стало полад-
ливее. Бывало, год какой назад, соберемся на сход, так до белого света про политику
разговоры разговариваем; и полица не касалась, а теперь ей от царя воля вышла: кто за
правду заговорит, того за воротник – да в кружку. Ну, одного схватят да другого
схватят, а третий и сторонится; ведь семья на руках пить-ись просит, а с острожного
пайка не много расхарчишься. Да это бы всё не беда, так вишь, народ-то не одной
70
матки детки, у которого в кисете звонит, так ён тебе же вредит: по начальству доносит.
Так говорит половина мужиков Олонецкой губ<ернии>.
Но что же это за «политика», – спросите Вы, что подразумевает крестьянин под
этим словом, что характеризует им? Постараюсь ответить словами большинства.
Политика – это всё, что касается правды – великой вселенской справедливости,
такого порядка вещей, где и «порошина не падает зря», где не только у парней будут
«калоши и пинжаки», «как у богатых», но еще что-то очень приятное, от чего гордо
поднимается голова и смелее становится речь. Знаю, что люди Вашего круга нашу
«политику» понимают как нечто крайне убогое, в чем совершенно отсутствуют истины
социализма, о которых так много чиликают авторы красных книжек, предназначенных
«для народа». Но истинно говорю Вам – такое представление о мужике больше чем
ложно, оно неумно и бессмысленно! Мне памятен случай на одном, устроенном
местным кружком с<оциалистов>-р<еволюцио-неров> митинге. Оратор, крестьянин,
мужчина лет 30, стоя на камне посреди густой толпы, кричал: «Зачем вы пришли сюда,
зачем собрались и что смотреть? Человека ли, в богатые одежды облеченного? Так ведь
такие живут во дворцах, вы же чего ищете, чего хотите?»
«Чтобы всё было наше», – кричали в ответ – не два, не три, а по крайней мере
сотни четыре людей. «Чтобы всё было наше» – вот крестьянская программа, вот чего
желают крестьяне. Что подразумевают они под словом «всё», я объяснил как сумел,
выше, могу присовокупить, что к нему относятся кой-какие и другие пожелания, так
например: чтобы не было податей и начальства, чтобы съестные продукты были наши,
а для выдачи можно контору устроить, препоручив ее людям совестливым. Чтобы для
желающих были училища и чтоб одежда у всех была барская, – т. е. хорошая, красивая.
Много кой-чего и другого копошится в мужицком сердце; мысленно им не обделен
никто: ни вдовица, ни сирота, ни девушка-невеста. О республике же в нашей губернии
знают не больше, как несколько сот коренных крестьян, просвещенных политическими
ссыльными из интеллигентов и городских рабочих. Республика это такая страна, где
царь выбирается на голоса, – вот всё, что знают по этому предмету некоторые
крестьяне нашей округи. Большинство же держится за царя не как за власть, карающую
и убивающую, а как за воплощение мудрости, способной разрешить запросы народного
духа. «Ён должон по думе делать», – говорят про царя. Это значит, что царь должен
быть умом всей русской земли, быть высшей добродетелью и правдой. Нынешний же
царь злодеями, кажущимися народу предвестником «последнего времени»,
представляется одним чем-то в высшей степени бессовестным, врагом Бога и правды,
другим – наказанием за грехи, третьим – просто пьяным, осатаневшим, похожим на
станового барином, четвертым – ничего не знающим и ни во что не касающимся, с
ликом писаного «Миколы», существом. Ежедневные казни и массовые расстрелы
доходят до наших мест в виде фантастических сказаний. Говорят, что в городе
«Крамштате» царь подписал «счет» матросов, предназначенных для казни, и что по
дорогам было протянуто красное сукно, в церквах звонили в колокола, а царь с царицей
ехал на пароходе и смотрел «в бинок». Что в каком-то городе, на белой горе казнили 12
братьев, и с тех пор икона Пресвятой Богородицы, находящаяся в ближней церкви,
плачет дённо и ночно – подавая болящим исцеление. Что в Псковской губернии
видели огненного змия, а в Новгороде, сжатая в кулак рука Спасителя, изображенного
на городской стене, разжимается. Всё это предвещает великое убийство – перемеженье
для Россеи, время, когда брат на брата копье скует и будет для всего народа большое
«поплененье». От многих я слыхал еще и следующее, касающееся уже лично
нынешнего императора: будто бы он, будучи еще наследником, ездил к японскому госу-
дарю в гости, стал похабничать с японской царицей и в драке с ее мужем получил
саблей коку в голову, отчего у него сделалось потря-сенье и он стал межеумком, таким,
71
характеризуя кого, мужик показывает на лоб и вполголоса прибавляет: «Винтика не
хватает». Вот, мол, отчего и порядки на Россеи худые; да еще оттого, что ён начальству
волю дал и сам сызмальства мясничать научился. Перво-наперво, как приехал из
Японии, зараз царем захотел стать – отцу Александру III-ему сулемы подсунул, а
брата Егорья в крепость засадил, где его и застрелил унтер-офицер Трепов, что теперь
у царя в ключниках состоит и жалованье за это 40 тыщ на месяц получает. Но
подобные разговоры – исключение. Большинство же интересуется насущным: заботой
о пропитании, о цене на хлеб, проделках сельских властей – старшин, старост,
сборщиков податей, волостных писарей, становых, земских, урядников, ругает их в
глаза и позаглазно, уважения же к этим господам не питает никто, ни старый, ни
малый. Песни крестьянской молодежи наглядно показывают отношение деревни к
полиции, отчаянную удаль, готовность пострадать даже «за книжку», ненависть ко
всякой власти предержащей:
Нам полиция знакома, А исправник хоть бы хны, Хоть убей, за сороковку Не
окажется вины.
Мы без ножиков не ходим, Без каменья никогда, Нас за ножики боятся Пуще
царского суда.
Мать-Россея торжествует -Николай вином торгует, Саша булочки пекёт, А Маша с
Треповым живет.
Люди ножики справляют, Я леворверт заряжу. Люди в каторге страдают -Я туда же
угожу.
Я мальчишечко-башка, Не хожу без камешка. Меня в Сибири дожидают – Шьют
рубаху из мешка.
У нас ножики литые, Гири кованые. Мы ребята холостые Практикованные. Мы
научены сумой – Государевой тюрьмой.
Молодцы пусть погуляют Вместе водочки попьют, За веселое гулянье Цепи на ноги
дают.
Пусть нас жарят и калят Размазуриков-ребят, Мы начальству не уважим – Лучше
сядем в каземат. Каземат, ты каземат – Каменная стенка. Я мальчишко-сибиряк Знаю
не маленько. Не маленько знаю я. Не своим бахвальством, Что Россейская казна
Пропита начальством. Ах, ты книжка-складенец, В каторгу дорожка. Пострадает
молодец За тебя немножко. Во тюрьму меня ведут Кудри развеваются – Рядом
девушки идут. Плачут, уливаются.
И т. п.
Отношение деревни к затюремщикам резко изменилось. Пострадать «с доброй
воли» не считается позорным. Возвратившиеся из тюрьмы пользуются уважением,
слезным участием к их страданью. Тысячи политических ссыльных из разных концов
России нашли в нашем краю приют и вообще жалостное отношение населения. Рево-
люционные кружки, организованные ссыльными во всех уездах губернии, за последнее
время значительно обезлюдели. Много работников как из крестьян, мещан, так и из
интеллигентов, арестованы. Главный губернский комитет получает из Питера
партийные журналы, прокламации и брошюры и через уездных членов
распространяют по всей губернии. Из прокламаций больше спрос на письмо русских
крестьян к царю Николаю Н-му. Из брошюр: «Что такое свобода», «Хитрая механика»
и «Конек-Скакунок». Несмотря на гонение, распространение литературы, хотя
значительно слабее 1905-6 годов, но все-таки продолжается, хотя до сих пор и не
вызывает массового бунта, но как червоточина незримо делает свое дело, порождая
ненависть к богачам и правительству. Наружно же вид Олонецкой губ<ер-нии> крайне
мирный, пьяный по праздникам и голодный по будням. Пьянство растет не по дням, а
по часам, пьют мужики, нередко бабы и подростки. Казенки процветают, яко крины, а
72
хлеба своего в большинстве хватает немного дольше Покрова. 9 зимних месяцев
приходится кормиться картошкой и рыжиками, да и те есть не у всякого. Вообще мы
живем как под тучей – вот-вот грянет гром и свет осияет трущобы Земли, и восплачут
те, кто распял Народ Божий, кто, злодейством и Богом низведенный до положения
департаментского сторожа, лишил миллионы братьев познания истинной жизни.
Общее же настроение крестьянства нашего справедливо выражено в одном духовном
стихе, распеваемом по деревням перехожими нищими-слепцами:
Что ты, душа, приуныла?
Аль ты Господа забыла?
Аль ты добра не творила?
Оттого ты, душа, заскорбела.
Что святая правда сгорела,
Что любовь по свету бродит
И нигде пристану не находит.
По крещеному белому царству
Пролегла великая дорога —
Столбовая прямая путина.
То ли путь до темного острога,
А оттуль до Господа Бога.
Не просись, душа моя, в пустыню.
Во тесну монашеску келью,
Ко тому ли райскому веселью.
Положи, душа моя, желанье,
Воспринять святое поруганье,
А и тем, душа моя, спасёся,
Во нетленну ризу облекёся.
По крещеному белому царству
Пролегла великая дорога,
Протекла кровавая пучина —
Есть проход лихому человеку,
Что ль проезд ночному душегубу,
Только нету вольного проходу
Тихомудру Божью пешеходу.
Как ему, Господню, путь засечен,
Завален – проклятым черным камнем.
ПРИТЧА ОБ ИСТОЧНИКЕ И О ГЛУПОМ МУДРЕЦЕ:
(Посв<ящается> писателю Арцыбашеву по поводу его *голой* правды о Л. Н.
Толстом)
Колесо в колеснице – сердце глупого, и как вертящаяся ось – мысль его,
превращая добро во зло, он строит козни и на людей избранных кладет пятно.
Из книги пр. Иисуса, сына Сирах<ова>
Вы беременны сеном, разродитесь соломою; дыхание ваше – огонь, который
пожрет вас.
<Из книги пр.> Исайи XXX, 2
Кто даст мне стражу к устам моим, чтобы язык мой не погубил меня.
Из книги пр. Иис<уса>, сына Сирахова
В одной пустыне тёк источник чистой воды. Порой налетал удушливый, песчаный
ветер, мутил и засыпал источник, но проходило немного времени, как вновь
пробивалась тоненькая, живая струйка. Многие из людей, истомленные тяжелым
путем, с почерневшими от жажды губами, припадали к этой живительной струйке, – и
73
те спасались от смерти. По всей пустыне и далеко за пределами ее известен был
источник, ибо пившие из него говорили: «Это спаситель наш». Неотпившие же не
верили и смеялись над спасенными, говоря: «Только наши колодцы хороши, потому что
они вырыты учеными инженерами, пустыня же жилище змей и скорпионов, – откуда
быть в ней воде живой?» – и гнали людей тех, и поносили самый источник. Один же
из безверных, слывший большим умником, решил сам в себе: «Пойду в пустыню и
если найду источник, то опоганю его, чтобы никто не пил из него, и пили бы все из
наших колодцев и слушали бы мое умствование».
(Умственность его состояла в том, что он учил людей: пейте, ешьте, наслаждайтесь,
ибо завтра умрете.) Так он и сделал, сошел к источнику и хоть смутился прозрачностью
его, но по черствости сердца и бахвальства ради, не оставил своего черного умысла.
Долго ломал мудрец свою разумную голову, – чем бы осквернить источник? Спрашивал
совета у змей и скорпионов. Змеи советовали – зашипеть по-змеиному, скорпионы -
ужалить источник, но мудрецу всё это казалось недостаточным. Тогда он обратился к
шакалу: «Ты самое поганое животное, питающееся только падалью, и жаден без меры,
–скажи, чем мне запакостить источник?» – «Да, – отвечал шакал, – я самое
отвратительное животное, – падаль, особенно с душком, мое первое кушанье, и я
сейчас пожрал труп девушки, которую люди, следуя твоему учению о наслаждении,
изнасиловали, убили и бросили в кусты. Неужто ты себя считаешь чище меня? За
поганью тебе далеко ходить не нужно: она вся в тебе. И если хочешь запакостить
источник, то сходи в него «до ветра». Мудрец обрадовался и не только сделал всё по
совету шакала, но и сам весь перемазался калом, и в таком виде, громко хвалясь,
возвратился к людям. Люди же, затыкая носы, бежали от него. Менее же брезгливые
сказали ему: «Как ты, считающий себя умником, дошел до такого положения? Ты себя
и нас присрамил – заставил и неверующих поверить, что источник есть в
действительности, и что вода в нем живая, раз даже тебе, самому мудрейшему из нас,
он не дает покоя?» Верующие же сказали так: «Пустой человек, ты не только осквернил
себя наружно, вымазавшись навозом, но и внутренне показал свое ничтожество -
сходив в источник «до ветра». Пес и тот брезгует своей блевотины, а ты ведь человек, к
тому же и умом форсишь... Источник не может быть опоганен чем-либо, – вода в нем
прохладная, да и жила глубоко прошла. Она неиссякаема и будет поить людей вовеки».
<1911>
<РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГИ: Толстой Л. Бог. М., 1911; Толстой Л. Любовь. М., 1911>
«Бог и Любовь» – два тихие слова, пред тайной которых стоит человечество, от
начала не постигая ее. Миллионы лет живы эти слова, и как соль пищу осоляют жизнь
мира. Исчезали царства и народы, Вавилоны и Мемфисы рассыпались в песок, и только
два тихих слова «Бог и Любовь» остаются неизменны. У покойного писателя А. Чехова
есть место: пройдут десятки тысяч лет, а звезды всё так же будут сиять над нами и
звать и мучить несказанным...
Прости, родная тень! Но, глядя на звезды, мы говорим уже иначе: – Не пройдут и
сотни лет, как звезды будут нам милыми братьями. Ибо путь жизни будет найдет. Два
тихие слова «Бог и Любовь», – две неугасимых звезды в удушливой тьме жизни, мед,
чаще терн в душе человечества, неизбывное, извечное, что как океан омывает утлый
островок нашей жизни, – выведет нас «к Материку желанной суши»...
«Путь жизни» – старое слово. Еще старее слово «Бог и Любовь», – но весточкой с
далекой родины веет от них.
И хочется, как в детстве, забиться куда-либо в лопухи, дрожа, -до ночи ждать
«Неизреченного» и плакать от сладкой муки, протягивая руки к зеленым, кивающим
звездам...
«Бог и Любовь» – два тихие, как шелест осоки, слова – единый путь к бессмертию.
74
<1911>
ПЛЕННИКИ ГОРОДА I
Они... стоят, молодые, с нафабренными усами или безусые вовсе, пожилые, с сивой
щетиной на подбородке, с опаленными уличным зноем ржаво-красными шеями и
щеками. Полдень. Мутно желтого-рячее небо, воздух сух и угарен, пахнет
человеческим потом и еще чем-то, отчего слегка кружится голова, и во рту становится
тошно. Голуби, прикурнув в тени огромной бесстыдно красной вывески, с раскрытыми
от жажды клювами, – не воркуют. Неслышны и мертвы пепельно-серые деревья
бульвара. Сквозь подошвы сапог чувствуется, как горяча мостовая, деревянный стук
пролеток, острый, напоминающий звон кандалов, лязг трамвая, сверкающие глянцем и
позолотой экипажи и в них что-то толстое, мертвое...
Они стоят. Я ничего в мире не видел ужаснее их стойки! Всем чужие, бесконечно
одинокие, они целые годы стоят на углах улицы, таскают куда-то смрадных опухших
пьяниц, вытягиваются «господам»...
❖ ❖❖
Пленники города – вечное напоминание людям о Великой Несправедливости, о духе
«Зверя из бездны», о печати антихриста, несмываемо чернеющей на каждой тумбе, на
каждой вывеске, неистребимо живущей в шумах толпы, медных вздохах уличного
оркестра. Они стоят – Сыны Ужаса, холодного, черного Отчаяния...
❖ ❖ ❖
Прошли тысячелетия. Наши поля благоуханны и роены, и межи вьются, как прежде.
Ты помнишь? Здесь было то, что люди звали Городом. Межи, – как зеленые омофоры.
На счастливые пашни слетают с небес большие белые птицы: быть урожаю. Колосья
полны медом, и братья-серафимы обходят людские кущи. И, приветствуя друг друга
лобзанием, жнецы выходят на вселенскую ниву. Ты помнишь? О светлая сестра моя! -
Вот здесь стояла тюрьма, где заключенные в камень томились мы и Станислав, и
Алёша, и Соня... О, милые! О, бесконечно дорогие!
Уже День смежает крылья, и сестры-Звезды напевают псалом Отцу.
Преклоним же колени, о бессмертная сестра моя! Дадим лобзание всемирное брату
Востока, брату Запада, Северу и Югу. Ибо исполнились все пророчества.
II
Звонок сизый утренний час. В распахнутое окно тянет сыростью ночи,
свежекрашенным забором, каменной дремой большого города.
Желтоватая муть, – дыхание подвалов и ночлежек ползет по каменной мостовой,
– знак того, что проснулось Убийство. Мое окно высоко, и комната тесна, но в
утренний сизый час входит Безбрежность в тесноту мою, срывает все завесы,
отваливает гробовые камни и на вершину горы возводит меня. И я вижу все царства.
❖❖❖
Брат Ветер, юноша с голубыми кудрями, в струисто-млечном плаще, с золотым
рогом у пояса, воет мне:
Дыши, дыши Безбрежностью!..
(О дикий хмель минут, годов, тысячелетий!) Умолкни, голубокуд-рый, и выслушай,
в свой черед, песню железа, крови и отчаяния: «Под черной лестницей большого дома,
на куче зловонных отбросов, умирает малютка. Он уже перестал плакать, и его
почерневший ротик открыт недвижно, – только глазки, как два маленьких стеклышка,
еще живы. Спасите, спасите младенца! туг же под лестницей, на перекинутой через
балку веревке, висит его мама. Рваная юбка сползла с голодного, страшно вытянутого
тела, и бурый сгусток крови вот-вот канет с перекошенного рта на пол. С хищным
жужжаньем вьется вокруг лица удавленицы большая зеленая муха... Спасите, спасите
Человека!...
75
На ночной панели ко мне подошел молодой исхудалый мужчина и, смущаясь,
спросил «на хлеб». – В ответ ему я вывернул свои карманы и просил извинить меня. В
дикой ярости разорвал он на себе рубаху и, ударившись головой о чугунный фонарный
столб, упал на мостовую. Рыдая, я звал на помощь, но пустынна была улица, глухо
молчали зеркальные окна барских особняков, и только в черном полуночном небе
распластался тонкий огненный крест».
❖❖♦>
Моя улица безбрежна, и белое Молчанье парит в ней. Шатер Мой из снежного
виссона и из серебра стропила его, дуб Мой зелен, широ-кошухмен и прохладен, мед
Мой золотист и благоуханен и хмелен; как молитва виноградник Мой. – Приидите ко
Мне все погибшие, кто в огне испепелен, кто утоплен, кто распят и прободён, кто
побит камнями, обесчещен и растоптан, войдите под светлый кров Мой, чтоб омыть
Мне ноги ваши и благовествовать Радость непреходящую.
<1911>
<РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ: Брихничев И. Капля крови: (Стихотворения). М., 1912>
В начале книжки автор предупреждает читателя, что он не поэт. Однако его
стихотворения не лишены своеобразной суровой прелести. Вот, напр<имер>, строки,
очень характерные для поэзии г. Брих-ничева:
Я виноват лишь тем, родная, Что палачами окружен, Что, как зарница огневая,
Свечу на темный небосклон.
Я знаю, знаю – день настанет, И мной подъятые труды Дадут обильные плоды, И
плуг, проведший борозды, Потомок с трепетом помянет.
Кто знает многострадальную долю-жизнь Ионы Брихничева, для того понятны и
ободрявши его стихи, тем более они близки голгофс-ким братьям как по чувству, так и
по устремлению к единой в мире красоте – «добровольному мученью за нас распятого
Христа».
<1912>
ЗА СТОЛОМ ЕГО Стихотворение в прозе
Сердце зимы прошло, Дождь пролил, перестал. Выйди, невеста моя. Покажи лицо,
голубица моя! Слушай! ночь прошла, И распустились цветы...
Я хочу любить тебя, сестра, любовью нежной и могущественной, змеиное всё в
тебе отвергаю, потому что я знаю – ангелом ты была. Как одежда лучами в
драгоценных камнях ты сияла. Бедная, бросаемая бурей, позабытая, с этого дня глаз
мой на тебе, но не ради грехопадений твоих.
Дух вложил в меня бесконечное сожаление к тебе.
Я видел сегодня горницу залитую огнем, где все мы сидели за столом Его.
Цветущая весна одевала звездами черемухи наши золотистые кудри, вечность
спускалась на все члены наши, и Он сказал нам: «Друзья, Я отдаю вам Царство Свое,
отказываюсь от венца Своего. В бесконечной любви, как любовник перед первой
невестой своей, как сын перед отцом, как женщина, отиравшая ноги Мои волосами и
покрывавшая их лобзаньем Святым, так рыдаю я в любви бесконечной, в ужасе за
прошлые вечные заблуждения друзей Своих.
Во всем искушен я, как и вы, только чист. Часто, часто глядел в бездну греха
скорбный взор Мой, даже смерть едва не победила Меня, ибо однажды ради друзей я
спустился в долины земли». И я, как ослепленный, отвечал: «Но я не могу любить,
наверно, никого после красоты Твоей. Я жил сегодня с Тобой, слышал бесконечное
биение сердца в груди Твоей, но он сказал: «Радуйтесь! Я, Я радуюсь о вас. Только вы
пьете из чаши истинной крови Моей... Ибо наступают дни, в которые совершится
написанное: «...и будут священниками, и царями, даже Богу своему». Тогда я пал на
снег и закричал: «Боже, как я взойду на престол Твой, в побеждающий Свет Твой? Я
76
боюсь, что умрет от радости дух мой! Зачем так полюбил Ты меня неудержимой
любовью?..» И вновь я вошел в тело и огляделся вокруг. Было уже под вечер, когда я
пришел домой. Самовар кипел на припечке, синяя муть заволакивала тихую теплую
кухню. «Тебе опять письмо, Миколенька», – сказала мне мама. Это было твое
последнее письмо, сестра, и повязка спала с глаз моих.
ВЕЛИКОЕ ЗРЕНИЕ
В провинции всегда хотят быть по моде и во чтобы ни стало оригинальными (знай
наших), важничают, манерничают, гордятся «филозофией» местного экзекутора и
всяческим «галантерейным» обращением, которым сто лет тому назад так восхищался
гоголевский Осип. Кажется, там всё знают, ничем не удивишь, а поживешь -и видишь,
что нигде так не ошеломляются, как в провинции. И чем же? – Позапрошлогодними
столичными модами. Но всего омерзительнее, когда такая ошеломляемость, напялив на
себя пышные «френчи» или деловитейшую «кожанку», начинает понукать музами,
воображать себя человеком от искусства, то*есть проводником этого искусства в народ
«в целях культурного и классового сознания масс», как модно говорить теперь.
Разумеется, ни одной кожаной и галантерейной голове не домек-нуть, что
подлинный народ всегда выше моды, что его воротит «наблевать» от «френчей» в
алтаре, что народное понимание искусства, «великое зрение», как бают наши
олонецкие мужики-сказители, безмерно, многообразно, глубоко и всегда связано с
чудом, с Фаворским светом, – будь это «сказание про царища Андриянища» или
скоморошья веселая дудка.
Крепостное право, разные стоглавые соборы, романовский «фараон» загнали на
время истинное народное искусство на лежанку к бабке, к рыбачьему ночному костру, в
одиночную думу краснопева-шерстобита, – там оно вспыхивает, как перья жар-птицы,
являясь живописной силой в черных мужицких упряжках. « Т-и-и-х, если бы не думка-
побасенка, нешто бы я жив был»,– вздыхал недавно мой бородач-однодеревенец,
которому я посоветовал сходить в Советский театр с целью проверить на нем
облагораживающее действие «Женатого Мефистофеля» (или чего-то в этом роде).
Оказывается, что мой бородач, к счастью, ничего не слышал и не видел из всего, что
происходило на подмостках, а, сидя на плетеном стуле, погружался в свою певучую
глубину, весь вечер слагая про себя стихи:
Я от страха добыл огня. Зажигал свечу полуночную; Как пришла пбрушка
сутёмная. Собирались ко мне гады клевучие, Напоследки выползал Большой Змей —
Он жжет и палит пламенем огненным.
Кто способен вдуматься в эти строки, для того ясно, что зажженная свеча – это
художник, живущий в сердце народном, и что Большим Змеем в данном случае
оказался «Женатый Мефистофель», то есть то вонючее место, которое лишь самое
черное невежество и «модный» вкус уездной закулисной накипи может выносить на
Великое Народное Зрение как искусство, как некий свет, который должен и во тьме
светить.
Неужели русский народ отдает свою кровь ради того, чтобы его душу кормили
«волчьей сытью», смрадной завалью из помойной ямы буржуазных вкусов и
пониманий?
Когда видишь на дверях народного театра лист бумаги, оповещающий о «Лёлиной
тайне» или о «Большевичке под диваном», то хочется завыть по-собачьи от горя,
унижения и обиды за нашу революцию, за всю Россию, за размазанную сапогом
народную красоту. Ни экзекуторы, ни крапивное семя из разного рода канцелярских
застенков не могут усладить Великое зрение народа в искусстве, пролить чудотворный
бальзам красоты на бесчисленные раны родины, а только сам народ – величайший
художник, потрясший вселенную красным громом революции.
77
Ей, гряди, крепкий и бессмертный!
<1919>
КРАСНЫЙ КОНЬ
Что вы верные, избранные! Я дождусь той поры-времечка: Рбзнить буду всяко








