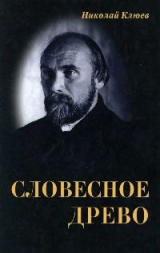
Текст книги "Словесное древо"
Автор книги: Николай Клюев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 46 страниц)

1

2


Российская академия наук Институт научной информации по общественным наукам
Н. А. КЛЮЕВ
СЛОВЕСНОЕ ДРЕВО
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
О ПРОЗЕ НИКОЛАЯ КЛЮЕВА
Русская литература первых десятилетий XX века исключительно богата
художественными индивидуальностями. Особое место в ней занимает творчество
Николая Клюева. Оно обусловлено определенной идейной ориентацией в совокупности
всех составляющих его личность – как художника, представителя нации, христианина
и гражданина.
Выразить свой творческий потенциал дано всякому подлинному художнику. Но это
еще не придаст его творчеству актуально-идейной доминанты. Возникает она лишь в
случае глубоко органического совпадения субъективных ценностей творца с
ценностями объективного мира. Отечественная литература Серебряного века щедра на
примеры таких счастливых сопряжений (назовем только вторую «объективную»
составляющую художественных миров указываемых поэтов): древний мир
александрийско-римской культуры и европейский XVIII век Михаила Кузмина, муза
дальних странствий (преимущественно Африка начала XX столетия и средневековая
Европа) Николая Гумилева, философско-языческая мифология русской деревни Сергея
Клычкова, трагический урбанизм Владимира Маяковского, песенный голос русской
души и народной трагедии XX века в тончайшей лирике Анны Ахматовой.
В нерасторжимом единстве с огромной объективной ценностью выразил себя
поэтический дар Клюева. Эта объективная ценность – Россия, но в значительной
степени отнюдь не современная поэту, а Россия духовная в совокупности византийских
истоков ее православия, их сохранения в старообрядчестве, культуры допетровского
времени, крестьянской цивилизации с ее языческими и христианскими корнями.
С ориентацией на «поддонные» сокровища сопоставим с Клюевым лишь Алексей
Ремизов, которого сближал с поэтом «утопизм ретроспективного типа, наделение
допетровской Руси, и глубже – славянского язычества, чертами идиллии, понимание
Машинной цивилизации как тяжкого заблуждения»1.
Но если разработка этих сокровищ носила у Ремизова в основном литературный
характер, то у «жгучего отпрыска Аввакума» (самоопределение Клюева) она являлась
живой силой, направленной не только на созидание образного мира его «рублёвской
Руси», «берестяного рая», но и предопределила в итоге его крестный путь пророка и
4
мученика. Различие между «литературным» и «клюевским» подходом усвоения
национальных духовных ценностей достаточно точно определил Сергей Городецкий:
«Он был лучшим выразителем той идеалистической системы деревенских образов,
которую нес в себе и Есенин, и все мы. Но в то время как для нас эта система была
литературным исканием, для него она была крепким мировоззрением, укладом жизни,
формой отношения к миру»2.
Жизнь поэта и его творчество пришлись на период трагического противоборства
сил, вызревших в самой России, и направленных на уничтожение основ
государственности, национального, православного и прежде всего крестьянского
самосознания с его неразрывным чувством природы и неприятием технического
прогресса, несущего урбанизацию и замену «стихийного» человека «технической
душой» (Василий Розанов). Под знаком этих деструктивных сил велась активная
подготовка Февральской, а затем и Октябрьской революции, которая поначалу была
воспринята Клюевым как предпосылка к истинно христианскому преображению
прежде всего России, а потом и всей вселенной, уничтожение мирового зла и
торжество подлинного царства небесного на земле. Однако разрушительные силы
революции оказались направленными не столько на искоренение зла, сколько на слом
клюевской России, а затем на уничтожение и самого поэта. Но прежде чем погибнуть,
он всё же успел создать и оставить потомкам нетленный образ своей Руси, оказавшись
в этой схватке победителем – как поэт, мыслитель и пророк. Но только после про-
должительного периода насильственного забвения он был востребован временем и как
бы воскрешен к новой жизни.
Проза Клюева ни в коей мере не претендует на то, чтобы быть на равных с его
поэзией. И тем не менее она представляет весомую и значительную часть не только в
собственном творчестве поэта, но и в русской литературе XX века. Она состоит из
таких имеющих личност-
1 Лисицкая Е. А. Ремизов и Н. Клюев: грани стилизации // Николай Клюев: образ
мира и судьба. Томск, 2000. С. 109.
2 Городецкий С. О Сергее Есенине. Воспоминания // Новый мир. 1926. № 1. С. 139.
ную направленность (на самого себя) малых жанров как автобиографический,
публицистический, записи снов, эпистолярный и т. д. Но на этих, так сказать,
вспомогательных формах прозы лежит печать огромного индивидуального
своеобразия. В них отражена сущность и деятельность Клюева, бытовые
обстоятельства его творчества и жизненного пути, запечатленного порой на самом
высоком, даже сакральном уровне. Они же представляют собой и как бы хро-
нографическую запись самой судьбы поэта. В прозе дает о себе знать образный строй
его поэзии, ощутимо дыхание его самобытного языка и речи. Прозу Клюева можно
назвать своего рода житейской оправой для жемчужины его поэзии. Стихи у него – это
осуществление чистого божественного дара, а проза – выражение биографического и
исторического фона. Ей присущи еще и подлинные проявления художественного,
философского и пророческого характера, чем она вполне дополняет и развивает
отдельные мотивы его поэзии. Общее содержание и идейную (национальную)
направленность клюевской прозы именно в этой высокой ее ипостаси исследователь
творчества поэта определяет следующим образом: «Проза Клюева <...> представляет
собой целостный художественный текст, основой которого является эстетизация
"избяного космоса" и романтическая концепция русской революции как Красной
Пасхи, опирающейся на религиозно-мифологические представления о Втором
Пришествии Христа и возможностях личного воплощения Иисуса в избранном
"народе-Христе", в отдельном человеке, которого Провидение отметило своим
5
божественным перстом. Таким носителем духовной истины, по глубокому убеждению
Клюева, является русский народ» *.
О своем органическом единстве с ним высказывается Клюев в автобиографических
заметках и набросках, но более всего в так называемых «житийных» рассказах – о
своих родословных корнях, семейном воспитании в духе «древлего благочестия»,
хождениях по старообрядческим скитам и сектантским гнездам, о встречах с пред-
ставителями монархической и литературной элиты.
В них он осознает себя прежде всего вестником и выразителем творческих сил
народа, но не тех слоев, которые реализовались в национальной культуре и искусстве
под знаком приобщения России к европейскому прогрессу, а других, оставшихся в
стороне от него, уходящих корнями в допетровскую Русь и крестьянскую
самобытность, называемых самим поэтом «глубинными», «потаенными». В истории
отечественной духовной культуры этими силами уже было решительно заявлено о себе.
Имеется в виду возникшее еще в середине XVII века и создавшее свой особый
духовный мир (этический и эстетический)
1 Пономарева Т. А. Проза Николая Клюева 20-х годов. М., 1999. С. 124.
движение раскола, направленное поначалу против церковных нововведений
патриарха Никона, а затем и вообще против всякого официально-церковного и даже
государственного начала. В старообрядчестве, по словам исследователя, «была сильно
развита историческая память, которая, видимо, вообще отличала древнерусского
человека. Основу исторической памяти составляло осознание единства человеческой
истории, неразрывной связи людей и поколений, живых и умерших. На этом строилось
православное богослужение, церковные обряды и обычаи. Каждый человек чувствовал
себя членом большой христианской семьи; это давало ему опору в жизни и образцы
для подражания»1.
Поэтому-то в рассказах о себе и уделяет поэт своей родословной основное
внимание. «Родовое древо мое замглено коренем во временах царя Алексия. <...> До
Соловецкого страстного сиденья восходит древо мое, до палеостровских
самосожженцев, до выговских неколебимых столпов красоты народной»2 —
записывает за Клюевым в начале 1920-х годов литературовед П. Н. Медведев.
Высказывание о древности своих семейных корней (способных поспорить с имени-
тыми родами) поэт дополняет здесь более существенной для него мыслью, что уходят
они в достопримечательный период старообрядчества, с его бунтом монахов
Соловецкого монастыря против никонианских нововведений (усмирен в 1676 году),
сожжением в Пустозерске учителя и вождя раскола протопопа Аввакума (1682),
самосожжением сторонников «древлего благочестия» в Палеостров-ском монастыре
(1687 и 1688), основанием Выговской пустыни и расцветом ее под началом братьев
Андрея и Семена Денисовых в первой трети XVIII века.
Доведя свою родословную (в которой значатся и «выходец и страдалец выгорецкий
Андреян», и боярин Серых, и даже сам протопоп Аввакум) до родительного колена,
основное внимание Клюев уделяет своей матери Прасковье Димитриевне. В созданном
им ее образе как в поэзии, так и в прозе, невозможно отделить реальное от
легендарного, настолько он живет в самих глубинных смыслах его творчества и связан
с жизненными коллизиями поэта и его судьбы.
«Родом я по матери прионежский», – высказывается Клюев в <Автобиографии>
(1923 или 1924). И это, надо полагать, вполне соответствует истине. Однако и здесь
поэт подчеркивает прежде всего факт происхождения матери из тех краев, где особенно
процветало
1 Юхименко Е. М. Народные основы творчества Н. А. Клюева // Николай Клюев:
Исследования и материалы. М., 1997. С. 8.
6
2 См.: Современные рабоче-крестьянские поэты / Сост. П. Заволокин. Иваново-
Вознесенск, 1925. С. 218.
старообрядчество с его заветами первых расколоучителей и самобытной культурой.
Именно в ореоле истового «древлего благочестия» и предстает мать в рассказах поэта,
образующих род некоего «жития».
Матери он обязан и воспитанием в любви к словесному творчеству, любви к
книгам. «Я еще букв не знал, читать не умел, а так смотрю в Часовник и пою молитвы,
которые знал по памяти и перелистываю Часовник, как будто бы и читаю. А мамушка-
покойница придет и ну-ка меня хвалить: "Вот, говорит, у меня хороший ребенок-то
растет, будет как Иоанн Златоуст"» («Гагарья судьбина»), по ее же настоянию он уходит
в Соловки «спасаться», на выучку тамошним старцам. Оттуда затем и начинаются его
странствия по потаенным местам России, во время которых он становится «царем
Давидом», т. е. слагателем радельных песен для мистической общины «христов»
(хлыстов). Так начинается Клюев-«песнописец» и поэт.
Помимо родословия и духовно-поэтического генезиса значительное место уделяет
Клюев в автобиографических рассказах теме своего избранничества, знаки которого
открываются ему уже с детских лет: начиная с обнаружения «особых примет
благодати» на его теле и кончая странными чудесными явлениями: то на него,
находящегося летом в поле, вдруг стремительно низвергается какое-то световое
«пятно», которое поглощает своим «ослепительным блеском», то в другой раз зимой
предстает ему на крутом берегу озера некое серафическое существо, следящее за ним
своими «невыразимо прекрасными очами» («Гагарья судьбина»). Этот свет и это
«сияние», несомненно, имеют духовное родство со светом «Неопалимой купины» или
светом, «преобразовавшим» на горе Фавор Христа, сопровождавшимся словами с
высоты: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный...» К мысли о своей осененности свыше
поэт обращался и в других прозаических сочинениях. «Ясновидящим народным
поэтом» назовет он себя в подборке кратких характеристик «Поэты Великой Русской
Революции» (1919), о «провидящих очах» своей музы напишет в письме из Сибири С.
Клычкову (1934).
Кроме этого, свой поэтический генезис он соотносит и с природными, земными
силами. Клюев говорит о «жалкующей» в его песнях «медвежьей» сопели, себя
называет «от медведя послом» и рассказывает о добывании «заклятого» «певучего»
пера у гагары – «царицы» водяных птиц, а это перо дается только «таланному
человеку». Образцы необычайно чувственного, плотского восприятия мира, прони-
зывающие стихи Клюева, присутствуют и в его прозе, что подтверждает их
органичность для сознания автора: «Теплый животный Господь взял меня на ладонь
свою, напоил слюной своей, облизал меня добрым родимым языком, как корова
облизывает новорожденного теленка» («Гагарья судьбина»).
Разговор о «праотцах» (по материнской и отцовской линии), соловецких старцах
сменяется в рассказах повествованием о всевозможных встречах поэта с
современниками, в которых он придерживается уместного для них бытового
прозаического тона, – «судьбоносного» значения они в его жизни не имеют. И лишь
при упоминании великой княгини, впоследствии преподобномученицы, Елизаветы
Фео-доровны, тон рассказчика теплеет. С переходящей в неприязнь отстраненностью
высказывается он о встречах с писательской братией. Исключения делаются только для
«пламенного священника» Ионы Брихничева и Александра Блока, сумевшего тронуть
сердце олонча-нина своей «глубокой грустью» и «тихой редкословной речью о народе»
(«Гагарья судьбина»).
Широта охвата личностью рассказчика разных социальных и духовных сфер жизни
– одна из основных черт автобиографической прозы Клюева. Определяется она явным
7
стремлением автора выйти на широкий простор общественно-духовной жизни России
в ее высших ценностях, выйти из как бы предназначенного «поэту из народа» лишь
узкого круга его социальной среды: «Так развертывается моя жизнь: от избы до дворца,
от песни за навозной бороной до белых стихов в царских палатах» («Гагарья
судьбина»).
В автобиографической прозе Клюева нередко звучит (проступающий, впрочем, и в
других жанрах его прозы) восходящий к авторам древнерусской литературы
самоуничижительный, покаянный тон: «За книги свои молю ненавидящих меня не
судить, а простить. Почитаю стихи мои только за сор мысленный – не в них суть моя»
^Автобиография^ 1930?). Однако наибольшего сближения с древнерусской
литературой достигает она тем, что представляет собой по сути дела не что иное, как
написанное в ее традиции, чуждой художественного, украшающего слова, духовное
завещание. «Думается, – отмечает О. Бахтина, – что и Житие Аввакума и другие
жития-автобиографии русских подвижников должны быть осмыслены как духовные
завещания, в которых органично соединяется исповедь-проповедь <...>.
К этой традиции и примыкает комплекс автобиографических текстов Н. Клюева, не
собранных и не оформленных им самим в единое целое, как это сделано другими, не
только Аввакумом, Епифанием Соловецким, выговскими киновиархами, но, например,
Н. В. Гоголем в "Выбранных местах из переписки с друзьями"» *. Этой духовно-заве-
1 Бахтина О. «Сновидения» Н. А. Клюева и традиции древнерусской и
старообрядческой литературы//Николай Клюев: образ мира и судьба. С. 64, 65.
щательной интонацией проникнута в значительной степени вся словесно-речевая
ткань автобиографической прозы Клюева, особенно «Гагарьей судьбины».
С начала 1920-х годов в творчестве поэта намечается своеобразный жанр – это
высказывания по поводу тех или иных явлений литературы и искусства, в них он
уходит от текущей злобы дня в область созерцаний и размышлений о предметах более
для него значительных и возвышающихся над суетой будней. Преимущественно это
суждения о классиках, современниках и о себе, о своем понимании собственного и
чужого творчества, которыми поэт щедро делился с другом Н. И. Архиповым,
старательно записывавшим подобно гетевскому И. П. Эккерману каждое за ним слово,
понимая всю высокую значимость Клюева как творческой личности.
Суждения поэта о себе, о собственном месте в литературе и современности
неизменно сопровождаются чувством горечи по поводу своей от нее отчужденности и
непонятости: «Пишут обо мне не то, что нужно». С целью прояснения истины и
высказывается он близкому человеку о собственном творчестве. Не случайно и в
автобиографических фрагментах он говорит о своих «трудах» «на русских путях» и
«песнях», где «каждое слово оправдано опытом» («Из записей 1919 года»). С
«трудностью» работы над своей поэзией Клюев сопрягает здесь факт непростоты ее
восприятия, точнее говоря, от читателя требуется понимание глубинного бытия
национального слова: «Чтобы полюбить и наслаждаться моими стихами, – надо войти
в природу русского слова, его стихию».
Включает поэт в круг этих сентенций и свою неизменную апологию крестьянского
бытия, его первородства. «Священный сумрак гумна» уравнивается им с «сумраком
готических соборов», а их с Есениным творчество уподобляется «самоцветной маковке
на златоверхом тереме России: самому аристократическому, что есть в русском
народе».
О современниках Клюев говорит преимущественно нелицеприятно. Даже стихи А.
Блока, по его мнению, могли бы быть «с успехом» написаны «каким-нибудь пленным
французом 1812 года», и «любая баба гораздо сложнее и точнее в языке, чем "Пепел"
Андрея Белого». Неоднозначно охарактеризованы стихи В. Рождественского и К. Ваги-
8
нова, отрицательно – творчество С. Сергеева-Ценского, И. Садофье-ва, Н. Тихонова,
как, впрочем, и других из «Серапионовых братьев». Обращая внимание на
«водолазный» антураж прозы Н. Никитина, В. Иванова и с ними Б. Пильняка, Клюев
иронизирует: «Только не достать им жемчугов со дна моря русской жизни. Тина,
гнилые водоросли, изредка пустышка-раковина – их добыча. Жемчуга же в ларце, в
морях морей, их рыбка-одноглазка сторожит»1. И совсем по-иному, чем
«Серапионовых братьев», оценивает С. Клычкова, близкого ему по духу восприятия как
раз «глубинной Руси», высказываясь о его романе «Чертухинский балакирь» (1926).
Касается Клюев и факта разделения писательской братии по новому «классовому»,
а точнее, партийно-идеологическому принципу, – в рассказе о литературной вечеринке
у того же Н. Тихонова, квартира которого оказалась в шесть «убранных по-барски,
красным деревом и коврами» «горниц», а гости прибыли – «женского сословия» в
«бархатных платьях, в скунсах и соболях на плечах, мужчины в сюртуках, с яркими
перстнями на пальцах»2.
В некоторых случаях суждения Клюева о писателях носят характер своеобразных
«рецензий». Так, в 1928 году идеологами партии и литературной общественностью
обращалось подчеркнутое внимание к творчеству Н. Некрасова. Положительные
оценки давались ему ранее со стороны представителей даже весьма далеких от
народно-демократического лагеря, от «музы мести и печали» литературных
направлений (Н. Гумилев, М. Кузмин и др.). И только одна отрицательная
характеристика этого «печальника» крестьянской доли принадлежит вышедшему из
самих глубин черносошной России – Клюеву. Но всё дело в том, что направлена она
не столько против Некрасова, сколько против «рогатых хозяев жизни» и их
предшественников, революционных социал-демократов, взявших его на вооружение
(«бивших» долгое время им поэтов – представителей так называемого «чистого
искусства») в целях политизации литературы и преследования всего того, что не
служит их социальному заказу: «Его отвратительный дешевый социализм может
пленять только то-варищёв из вика или просто невежд в искусстве, которым не дано
познать очарование ни в слове, ни в живописи, ни в музыке, ни тем более испить
глубокого вина очей человеческих»3.
Не могут не вызвать удивления записи высказываний и наброски воспоминаний о
Есенине, в которых недавний «прекраснейший из сынов крещеного царства»,
помазанник на престол русской поэзии предстает в неожиданно шокирующе
сниженном виде. Прежние, исполненные нередко излишне чувственной теплоты
пиететы и признания уступают здесь место суждениям иного, как бы итогового ха-
1 См.: Михайлов А. Н. Клюев и «Серапионовы братья» // Русская литература. 1997.
№ 4. С. 117.
2 См.: Там же. С. 118.
3 См.: Михайлов А. Н. Жанр рецензии в творчестве новокрестьянских поэтов //
Русский литературный портрет и рецензии: Концепции и поэтика. Сб. ст. СПб., 2000. С.
94-95.
рактера. Теперь в Есенине Клюев не приемлет почти всё, включая и саму смерть (в
факте самоубийства он, как и все его современники, не сомневался): «Мужики много,
много терпят, но так не умирают, как Есенин. И дерево так не умирает... У меня есть,
что вспомнить о нем, но не то, что надо сейчас. У одних для него заметка, а у меня для
него самое нужное – молитва» К Совсем не высокого теперь он мнения о творческом
потенциале своего меньшого песенного собрата и, конечно же, не забывает упомянуть
о неблаговидном поведении своего «Сереженьки» в быту. Тем более, что тема эта стала
достоянием целой отрасли «есениноведения», где Клюев представал в достаточно
9
очерненном виде, чего, кстати, требовало официозное отношение к нему как «чуждому
элементу».
Все эти нелицеприятные суждения, несомненно, являются проявлением прежде
всего горечи Клюева по поводу его неоправдавшихся надежд на мессианский путь
Есенина как выразителя сокровенных творческих сил и самой «звездной» судьбы
России, который сбился с этого пути, поддавшись влиянию враждебных ей сил,
легкомысленно отнесся к своему дару, за что и поплатился творческим оскудением и
душевным измельчанием. Впрочем, при оценке этих суждений следует принять во
внимание тот факт, что высказаны они только в жанре «презренной прозы», а не
поэзии, в которой Есенин в то же время возносится Клюевым на недосягаемую высоту
(поэмы «Плач о Сергее Есенине», «Песнь о великой матери», стихотворение
«Клеветникам искусства»). Не допуская снижения образа своего друга в поэзии, Клюев
словно исходил из некоего еще не сформулированного закона, согласно которому
последняя правда всегда будет оставаться за более верным и прочным поэтическим
словом, по сравнению со словом прозы. В итоге же, освободившись от всего личного и
болезненного, Клюев остался высоким ценителем есенинской поэзии. Не случайно,
высказываясь о живущих в нем, как в художнике, «заветах» искусства и красоты,
своего меньшого песенного собрата он называет в ряду великих – от внуков Велесовых
до Андрея Рублёва, от Даниила Заточника до Посошкова, Фета, Сурикова, Бородина,
Врубеля и меньшого в шатре Отца – Есенина» («Заявление в Правление Всероссий-
ского Союза советских писателей», 20 января 1932).
Сны Клюева являют собой феномен жанра (встречающегося и у других
художников), в котором роковые силы бытия настолько овладевают духовной
личностью, что начинают оформляться в ее творчестве как бы вне всяких писательских
усилий с их замыслами, намеренным фантазированием и формальными приемами. Они
возникают из
1 См.: Михайлов А. «Журавли, застигнутые вьюгой...» (Н. Клюев и С. Есенин) //
Север. 1995. № 11-12. С. 151.
таинственных глубин духа в виде провидческих наитий и видений. Именно такого
рода откровениями насыщены записи снов Клюева, в которых дает о себе знать тревога
за собственную жизнь, предчувствие неизбежной гибели. «В эту зиму больше
страшные сны виделись...» – предваряет он рассказ об одном из снов 1928 года. Но
обобщение это может быть отнесено и ко всем снам поэта 1920– 1930-х годов. Не
случайно большинство из них сопровождается мотивом опасного места. Часто видится
Клюеву кровь. И неизменным почти во всех снах выступает мотив бегства в поисках
спасения от преследователей – убийц и палачей. В награду сновидцу за муки и
страдания дается радость спасения. При этом важнее для него не столько осознание
своей спасенности, сколько само спасительное место, в которое он попадает.
Расположение этих точек на осях духовного мира поэта весьма по-клюевски
определенно и примечательно. Прежде всего это, разумеется, всё соотносимое с
православными святынями, со «Святой Русью».
Многие сюжеты и образы клюевских снов могут нами теперь осмысляться как
провидческие, и среди них – о том же Есенине, например, в январском сне 1923 года с
видением есенинской гибели. При этом рассказчик поясняет, что виделся ему этот сон
дважды: «Первый раз еще осенью прошлого года», а затем «этот же сон нерушимым
под Рождество вдругоряд видел я. К чему бы это?» Ответ последовал трагической
ночью с 27 на 28 декабря 1925 года, когда в гостинице «Англетер» Есенин был найден
мертвым. В следующем страшном сне о Есенине, приснившемся Клюеву на 1 января
1926 года, всё понятно: он вполне в духе христианских представлений о грехе
самоубийства и посмертной кары за него. Другое дело последний из снов о поэте,
10
приснившийся Клюеву в 30-е годы, как бы в преддверии уже и собственной гибели.
Идет будто бы сновидец по бескрайнему ледяному полю, в которое по самую голову
вбиты люди. Среди них он натыкается на знакомый взгляд, такой же, как все, непереда-
ваемо ужасный... «Я узнал одного из моих собратьев-поэтов, погибшего от собственной
руки, по своей упавшей до бездны воле... Он тоже узнал меня, умоляюще кричал о
помощи, но я сам изнемог в этом мертвяще ледяном вихре... Я опустился на колени и,
весь скованный судорогой, проснулся... Я его узнал...»1 Речь здесь идет явно о Есенине,
который в нечеловеческих муках пытался докричаться до Клюева о своей, ведомой
только одному ему (и другим несчастным вокруг него), но еще неизвестной
оставшимся жить людям «правде» о его последних часах. И всё это напоминает
встречу Гамлета в шекс-
1 См.: Сны Николая Клюева// Новый журнал. Л., 1991. № 4. С. 24/ Публ. А.
Михайлова.
пировской трагедии с тенью отца, поведавшей сыну ужасную тайну своей кончины.
Как пишет П. Медведев, видевший снятого с петли Есенина, на его лице застыло
выражение «нечеловеческой скорби и ужаса» *.
Немало в снах того, что подлинно сбылось. На Пасху 1932 года Клюеву
привиделась мать, предупреждающая сына о том, что у него отнимутся ноги. И через
пять лет это сбылось: в томской тюрьме с ним случился паралич ног. А также другой,
может быть, самый поразительный пример провидческой сущности снов конца 20-х
годов. Еще не так давно, в 60—80-е годы минувшего столетия, над нами тяготела
угроза экологической катастрофы, которая могла произойти, осуществись безрассудная
идея переброса стока северных рек европейской части России в южные степи: «Ушли
воды русские, чтоб Аравию поить, теплым шелком стать. И только меж валунов на
суго-рах рыбьи запруды остались: осетры, белуги сажани по две, киты и кашалоты
рябым брюхом в пустые сивые небеса смотрят. Воздух пустой, без птиц и стрекоз, и на
земле нет ни муравья, ни коровки Божьей...»
И опять же, как в случае с автобиографической прозой, в своих размышлениях об
этих снах исследователи неизбежно обращаются всё к той же неиссякающей традиции
древнерусской литературы, находя в ней истоки этого жанра клюевской прозы: «В
целом незабвенные сны Клюева являются по сути видениями, призванными макси-
мально полно запечатлеть жизнь души поэта-пророка. Именно через многочисленные
видения передавал свой духовный опыт Епифаний Соловецкий в своем житии-
автобиографии. <...> Н. А. Клюев в своем «духовном завещании» в соответствии с
традицией, которую он хорошо знал, передает через видения свой духовный опыт
духовным братьям и сестрам, своим духовным детям, всем православным, чтобы
спасти Россию от духовной смерти»2.
В публицистике Клюев заявил о себе еще в начале XX века. В ней нашли яркое
выражение его общественно-политические позиции, революционный пафос эпохи в
пределах созвучности с миросозерцанием поэта.
В статьях (в виде «крестьянских» писем), написанных по свежим следам
революции 1905-1907 годов Клюев выступает гневным обличителем либералов,
городских интеллигентов, не способных не только помочь страдающему народу, но и
вообще его понять, «про-
1 Медведев П. Пути и перепутья Сергея Есенина // Клюев Н., Медведев П. Сергей
Есенин. Л., 1927. С. 85.
2 Бахтина О. «Сновидения» Н. А. Клюева и традиции древнерусской и
старообрядческой литературы. С. 71.
никнуть в извивы народного духа, потому что им чужда психология мужика...» («В
черные дни», 1908).
11
Самую активную публицистическую деятельность он развивает в период Октября.
Большевистская революция была воспринята им восторженно. В поэзии прославляется
Ленин и «сермяжные советские власти», украшается торжественным слогом
религиозных текстов публицистика, с которой Клюев выступает в основном в уездной
газете своего родного города Вытегра, где с 1918 по 1923 год и проживал: «Коммунист
я, красный человек, запальщик, знаменщик, пулеметные очи» («Огненное
восхищение», 1919).
Даже в этой небольшой цитате достаточно ощутимо, что «действительность 1919
года была окрашена для Клюева в красно-золотые, солнечные тона, что мир он
воспринимал тогда, скорее, однопо-лярным, моноцветным»1.
С большевиками он в этот период во многом заодно и даже разогнанное ими
Учредительное собрание называет «бесовским сонмищем» («Газета из ада, пляска
Иродиадина», 1919). Он выступает на митингах, перед агитационными спектаклями.
Красноармейцев поэт называет «сынами солнца – орлами», оплакивает павших из них
(среди которых, кстати, и его молодые друзья). Им противопоставляется «кровавое
стадо белогвардейцев», поэт обрушивается с проклятиями на официальную
«синодальную» Церковь. Однако, отрицая Церковь как институт, причастный к
государственной власти, он и не думал ниспровергать ее как сокровищницу
христианского искусства, выражающую одну из самых его заветных идей – идею
национальной красоты. Расцвет ее воплощения он видел как раз в прошлом, во
временах созидания на Руси церковной красоты, утверждая, что «триста годов назад,
когда мужику еще было где ухорониться от царских воевод да от помещиков, народ
понимал искусство больше, чем в нынешнее время» («Медвежья цифирь», 1919).
Апологетически высказывается он и об «иконописных мирах, где живет последний
трепет серафических воскрылий...» («Порванный невод», 1919). Еще с большей
проникновенностью развивает он эту мысль в статье того же года «Сдвинутый
светильник»: «Был я в ярославских древних церквах, плакал от тихого счастья, глядя на
Софию – премудрость Божию в седом Новгороде, молился по-ребячьи во
владимирских боголюбовских соборах, рыдал до медовой слюны у Запечной
Богородицы в Соловках...» Подспудно в подобного рода апологиях просвечивает
сокровенная мысль поэта о том, что и сама-то потребность русского народа в
революции была вызвана не чем иным, как его «тоской <...> по Матери-Красоте, а
следовательно, и по
1 Пономарева Т. А. Проза Николая Клюева 20-х годов. С. 73.
истинной культуре» («Слово о ценностях народного искусства», 1920). Да и в новой
власти ему хочется увидеть это истинное понимание «Матери-Красоты»: «Чует рабоче-
крестьянская власть, что красота спасет мир. Прилагает она заботу к заботе, труд к
труду, чтобы залучить воскресшего Жениха к себе на красный пир» («Медвежья








