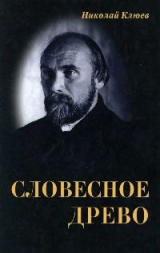
Текст книги "Словесное древо"
Автор книги: Николай Клюев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 46 страниц)
никакого издания моих стихов не может быть, что под видом издания нужно
заполучить работы моих последних лет, а ты беспокоишься о моей славе! На что она
мне нужна! Опомнись! Ни одной строки из поэмы больше под машинку! Всё сжечь!
Как поступил я – взять все перепечатки, у кого бы они ни находились, никаких
упрашиваний не принимать во внимание. Никаких изданий их не может быть! Поверь
мне! Сколько экземпляров напечатано на машинке моей поэмы – на радость,
обсасывание и кражу мои врагам? В чем смысл распространения тобою поэмы?
Ты затрудняешь себя посылками ко мне, а между тем нужно бы было написать два-
три деловых слова – что ты замышляешь? Ведь я не прошу тебя о письме, о любви и
верности – знаю, что всё подобное для тебя тяжело, но объясни мне, в чем дело?
Вольное или невольное твое предательство? Если на это письмо не получу от тебя
телеграммы или спешного письма, то выезжаю сам в Ленинград. Не умели жить
вместе, ну тогда погибнем вместе. Теперь уже всё равно для меня. Я предан, ограблен и
опозорен. Опомнись, брат – и, друг мой, дай мне умереть по-человечески, а не по-
собачьи. Приди в себя! Пойми, у кого мы в лапах?! Ведь такому черному делу, как твое
глупое усердие – история не подберет имени... Твоя молодость – не извинение – ты
слишком оказался опытным, чтобы труп мой пожрали крысы...
Еще раз умоляю тебя ни одной строки из поэмы не давать под машинку – ты ведь
дал мне за это братскую клятву! Я не пью, не ем, не сплю – всё жду... Ведь всё
погибло навсегда с опубликованием хотя бы первой части поэмы. Дорогой мой – для
чего это нужно? Ты говорил, что заключат договор и уплатят часть денег – помесячно;
ну, уплатят за один месяц 500 руб. и всё. Так поступили в «Красной газете» с
«Погорельщиной» под видом издания – так поступят и теперь. Пойми это! Дело вовсе
не в издании, что по нынешним временам немыслимо. Ни Брауну, ни Прокофьеву и т. п.
ни одной строки из следующих глав! Всё сожги, ибо теперь всё погибло – поэма
навсегда с кровью вырвана из моего сердца. Будь благоразумен, не верь изданию и
деньгам. Мне легче умереть было бы с голоду, чем публиковать или распространять в
перепечатках «Песню» а не великую «Песнь». Исправь, если можно, эту страшную
вывеску. Постарайся изъять все перепечатки.
Еще раз плачусь тебе – сообщи немедля – что значит перепечатка первой главы
поэмы? Где ее перепечатали и кто? И получает ли она распространение? Ужасаюсь, как
это всё возможно! Или ты забыл ее содержание? Или действительно это не сон, и я
должен одеть себе веревку на шею?
Подумай об этом!
191
Я получил два экземпляра – один густым лиловым шрифтом, – другой
красноватым, более четким – что это? Как это понимать? Отвечай! После этой
посылки я немедленно сжег поэму – поступи и ты так же, если не желаешь и своей
гибели. Знаю, что пишу опасными словами, но чем тебя прошибить и каким средством
заставить прийти в себя?! Я заявляю, что запрещаю издание каких бы то ни было своих
произведений! Посылаю заявление в издательство писателей об этом. Всё уничтожь!
Всё сожги!
Если не получу телеграммы, выезжаю сам!
Для чего ты прислал мне перепечатку? Разве я не мог бы сделать это сам – если бы
находил нужным? Поверь мне, что не издание, не деньги ты добыл для меня, а лишил
меня последнего куска хлеба, следом за этим – пуля или веревка – пока не верю, что это
тебе необходимо. Или действительно твой фальшивый купон – порождает и со-
ответствующие последствия. Приди в себя! Перекрестись! Опомнись! Пока не поздно -
ни одной строки ни под каким предлогом никому. У меня нет друзей, кроме тебя -
запомни это крепче! Дитятко мое пестованное, заветное, куда ты идешь? Ведь мою
кровь не отмыть тебе вовеки!
Телеграфируй немедленно, в чем смысл бандероли и т. д.!
194. А. II. ЯР-КРАВЧЕНКО
23 мая 1933 г. Москва
Возлюбленный мой брат, друг и дитя мое незабвенное! Приветствую тебя сердечно
и кланяюсь земно! Со слезами прошу прошения за вспышку гнева в моем последнем
письме. Этот гнев есть, конечно, один из видов противодействия, борьбы за свою
любовь, заботы за подлинность и сохранение любви как свободно принятого нами вы-
сокого избрания и сана. Чтобы сращивать соединительные нервы дружбы, рвущиеся и
от нашего греха, и от влияния извне, для этого необходима какая-то вечная памятка, с
чем бы связывалось непоколебимое наше решение – всё претерпеть до конца. И кроме
того, нужен таинственный ток энергии, непрестанно обновляющий первое,
ослепительное время дружбы. Что же это за памятка? Внешне и грубо это, конечно,
есть напоминание о себе – истирание пятой порога дома друга твоего, внутренне же
– это подвиг ради дружбы – некий невидимый труд – каждый день и час со скорбью
погублять душу свою ради друга и в радости обретать ее восстановленной! Так было со
мной в течение последних шести лет, из которых ни одна минута, прожитая с тобой, не
была нетворгеской. Это давало мне полноту жизни и высшее счастье! Создавался
какой-то таинственный стиль времяпровождения и речи, искусства и обихода. Ясно
чувствую, что так было накануне эпохи Возрождения, когда дружба венчала великих
художников и зажигала над их челом пламенный язык гения. В нашей дружбе я всегда
ощущаю, быть может, и маленькое, но драгоценное зернышко чего-то подлинного и
великого. Только из таких зерен сквозь дикость и тьму столетий пробивались ростки
Новой Культуры. Вот что теперь стало для меня ясно. А это не мало, это не пустяки!
Особенно для нас с тобой как художников. На этой вершине человеческого чувства,
подобно облакам, задевающим двуединый Арарат, небесное клубится над дольным,
земным. И этот закон неизбежен. Только теперь, в крестные дни мои, он, как никогда,
становится для меня ясно ощутимым. Вот почему вредно и ошибочно говорить тебе,
что ты живешь во мне только как пол и что с полом уходит любовь и разрушается
дружба. Неотразимым доказательством того, что ангельская сторона твоего существа
всегда заслоняла пол, – являются мои стихи – пролитые к ногам твоим. Оглянись на
них – много ли там пола? Не связаны ли все чувст<во>вания этих необычайных и
никогда не повторимых рун, – с тобой как с подснежником, чайкой или лучом,
ставшими человеком-юношей?
192
А эти образы – есть сама чистота, сколько-нибудь доступная земному бренному
слову. Только женское коварство как раз и черпает из мутных волн голого пола и
свинской патологии противоположное и обратное понимание. Откуда оно у тебя?
Конечно, от женского наития. Нельзя, сидя верхом на бабе, говорить о тайне, о том, что
можно, и то приблизительно-символично, рассказать музыкой, поэзией, живописью
или скульптурой. Только языком искусства – купленного подвигом, можно пояснить
кое-что из тайны пола и ангела в дружбе. Так поступаю и я, и точно знаю и утверждаю,
что если бы ты получил мое последнее письмо до своего падения и плена, то сказал бы
следующее: «Силой гнева измеряется сила любви», т. е. насколько силен гнев —
настолько сильна любовь друга к тебе. Видишь, любимый мой, какую трещину дала
твоя психика?! Подумай над этим покрепче! И чем глубже будет женщина внедряться и
входить в тебя, тем обыденнее и, так сказать, популярнее будут твои мысли и поступки.
Это и есть тот «широкий путь», от которого я часто предупреждал тебя – этот путь для
всех. Я же – твой брат, сомысленник и служитель, считаю тебя не таким, как все, а
незаурядным и избранным, и веровал, что твой путь – это скалистая тропинка, которая
вьется за плечами Джоконды – и ведет художника прочь от этого демонического, хотя
и прекрасного существа. Этот же символ можно наблюдать даже в изображениях
Мадонны Литты, совершеннейшей из женщин. Для меня эта давно ощутимо и понятно.
Умозрение в красках, как и в подлинной поэзии, никогда не лжет. Нужно только
открыть глаза и очистить сердце, чтобы увидеть лучи тайны, величия дружбы и
красоты. Следовательно, твое обвинение меня в том, что ты живешь во мне только как
пол – само собой отпадает.
❖❖❖
Ты извиняешься в своем письме за многословие, но разве хватило нам целых шести
лет, чтоб досказать нашу сказку? Нет, она осталась еще недосказанной!
«В каждой дружбе, сколько-нибудь продолжительной, – говорит Метерлинк, —
наступает таинственный момент, когда мы начинаем различать точное место нашего
друга относительно неизвестного, окружающего его, положение судьбы относительно
его. Происходит как бы перестановка жизни, взаимное проникновение личностей од-
ной в другую. Когда такое проникновение достигнуто, дружба силою вещей делается
нерасторжимою, пока же такое высшее единство не достигнуто, верность есть и всегда
считалась церковным сознанием за нечто необходимое не только ради сохранения
дружбы, но и ради самой жизни друзей. Соблюдение раз начатой дружбы дает всё,
нарушение же является нарушением не только дружбы, но и подвергает опасности
самое духовное существование отступника, а часто и физической смерти его жертву!
Ведь души друзей уже начали срастаться!». Это говорит Метерлинк – один из лучших
сынов человеческих – последнего времени. Мудрец – нашей эры, душевидец.
В этом же смысле – тебя, сорвавшего момент проникновения в нашу взаимную
судьбу и подвергшего себя и меня – смертельной опасности – гибели духовной и,
возможно, – физической, я в своих стихах и называю злодеем и убийцей. Но почему
ты упускаешь в тех же произведениях такие, напр<имер>, строки:
Но только облик серафима Пурге седин, как май погожий...
Ведь имя Серафима относится к тебе, – несмотря ни на что. Большего человек не
может дать вообще. Прежде я любил тебя как брата-друга, но теперь люблю тебя как
свою душу. Общение наших душ происходит уже не в явлениях и фактах, а глубже.
Друг по мйлу стал хорош, а не за хорошее мил, – как говорят мужики. Прежде я искал
Моего в тебе и если находил, то радовался – теперь же ищу Самого тебя, каков бы ты
ни был, а тебя нельзя принять, не отдавая тебе себя – всю свою полноту, все богатства
духовные и телесные, отсюда пол дружбы. Ты пишешь: «Когда я в нужде, и мне
необходимы любовь, дружба, а может быть, единственный отец, – ты покидаешь
193
меня». Считаю эту мысль просто не уложенной в слова. Это я-то тебя покидаю! Научи,
как это сделать, как вырвать нож, который ты всадил мне по рукоятку между лопаток?
Если сделает это чужой – я пойду за ним, – как благодарный лев за преподобным
Герасимом, вынувшим из его бедра стрелу, если же ты, – любимой рукой, – мы всё
равно будем неразлучны. Но ты утешаешь меня тем же, чем утешала виноградная лоза
бедного Ахмета в одной восточной басне (не привожу ее целиком за длиннотами):
Посадил бедный Ахмет лозу у своей сакли, холил ее, поливал (вероятно, не
слезами, как я), налились грозди, а лоза взяла да и отдала их Зульме. Заплакал горько
Ахмет, а лоза ему в ответ:
«Не плачь, Ахмет, ведь я с тобой – Корнями, хладною листвой!»
– «А где же грозди?» – «Ест Зюлейка!»
– «Так пусть подавится злодейка!»
Не узнаёшь ли, друг мой, ты себя в этой лозе? Не оставляешь ли ты мне корни с
хладною листвою, уверяя, что ты со мной, меж тем как сладкая гроздь твоя отдана
Зюлейке? На чьей стороне больше правды – на стороне бедного Ахмета или жадной
лакомки Зульмы? <...> Оставляя за мной отечество, любовь и дружбу и убедясь теперь,
что я тебя не покинул сердцем и благословением, ты тем самым, признаёшь, что этих
свойств не нашел в Воробьевой. Ее <...> письмо ко мне порука, что таких цветов она и
не нюхивала, они растут лишь на лугах Целителя Пантелеймона, – из них он —
юноша с ларцем травных бальзамов – врачует сердца друзей, особенно тех, которые
стали жертвой темной силы!
Мой лосенок! Поверь своему весеннему деду. Ты обморочен темной силой, и в этом
состоянии нравственного обморока не Господь, взяв ребро от тебя, сотворил тебе Еву, а
серый сортирный городской черт – вырвал из тебя ребро вместе с куском
позвоночника, может быть, и души <...>. Теперь не замедлит познакомиться с тобой
сам змий с обольстительным шепотом, что ты будешь, как Бог, если вовсю будешь
пожирать плоды с дерева познания добра и зла – такое пожирание Воробьева называет
«свободным развитием». Иначе говоря, ты должен жить, как «настоящий мущина» —
курить, выпивать, стремиться к стандартному комфорту и дешевой авантюре – и
незаметно докатиться до какого-нибудь «Англетера», где, тихо притаясь в углу —
покачивается веревка. Это видение стоит у меня в глазах! Мой долг и дело моей
совести предупредить тебя об этом! Недаром же ты в свой пасхальный приезд ко мне
– уже упражнялся в болтовне (твой рассказ про пьянку Пастернака) и заявлял, что
жизнь так интересна! и что тебе рано думать об обе<т>е! Да, дитятко, Пастернак был
пьян, но не с заранее обдуманным намерением, а случайно, и горько жалел об этом,
жизнь интересна, но <...> подвигом за искусство, дружбу, величие и т. п.! Твой дед так
понимает твои лозунги! Господи, неужели я стою не за жизнь, особенно в искусстве. А
художнику в первую очередь, как никому, нужен не только всегдашний обед, но
изысканная пища, потому что он не молотобоец, а художник!
Прав ли я?
❖❖❖
Я верю, художник мой, что у тебя вкус прекрасный, но нет чутья на людей.
Доказательство: панибратство с цеховым заплечным маетером с Малой Полянки – он
вновь был у меня – опухший от пьянства и мировых масштабов, и сердце мое
холодело за твой вкус на людей и знакомства. Поверь же моему письму, в котором я,
ничего не убавляя и не прибавляя, выявляю подоплеку анонимки Воробьевой. Не от
ревности, а от простой геловегеской тревоги за тебя и за себя размышлял я и думал,
сидя над этим, «с позволения сказать, женским творчеством». Подумай и ты над ним.
Очень советую. <...> Повторяю, я верю в твой вкус, но не верю в твое чутье к людям!
194
Еще раз советую прочитать тебе мое первое письмо об этом предмете и поразмыслить
хорошенько. Я же своего диагноза не изменяю и от него не отрекаюсь! <...>
❖❖❖
В течение месяца, я послал тебе пять писем и телеграмму, но ты остался глух к ним,
и понадобились каленые клеши, чтобы вырвать из тебя твое единственное письмо. Твоя
бандероль, – приправленная упорным предварительным молчанием, – породила в
моем кровоточащем и больном сердце бурю. Пойми, что живу я на камфаре, всегда с
холодным пузырем на сердце, в нечеловеческом напряжении мысли, предложений и
представлений о тебе <...>, – получаю перепечатки моей заветной вещи, на которую я
смотрю как на щит от всех гонений меня как поэта, как меч, долженствующий поразить
всех моих врагов в литературе – что тебе объяснять? Знаю, что сам ты ясно видишь и
понимаешь это! Я забыл все свои личные дела, все договоренности – ничего не
помню. Я весь поглощен, по горло утоплен в опасности, которой подверг ты мое
духовное существо! Я вижу тебя иногда наяву, говорю с тобой – поверь мне, любовь
моя, что не для красного словца пишу тебе про всё это, – не для позы, не из самолю-
бия! Господи! Как и чем уверить тебя в этом?! Зачем ты фразируешь, что будто за
шесть лет твоей верности я называю тебя предателем? Все шесть лет – сплошное мое
благоговение перед тобой. Предательством же я, вероятно, назвал грубый
предварительно не объясненный факт перепечатки поэмы. Ты замолчал, когда это
делать прямо грешно. Я каждый час умираю, не знаю твоей новой жизни <...>. За что
же меня укорять? Ты лучше объяснил бы мне это, – ты в моем понимании уже всё
теперь знаешь, – все глубины сатанинские, – отсюда вытекают и мои вопли, и
зубовный скрежет о твоей опытности! Если бы ты не молгал, – никаких жестоких
слов не было бы в моих к тебе письмах! Если бы ты сказал мне определенно: «Колюнь,
я должен тебе признаться, что в женщине я нашел самого себя!» <...> – бесповоротно,
и Колюнь успокоился бы и занялся бы своими делами. Но нет, обязал меня словом
хранить чистоту, а сам, высунув язык, ждал заветное 16-ое мая и нравственно мог это?
Верно ли я говорю или ошибаюсь? Непременно напиши мне – всё подробно для моих
душевных выводов! Ты хватаешься за каждое слово в моих письмах – ища повода
оправдать что-то в себе – зачем такая тёрка? Говори прямо, ведь ты стал теперь
настоящим мущиной! Вот я говорю прямо, что в нашем положении очень ценно.
Например, дитя мое, я доверяю тебе и жизнь и смерть свои – всё по-старому, по-
бывалому! – Понятно тебе или нет? Да разве настоящее письмо, которое может
написаться человеком, быть может, один раз в жизни, не служит доказательством
пламенного и глубочайшего моего к тебе доверия? Боже мой! Какую трещину дала твоя
душа – перестав ощущать еще недавно простые для нее и родные слова! Теперь же всё
необходимо пережевать и объяснять. Так и должно быть.
Карма, возмездие за измену своему внутреннему посвящению не замедлит
сказаться. Так было и так будет. Это вечный недвижимый закон. Он написан на свитке
неба знаками зодиака. Так понимаю я, отнюдь не навязывая никому своего понимания
– своей правды. Аминь. Да сохранит тебя Христос – падшим подаяй воскрешение от
нападения темных сил! Запомни, дитя мое, что я делаю всё, борюсь на живот и смерть
за то, чтоб сохранить нашу дружбу. Совесть моя чиста. Ты же, что задумал делать,
делай скорее, но не лучше ли нам поступить так: положить свою любовь к ногам Того,
кто по воскресении своем из мертвых сказал женщине в винограднике: «Не прикасайся
ко мне, Мария!» Если же мы недостойны этого, то наклони свое золотое ушко, дитятко,
поближе к сердцу деда, – злобному и горячему, по твоим словам, и выслушай и крепче
положи себя на память вещий шепот из-под зарочного могильного камня! Слушай: «Я
люблю тебя... Совершилось чудо – твоя измена не сдвинула с места светильника
нашей дружбы – ты сам признаёшь это... У подавляющего большинства друзей бывает
195
иначе... Я иду на последнюю и страшную жертву для тебя – принимаю тебя и при
твоем сожительстве с женщиной... Потому, что ты – моя великая Идея в личной жизни
и в истории... Ты – моя идея, а гибель идеи – повлечет за собой гибель творца ее...
Вспомни Гоголя у камина, сжигающего свою душу! Пойми это во всем ужасе и
полноте!.. Я люблю тебя!.. Аминь».
❖ ❖❖
Не объясняй сожжения мною моего духовного завещания, – как пачки кредиток за
твое сердце, – в другое бы время – ты бы, конечно, понял это сожжение – как духовный
акт, ныне же, незаметно и неощутимо для самого себя, ты говоришь грешные и какие-
то чисто материальные понятия, зная, конечно, что всё это не мое и мне не
свойственно. Думаю, что и без духовного завещания я умру на твоих руках и ты
поплачешь над моей свежей могилой <...>.
Если ты уверен, что с изданием моих стихов не выйдет такой штуки, как с изданием
«Погорельщины» в «Красной газете», то сдавай всё, что имеется, но при единственном
условии выцарапать аванс сколько можно больше при сдаче рукописи – отнюдь не
помесячно! Это нужно сделать до отправки книги в политцензуру, так как цензором
всей литературы в настоящее время является Авербах, который всеконечно меня не
разрешит. Я очень нуждаюсь. Выехать в деревню не на что. Прошу тебя подумать о
деньгах. Как быть? Ведь я надеялся, что расходы по дороге, по найму избы – будут
твои. Прошу написать о твоих планах на лето. Если же ты не можешь ехать со мной, то
дай мне в долг, хотя бы 200 руб. Я тебе оставлю доверительный чек на получение моей
пенсии за июль—август, и ты будешь возмещен безболезненно. Напиши мне, когда
приедешь в Москву, и когда мы можем выехать и на сколько месяцев? Прошу тебя,
поддержи меня в моем горе – болезни душевной и телесной. Молчание твое,
подвергая смертельной опасности мое духовное существо, в то же время понуждает
меня в отчаянии броситься на шею, быть может, первому встречному подлецу. Не
допусти до этого! Помни, что ты ответственен за меня и с тебя спросится многое, хотя
бы и через долгие годы. Осмысли и подумай со этом! Еще раз прошу тебя не молчать
по месяцу. <...>
Чтобы кой-что уяснить тебе для своей новой жизни, прошу прочитать тебя
«Крейцеровую сонату» Льва Толстого. Она тебе очень поможет во многом. Ну, прости
меня грешного и злобного. Благословляю тебя, целую и мысленно пью глаза твои!
Очень сожалею о своем письме – на твою бандероль с рукописью. Будь спокоен.
Береги себя. И по возможности меньше треплись. Как твои портреты? Пишешь ли
Толстого? Что слышно от Никольского, писал ли ты что ему? Белил я купил тебе две
банки – очень много. Самых лучших – уже давно. Жду отчета с сердечным волнением.
Преданный тебе и любящий больше, чем раньше.
Твой Н. Клюев.
195. А. А. ПРОКОФЬЕВУ
Лето 1933 г. Москва
Дорогой поэт, кланяюсь Вам низко и всегда вспоминаю внимание и сердечность
Вашу и жены Вашей.
Я задыхаюсь в своем подвале, как говорится, света белого не вижу.
Прошу Вас усердно об авансе из «Современника». Нужно и необходимо уехать в
деревню – но вся надежда на Ваш присыл денег. Помогите! Лето проходит... Мне ведь
очень тяжело.
Адрес: Москва. Гранатный пер., дом 12, кв. 3.
С товарищеской преданностью Н. Клюев.
196. А. Н. ЯР-КРАВЧЕНКО
Лето 1933 г. Москва
196
Дорогой мой племянник. Кланяюсь тебе и посылаю свое благословение, извини,
что задержал прилагаемые стихи, но всё время у меня, как и у тебя, занято новым
человеком, который вошел в мою жизнь. Прекрасный и свежий, как лесное карельское
озеро, – он пьет мое сердце, мои слезы и поцелуи, просыпаюсь и не верю своим глазам
– на твоей подушке пепельные волосы, тончайшего очертания лицо, залитое густым
шиповником. Он нежен и внимателен ко мне – утешает меня сладкими словами, на
какие способен <нрзбр>. Что будет даль<ше> – Бог знает, но сейчас сердце мое хотя и
в скрытой тревоге, но согрето, ведь их я не дождался и не слышал от тебя. Кольцо твое
получено и висит на кухне на гвоздике над полкой верхней. Я тронут доверием
Зинаиды ко мне – еще не остывшему, по ее словам, негодяю! Кланяюсь ей и мысленно
преподношу самую белую розу. Прошу тебя в свою очередь позвонить Прокофьеву о
скорейшей высылке аванса. С книгой, конечно, ничего путного не выйдет. Похлопочи,
дорогой друг, напоследках – постараюсь тебя больше не беспокоить. Я очень болен —
опять сильнейшие головокружения и т. п.
Настоящие стихи приложи к книге. Жду немедленного ответа. Нельзя ли прислать
цветного оттиска моего портрета!? В книгу я желал бы меня, читающего
«Погорельщину». Это было бы весьма разительно!
Как твои карие яхонты? Померкли для меня – твоего придворного поэта
навсегда?.. Целую тебя в них, пусть они поплачут о моей и своей судьбе! Знать это —
утешительно. Адрес: Москва, Гранатный переулок, № 12, кв. 3. Николаю Алексеевичу
Клюеву.
197. Л. Э. КРАВЧЕНКО
22 мая 1934 г. Томск
Дорогая Лидия Эдуардовна! Получил Вашу драгоценную телеграмму, всем сердцем
благодарю за нее. Слова Ваши явились для меня великим утешением и подкрепили
меня душевно. На белом свете весна, а я всё за решеткой. Отправку в Колпашев
обещают на 24-ое мая, но это не наверно. Больше нет сил и навряд ли я выдержу, так
как здоровье мое очень плохое и я без съестных передач и какой-либо помощи. В окне
светит голубым бархатом май, по-видимому, в здешних краях лето лучше, чем в
Ленинграде. Соседи-сибиряки рассказывают, что в Нарыме есть пчелы, созревает греча
и огурцы, множество рыбы, но всё это гадательно, и мне не верится во что-нибудь
хорошее на моем пути. Но Бог милостив, быть может, призовет меня скоро в иной край,
где нет ни печали, ни воздыхания. В моем настоящем положении это упование —
желанная мечта и избавление. Как только приеду в Колпашев – напишу и буду ждать
обещанного в телеграмме. Нет ли у Вас кого-либо знакомого в г. Томске? Нельзя ли
попросить сделать мне съестную передачу? Какое было бы счастье? Нельзя ли
спросить у знакомых в Питере нет ли, в свой черед, у них знакомых в г. Томске? Прошу
Вас узнать, что с моей квартирой в Москве? Адрес: Гранатный пер., № 12, кв. 3. Дарье
Леонтьевне Швейцер. Я писал, но письма, видимо, не доходят. Еще раз благодарю за
память и за заботу! С сердечным уважением и преданностью целую Ваши руки. Горячо
приветствую и кланяюсь всей Вашей семье. Как здоровье Толи? Как он себя чувствует?
Жизнь ему и счастье! Прощайте! Простите!
Кланяюсь прекрасному Вашему городу, где я жил так счастливо! Наверно, мне его
больше не видать. Ах, жизнь, жизнь! Всё прошло, как одна неделя!
Еще раз прощайте! И благодарю, благодарю...
Известите телеграфом о получении этого письма!
Прощайте. Н. Клюев.
198. А. Н. ЯР-КРАВЧЕНКО
5 июня 1934 г. Колпашево
197
Незабвенное дитятко, здравствуй! После четырех месяцев хождения по мукам я, как
после кораблекрушения, выкинут на глинистый, усыпанный черными от времени и
непогоды избами – так называемый г. Колпашев. Это чудом сохранившееся в
океанских переворотах сухое место посреди тысячевер-стых болот и залитой водой
тайги – здесь мне жить пять унылых голодных лет и, наверное, умереть и
похорониться, даже без гроба, в ржавый мерзлый торфяник. Кругом нет лица
человеческого, одно зрелище – это груды страшных движущихся лохмотьев этапов.
Свежий человек, глядя на них, не поверил бы, что это люди. Никакого пейзажа —
угрюмая серо-пепельная равнина, над которой всю ночь висит толстый неподвижный
туман, не поддающийся даже постоянному тундровому ветру. От 10 часов до четырех
светит солнце и даже жарко, но люди, выходя по делам, и в эти часы несут на руках
ватное платье – не надеясь на устойчивость погоды. Говорят, что в этом году лето
будет хорошее, ну приблизительно, как август на Вятке. В сентябре уже ледовитый
снег и так до половины мая. Гибель моя неизбежная. Я без одежды и без денег. Как
политссыльный я должен получать паек: 15 кило ржаной муки, 2 кило крупы, 800
гр<аммов> сахар<ного> песку и 15 гр<аммов> чаю – вот и всё на целый месяц. Но и
этот жалкий паек я не могу выкупить. Все четыре месяца я питался лишь хлебом и
водой, не всегда горячей. Теперь привыкаю есть, но после каждого куска поднимаются
страшные боли в животе – я иссох так, что прежние кальсоны обшивкой обвивают два
раза тело.
В кособокой лачуге, где ссыльный китаец стрижет и бреет, я увидел себя в зеркало и
не мог не разрыдаться от зрелища: в мутном олове зеркала как бы плавала посыпанная
пеплом голова и борода, – желтый череп и узлы восковых костистых рук... Я перенес
воспаление легких без всякой врачебной помощи – от этого грудь хрипит бронхитом и
не дает спать по ночам. Сплю я на голых досках под тяжелым от тюремной грязи
одеялом, которое чудом сохранилось от воров и шалманов – остальное всё украли еще
в первые дни этапов. Мне отвели комнату в только что срубленном баракообразном
доме, и за это слезное спасибо, в большинстве же ссыльные живут в землянках,
вырытых своими руками, никаких квартир в Колпашеве не существует, как почти нет и
коренных жителей. 90% населения ссыльные – китайцы, сарты, грузины, цыгане,
киргизы, россиян же очень мало – выбора на людей нет. Все потрясающе несчастны и
необщительны, совершенно одичав от нищеты и лютой судьбы. Убийства и
самоубийства здесь никого не трогают. Я сам, еще недавно укрепляющий людей в их
горе, уже четыре раза ходил к водовороту на реке Оби, но глубина небесная и потоки
слез удерживают меня от горького решения. Я намерен проситься в ссылку в Вятскую
губ<ернию>, ведь там еще не изгладились следы дорогих для меня ног, или крайне, в г.
Томск, где есть хорошие врачи, но для этого нужно тебе немедля сходить в Бюро
врачебной экспертизы, куда ты водил меня и где мне выдали свидетельство о том, что я
– инвалид второй группы, страдаю артериосклерозом, кардиосклерозом, склерозом
мозговых сосудов и истерией. Свидетельство у меня было, но осталось на Гранатном в
немецкой Библии и, вероятно, как и всё, что там было, пропало. Необходимо
восстановить этот документ немедля и выслать мне ценным письмом, тогда я буду
иметь повод хлопотать о переводе. Мне здешнее начальство говорило, что это
возможно при наличии документа от Бюро врачебной экспертизы об инвалидности и
болезни. В прежнем моем документе в строке о переосвидетельствовании значилось:
«Нет» – следовательно, документ пожизненный и очень резонный. Добудь его, дитя
мое драгоценное. Поговори с Валентином Михайловичем, спроси его совета, а также и
его удостоверения, что я болел суставным ревматизмом – это тоже нужно и важно.
Сходи к профессору Нарбуту – попроси его выдать мне удостоверение о глубоком
неврозе сердца и общего тяжелонервного состояния с приложением печати и т. п.
198
Кланяйся его семье и попроси Софию Викторовну соорудить мне посылочку: чаю,
сахару, компоту, круп и непременно жиров, лучше шпику свиного, какую-либо теплую
рубаху, кальсоны, если можно, то брюки, хотя бы старые, носки, гребенку и какую-
либо кастрюльку-котелок для варки пищи, эмалированный или какой другой, но
полегче. Посылка может быть весом до 15 кило – это новые почт<овые> правила.
Здесь растительной пищи нет. Поэтому мне нужен компот и лук в головках, чтобы не
заболеть цингой. В тюрьме мне ошибочно рассказывали, что в Колпашеве растут
огурцы – в нем не сеют и не жнут. И съестное редкость, и цены на всё чудовищные.
Бутылка молока 2 р. 50 коп. Небольшой хлебец фунта два – 6—7 руб. Масло 30 руб.
кило, но пахнет медведем, рыба – караси 3 руб. штука. Мука 75 руб. пуд и т. д. Но всё
это и за деньги надо купить умеючи. Потому что всё редко и скудно. Чем же ты
утешишь меня – друг мой?! Можно ли мне питаться надеждой на регулярную
месячную помощь, хотя бы на хлеб и воду? Напиши мне об этом! Раздобудешь ли ты
для меня что-либо теплое на зиму? Валенки, штаны ватные, варежки, портянки
бумазейные, шапку с ушами размер 15У2 вершков в окружности, шарф, рубаху
вязаную. (Теплое пальто мне обещали прислать из Москвы.) Но предупреждаю, не
обижай себя! Мне будет тяжело знать, что я для тебя обуза. Подумай об этом и обо всем
остальном – поговори с моими друзьями и т. п. Сообщи мне – следует ли мне
выслать тебе доверенность на мою квартиру и на всё, что в ней находится, или тебе это
трудно и тогда можно хотя бы Клычкову, у него теперь квартира в доме писателей и
места много?
Как бы хотелось пролить к тебе сердце свое, высказать, что накопил, но бумага
тоже, как жизнь, конечна. Буду ждать от тебя письма – оно будет для меня великой
радостью. Телеграмму я получил. Она мне очень помогла и укрепила душевно.
Прощай, дитятко! Будь счастлив. Пусть мое страшное несчастие научит тебя, как
нужно быть четким и бережливым к своей судьбе в жизни! Кланяюсь моим друзьям!
Кланяюсь тебе – единственному и незабвенному в жизни и смерти моей. Прощай!
Прости!
Колпашев, до востребования.
5 июня 1934 г.
199. Н. Ф. ХРИСТОФОРОВОЙ
10 июня 1934 г. Колпашево
Дорогая Надежда Федоровна! После четырех месяцев тюремной и этапной агонии я
чудом остался живым, и, как после жестокого кораблекрушения, когда черная пучина








