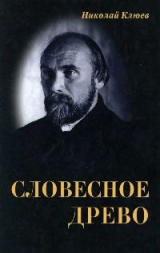
Текст книги "Словесное древо"
Автор книги: Николай Клюев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 46 страниц)
семечко. Я от чистых не укроюся, Над царями царь откроюся, -Завладею я престолами
И короною с державою... Все цари-властй мне поклонятся, Енералы все изгонятся.
(Из песен олонецких скопцов)
В Соловках, на стене соборных сеней изображены страсти: пригорок, дерновый,
такой русский, с одуванчиком на услоне, с голубиным родимым небом напрямки, а по
середке Крестное древо – дубовое, тяжкое: кругляш ушел в преисподние земли, а
потесь – до зенита голубиного.
И повешен на древе том человек, мужик ребрастый; длани в гвоз-диных трещинах,
и рот замком задорожным, англицким заперт. По-леву от древа барыня на скруте
похабной ручкой распятому делает, а поправу генерал на жеребце тысячном топчется,
саблю с копнем на взлете держит. И конский храп на всю Россию...
Старичок с Онеги-города, помню, стоял, припадал ко древу: себя узнал в Страстях,
Россию, русский народ опознал в пригвожденном с кровавыми ручейками на дланях. А
барыня похабная – буржуазия, образованность наша вонючая. Конный енерал ржаную
душеньку копнем прободеть норовит – это послед блудницы на звере багряном,
Царское Село, царский пузырь тресковый, – что ни проглотит – всё зубы не сыты.
Железо это Петровское, Санкт-Петербурхское.
«Дедушка, – спрашиваю, – воскреснет народ-то, замок-то губы не будет у него
жалить? Запретное, крестное слово скажется?»
Старичок из Онеги-города, помню, всё шепотком, втишок размотал клубок свой
слезный, что в горле, со времен Рюрика, у русского человека стоит. «Воскреснет, —
говорит, – ягодка! Уж печать ломается, стража пужается, камение распадается... От
Коневой головы каменной вздыбится Красный конь на смертное страженье с Черным
жеребцом. Лягнет Конь шлюху в блудное место, енерала булатного сверзит, а
крестцами гвозди подножные вздымет... Сойдет с древа Всемирное Слово во
услышание всем концам земным...»
Христос Воскресе! Христос Воскресе! Христос Воскресе!
Нищие, голодные мученики, кандальники вековечные, серая убойная скотина,
невежи сиволапые, бабушки многослезные, многодумные, старички онежские, вещие,
– вся хвойная пудожская мужицкая сила, – стекайтесь на великий красный пир
воскресения!
Ныне сошло со креста Всемирное слово. Восколыхнулась вселенная – Русь
распятая, Русь огненная, Русь самоцветная, Русь – пропадай голова соколиная,
упевная, валдайская!
Эх, ты сердце наше – красный конь, У тебя подковы – солнце с месяцем, Г|эива-
масть – бурливое Онегушко, И скок – от Сарина Носа к Арарат-горе, В ухе Тур-земля с
теплой Индией, Очи – сполохи беломорские, – Ты лети-скачи, не прядйй назад: —
Позади кресты, кровь гвоздиная, Впереди – Земля лебединая.
<1919>
ОГНЕННОЕ ВОСХИЩЕНИЕ
Когда зима – кот белобрысый, линять начинала, лежанка-боко-вуша в сон уходила:
– устье ее с тряпочкой для туга запиралось, а золу-позёмок мамушка-родитель на
дорожный крест в старом решете выносила – туда, где дороги крестом связались: одна
на Лобанову гору, другая же в леса, к медведю-схимнику в гости.
С вербных капелей, вместо лёжа ночного, божничный огонек живет. Божница наша
в полтябла, двурядница: внизу Марья Ягипетская из гуленой девки святой становится,
78
о стенку – крест морской соловецкий: припадешь ухом – море в нем шумит и чаицы
соленые, что англичанку на Зосим-Савватия нападать отвадили, – стоном ветровым,
карбасным, стонут.
В верхнем тябле – Образ пречистый, Сила громовая, свят, свят, свят: четверка
огненных меринов в новый, на железном ходу тарантасе, впряжены, и ангел
киноварного золота вожжи блюдет. А в тарантасе Гром сидит – великий преславный
пророк Илья.
Помню, мамушка-родитель лампадку зажигала: одиннадцать поклонов простых, а
двенадцатый огненный, неугасимый. От двенадцатого поклона воспламенялась
громовая икона, девятый вал Житейского моря захлестывал избу, гулом катился по
подлавочьям, всплескивался о печной берег, и мягкий, свежительный, вселяя в душу
вербный цвет, куличневый воскресный дух, замирал где-то на задворках, в коровьих,
соломенных далях...
Огненное восхищение!
Смерть пасет годы. Суковатым батогом загоняет их в темный, дремучий хлев
изжитого. Не мычат годы – старые, яловые коровы: – ни шерсти от них, ни молока.
От Миколы Черниговского, что с Пятницей-Парасковьей в один день именинник,
мне тридцатый год пошел, – 1919-й. Слушаю свою душу: легкая она, нерогатая,
телочкой резвой на сердечном лугу пасется.
И Смерть-пастух с суковатым батогом в пятку ушла. Ступлю и главу ее сокрушаю...
Коммунист я, красный человек, запальщик, знаменщик, пулеметные очи... Эй, годы -
старые коровы! Выпотрошу вас, шкуры сдеру на сапоги со скрипом да с алыми
закаблучьями! Щеголяйте, щеголи, разинцы, калязинцы, ленинцы жаркогрудые!
В этот год Великий четверг, как и в изжитом, свечечкой малой за окном теплится —
над мамушкиной пречистой могилкой, над деревенщиной, над посадчиной русской, над
алмазным сердцем родины. Лежанку усыпить некому. И варится в ней конина —
черный татарский кус.
Слушаю свою душу – степь половецкую, как она шумит ковыльным диким
шумом. Стонет в ковылях златокольчужный вить, унимает свою секирную рану; -
только ключ рудный, кровавый, не уёмен...
И за ветром свист сабли монгольской. Чисточетверговая свечечка Громовую икону
позлащает. Мчится на огненном тарантасе, с крыльями, бурным ямщиком в воздухах,
Россия прямо в пламень неопалимый, в халколиван каленый, в сполохи, пожары и
пыхи пренебесные...
Гром красный, ильинский полнит концы земные...
Огненное восхищение!
Красные люди любят мою икону, глядятся в халколиванную глубь, как в зеркало.
«Куличневый дух и в нашем знамени», – говорят.
Куличневый дух известен, шафран, мед, корица. Это грядущая Россия.
И не быть слаще ее ничему на свете. Братья, братья, пребывайте в Огненном
восхищении!
<1919>
АЛОЕ ЗЕРКАЛЬЦЕ Нет счастья тому, кто себя не знает.
Другой по три часа перед зеркалом сидит, смотрит больше на нос – какой у него
нос и сколько на коковке волосков, и пучком их или звездочкой Господь-Бог возрастил.
И в рот себе часто глядятся люди, уже чего бы, кажется, во рту неизвестного? Четыре
зуба сверху да три с половиной снизу и дух от них за последнее время какой-то скот-
ский, – не то мочалкой, не то хомутом прелым разит. А глядятся люди.
Вот тоже и лысина, – каждый знает, что не нужно для нее ни гребенки аршинной,
ни репейного флакона, ни тем более зеркала, да еще такого редкостного, какое в нашем
79
советском театре в прихожей стоит: на поставце оно карельской березы уселось, как
ибис какой хрустальный. – Не надо и хитростей, чтобы прозреть в его глубине
столетней Бонапарта и пожар московский и жаркокудрый облик Пушкина, а пихнуто
это чудо к вешалке, под державу Чеса Ивановича Задникова.
Не видят ничего те люди, которые больше солнышка, больше жаворонка свою
лысину любят. И обзаводятся репейным маслицем, чтобы лицо свое узреть и другим
его показать.
Ан лица-то и нет! Ушло оно к Чесу Задникову под номер.
Человек без лица в наше время никуда не гож. И пыжатся люди, из кожи лезут,
чтобы показать свою личность. Кому показать? России, революции, всему роду
человеческому. Только унывное это дело, сугубо постное. Какие «френчи» ты не
напяливай, как под немецкого юнкера лака на себя не наводи, а нет лица, – и
безголовый ты. И быть тебе у Чеса Задникова под державой.
Я, грешный человек, так же не без зеркала; только оно у меня особенное: когда
смотришься в него, то носа не видно, а лишь одни глаза, а в глазах даль сизая, русская.
– За далью курится огонечек малёшенек, – там разостлан шелков ковер, на ковре же
витязь кровь свою битвенную точит, перевязывает свои горючие раны.
Уж, как девять ран унималися, А десятая, словно вар, кипит. С белым светом витязь
стал прощатися, Горючьими слезьми уливатися: «Ты прости-ка, родимая сторонушка,
Что ль бажоная, теплая семеюшка! Уж вы ангелы поднебесные. Зажигайте-ка свечи
местные, Ставьте свеченьку в ноги резвые, А другую мне к изголовьицу!.. Ты,
смеретушка – стара тетушка, Тише бела льна выпрядь душеньку!» Откуль-неоткуль
добрый конь бежит, На коне-седле удалец сидит, – На нем жар-булат, шапка-золото, С
уст текут меды-речи братские: «Ты узнай меня, земнородный брат, Я дозор несу у
небесных врат. Меня ангелы славят Митрием, Преподобный лик – свет-Солунскиим!
Объезжаю я Матерь-Руссию, Как цветы вяжу души воинов! Уж ты стань, собрат,
быстрой векшею, Лазь на тучу-ель к солнцу красному, А оттуль тебе мостовичина Ко
Маврийскому дубу-дереву. Там столы стоят неуедные, Толокно в меду, блинник
масленый. Стежки торные поразметаны, Сукна красные поразостланы!»
Бабка Фёкла, нянюшка моя, пестунья и богомолица неусыпная, что до шести годов
на руках меня носила, под зыбкой моей этот стих певала. Через тридцать лет стих
пригодился. И бабкин голос зыбоч-ный, запечный, про битвенную кровь голосящий,
расплеснулся по русской земле.
Зеркальце-колдун за моей матерью приданым было дано, в келье моей на крестный,
двоетёсный гвоздь повешено, и утиральником за-онежским с рыбицами на концах
шитыми обряжено. И никто не гляделся в него, окромя мамы в девушках, меня да
жандарма. Был в наших местах жандарм такой: щеголь, чистяк и бессовестный.
Наедет, бывало, как снег на голову, гостить к нам – и перво-наперво к зеркальцу -
усы крутить.
Мамушка-родитель белее печи лицом станет, а перечить боится, робеет сказать, что
девушкой она в зеркальце живет, в жемчужной повязке, в душегрейке малиновой,
бухарской, в сорочке из травчатой тафты, что зеркальце – душа чья-то...
Гость ломливый, куражливый; скрутит усы штыками, потом «страсти» сказывать
начнет. «Что, Митриха, пирогов не пряжишь? Вот ты у меня где сидишь! Раскольники...
цареубийцы!..».
Бывало каплют слезы на крупчатое пирожное тесто из старых, многоскорбных
материнских глаз, а усатое самодержавие всё мне без лица кажется. Шпоры звякают, и
от красных полицейских жгутов удушьем полнится изба, обглоданность какая-то
костная, холодная, ползет по подлавочью, – а лица у гостя нет, как нет.
80
Через годы смертное гостибье припоминается. Гостило на Руси голштинское
самодержавие, пряжила для него Россия из своего белого тела пироги, обливала их
многоскорбными слезами, но зеркальце-душа выдало.
Пока разглядывало самодержавие только свои усы, закручивало их по-немецки,
штыками – было Царское Село, митрополит Филарет, раскольники и цареубийцы.
Попыталась Голштиния в народную душу заглянуть, лицо свое увидеть, – глядь,
одна шейная кочерыжка стоит! Головы-то и нет.
А в зеркальце алая душегрейка пожаром заполыхала, подожгла малиновым огнем
вселенную. Травчатый же рукав – это убрус для Лика Нерукотворного, для «прощай,
товарищ, – я иду умирать...»
Эх, вы, белые лебеди – товарищи смертные! Кличет вас солнце золотой трубой в
глуби душевные, пламенные; – только в них глядитесь, чтобы лик свой соблюсти!
Потянет вас к усам-штыкам да «френчам» – быть России без головы. – Черная шейная
кочерыжка опять слезных мамушкиных пирогов потребует.
<1919>
СДВИНУТЫЙ СВЕТИЛЬНИК
Был у обедни, – младенца возбуждал. Зайду, думаю, в дом Божий, умилюсь
благолепием велием, согрею душеньку ангельскими гласами, надышусь-напьюсь
воздухами тимьянными, стану, аки елень, у потока вод. И взыграет младенец во мне:
войдет в мою внутреннюю горницу сладчайший Жених. Возляжет с невестой-
душенькой моей, за красный пир, за хлеб животный, за виноградье живоносное.
Стану я – овча погибшая – верным чадом православной, греко-римской,
кафолической Церкви, брошу окаянных большевиков, печать антихристову с чела
своего миропомазанием упраздню, выкаюсь батюшке начистую:
Еще душа Богу согрешила Из коровушек молоки я выкликивала, Во сырое коренье
я выдаивала, Смалёшенька дитя свое проклинывала, В белых грудях его засыпывала.
Во утробе младенца запарчивала. Мужа с женой я поразваживала, Золотые венцы
поразлучивала!.. По улицам душа много хаживала, По подоконью душа много
слушивала, Хоть не слышала, скажу – слышала, Хоть не видела, скажу – видела.
Середы и пятницы не пащивалась, Великого говенья не гавливала, Заутрени, обедни
просыпывала, Воскресные службы прогуливала. Во полюшках душа много хаживала
–Не по праведну землю разделивала: Век мучиться душе и не отмучиться.
Выкаюсь батюшке начистую; стану, как стеклышко хрустальное, как льдинка
вешняя под солнышком-игруном перлами драгоценными, да измарагдами истекающая;
и наполнится жизнь моя водами мудрости: буду я, тварь земнородная, ни тем паче
человецы, не терпят от меня боя и обиды даже до часа смертного. По часе же гробном
снизошлет Господь ко мне двух ангелов.
Двух милостивых, двух жалостливых: – Вынули бы душеньку честно из груди.
Положили б душеньку на злато блюдо, Вознесли б душеньку вверх высоко, Вверх
высоко – к Авраамлю в рай...
Не тут-то было. Перво-наперво от входных врат сердце у меня засолонело.
Железные они, с пудовым болтом, и часто-начасто четвертными гвоздями по железу
унизаны, – как в каторжных царских острогах. Воистину врата адовы, а не дверь
овчая, в которую аще кто внидет – спасется, и внидет, и изыдет, и пажить обрящет...
Засолонело, говорю, у меня сердце, на врата вертограда Христова взираючи. Экой,
ведь, грех и студ! Да за кого же Церковь стадо свое считает? Знамо дело, за татей и
разбойников, а попросту за сволочь, если Бога всемогущего за железный засов садит,
чтобы поклоняющиеся Ему в Духе и истине не ободрали бы престола Его, и не
стащили бы с Богородицы кокошника, а с дьявола чересседельника! Неужто русский
народ за тысячу лет православия на Руси лучше от этого не стал? Напрасно и Царь-
81
колокол отливали, и Исаакия в первопрестольном граде Санкт-Петербурхе на
мужицких костях возвели. Свидетельство сему – Железные врата Церкви.
На паперти же сугубое огорчение: замызгана она, неудобь сказать, проплёвана
сквозь, как чайнушка извозчичья. Стены – известка мертвая, а по ним, мимоходом,
иконы поразвешены! Иван-поститель, Егорий светохрабрый, Михаилов архангел.
Усекновение, и матушка царица небесная Феодоровская – все самые любимые
русским народом образа. Но, Господи, милосердный, что с ними сделано?! Мало того,
что они не по чину расположены – Богоматерь ниже всех на притыке, а Иван-
поститель ошуюю, да и в перекось на веревочной петле, как удавленник висит, но и
самые лики машкарой выглядят, прокаженными какими-то, настолько они
«подновлены».
Иконы, видите ли, древние, бывали писаны тонко, вапа на них нежная, линия
воздуху подобна, и проявляется для зрения такой образ исподволь, по мере молитвы и
длительного на него устремления. Голштинскому же православию сия тайна претит. -
Чужда она ему, как эскимосу Италия. – Какое там молитвенное откровение! Подавай
нам афишу, чтобы за версту пёрла, мол, у нас для вас – в самый раз. Забыла
Голштиния, что ведь было когда-то иконоборчество. Люди за обладание иконой на
костры шли, на львиные зубы. Из каких же побуждений райский воздух древних икон
суриком замазываете? – Утрачено чувство иконы – величайшего церковного догмата.
И явилась потребность в афише, т. е. в том, чем больше всего смердит диавол, капитал,
бездушная машинная цивилизация.
❖❖❖
«Ныне силы небесные невидимо с нами», – пахнули на меня слова от солеи. Силы-
то силы, только не ... небесные. Свечная выручка и ведерные кружки, что меж стопок
свечных уселись, своими жестяными горлами о том вещают. Одна, самая пузатая, с
трехцветным набедренником на чреслах на украшение храма просит...
«Чертог твой вижу украшенный...»
Всматриваюсь в иконостас, в сусальную глубь алтаря. Господи, какое убожество!
Ни на куриный нос вкуса художественного. Как намазал когда-то маляр бронзовым
порошком ампирных завитушек, навел колоннадию, повесил над царскими, похожего
больше на ворону, – голубя, тем и довольствуется стадо Христово. Вдобавок же ба-
тюшка, в голубой, испод оранжевого коленкора (экая безвкусица!) ризе, в отверстых
вратах голову редкозубой гребенкой наглаживает.
Противно мне стало, грешному, человеку. Был я в ярославских древних церковках,
плакал от тихого счастья, глядя на Софию – премудрость Божию в седом Новгороде,
молился по-ребячьи, светло во владимирских боголюбовских соборах, рыдал до
медовой слюны у Запечной Богородицы в Соловках, а тут не мог младенца в себе воз-
будить.
Укорю себя: «Что ты, сосуд непотребный! Се пастырь самого Господа славы
изобразует, предстоящие же духов бесплотных!» От укоризны взыграл младенец во
чреве моем и открылась мне тайна.
У Святой Софии – блаженные персты Андрея Рублёва живут, кисть его пречудная,
в боголюбовских соборах глас великий, жалкий княгини Евпраксии, что с чадом своим
с теремной светличной вышки низринулась. И кровь свою жемчугами да хризопразами
по половецкой земле расплескала, хана татарского чуралась, почести поганой,
ордынской, убегая. А за печью соловецкой – хлебный Филиппов рай, успенское слово
Ивану Грозному: «Здесь приносится жертва Богу, а за алтарем льется кровь
христианская, – как предстанешь на суд Его обагренный кровью безвинных?..»
Оттого там и сердцу хорошо, тепло и слезинка там медовая. У романовской же
церкви всё навыворот. Из рублёвского Усекновения сделана афиша, а про благоверных
82
княгинь неудобь и глаголати. – Не только ханами, но даже ханскими жеребцами
обзаводились. И не Филиппа в митрополитах, а Малюты Скуратовы в таковых
верховенствуют.
Увы! Увы! Облетело золотое церковное древо, развеяли черные вихри травчатое,
червонное узорочье, засохло ветвие благодати, красоты и серафических
неисповедимых трепетов! Пришел Железный ангел и сдвинул светильник церкви с
места его. И всё перекосилось. Смертные тени пали от стен церковных на родимую
землю, на народ русский, на жемчужную тропу сладости и искусства духовного, что
вьется невидимо от Печенеги до индийских тысячестолпных храмов, некогда
протоптанная праведеными лапоточками мучеников народных, светоискателей и
мужицких спасальцев. И остались народу две услады: казенка да проклятая цигарка.
Перемучился народ, изжил свою скверну, перегорел в геенском окопном пламени и,
поправ гробовые пелены, подобные Христу, с гвоздиными язвами на руках и ногах,
вышел под живое солнце, под всемирный, красный ветер.
Тут-то и облещись бы в светлые ризы, и воспеть бы Церкви: «Сей день, его же
сотвори, Господь, возрадуемся и возвеселимся в онь». Но Железный ангел сдвинул
светильник Церкви с места его.
И всё перекосилось.
Полетела патриаршая анафема на голову воскресшего Христа-народа, завертелся,
как береста на огне, хитрый, тысячехоботный консисторский бес, готовый удавить
своими щупальцами Вечное солнце, Всемирную весну, смертию смерть поправшее
народное сердце.
И всё это для торжества свечной кружки, для державы блудницы вавилонской -
всесветной шлюхи фрейлины Вырубовой!
Воистину мена Христа на разбойника Варавву!
Обезъязычела Церковь от ярости, от скрежета зубного на Фаворский свет, на веянье
хлада тонка, на краснейший виноград красоты и правды народной.
А где скрежет зубный, – там и ад непробудный. Там и мощи засмердят, и
Александры Свирские с Митрофаниями воронежскими в бабьи чулки да душегрейки
разрядятся.
Какой гной и оподление риз Христовых!
От крови Авеля до кровинки зарезанного белогвардейцами в городе Олонце
ребенка взыщется с Церкви.
Кровь русского народа на воздухах церковных.
И никакая англо-американская кислота не вытравит сей крестной крови с омофоров
церковных генералов.
Сдвинутый светильник – вторая луна на тверди, но не небесной, а преисподней,
светило нечистое, Каинов жертвенник, который шипит и чадит под живоносным
дождем нового всемирного разума.
❖♦>❖
Был у обедни. Младенца в себе пробуждал.
А стариком из церкви вышел.
И лицо всё в слезах.
Словно у покойника побывал.
«Приду и сдвину светильник твой с места его..,» Это не я говорю, а в Откровении
прописано, – глава вторая, стих же пятый побеждающий.
<1919>
КРАСНЫЕ ОРЛЫ
Слетелись красные орлы. Дружной стаей на огненный зов солнца мчатся они
оборонять свое родное гнездо – Коммуну.
83
Слышат черные пропасти буйный, битвенный клекот, свист бесстрашных, могучих
крыльев, и содрогаются они, скликают волчьим воем свою окаянную рать для
последнего, судного боя.
Сыны солнца – орлы, и кровожадное волчье стадо – вот два непримиримых
лагеря, на которые раскололась сейчас вселенная. Кто победит?
Один лагерь залит ослепительными лучами всемирного солнца истины, радости и
счастья, золотые трубы поют в нем и орлиной, пылающей кровью окроплены святые
знамена.
Другой – кромешный, как ад, окутан черной, клубящейся тучей, и волчий
замогильный вой, смешанный с трупным гнойным ветром, виснет и кружится над этим
проклятым становищем...
Слетелись красные орлы.
Дети солнца. Наши желанные, кровные братья.
Отборный, бесценный жемчуг родимой земли.
И этот слёт видит сегодня, всегда серая и убогая, отныне трижды блаженная
Вытегра.
Коммунары уходят на фронт.
Обнажайте головы!
Опалите хоть раз в жизни слезой восторга и гордости за Россию свои холопские
зенки, вы – клеветники и шипуны на великую русскую революцию, на солнечное
народное сердце!
Дети весенней грозы, наши прекрасные братья вступили в красный, смертный
поединок.
Солнце приветствует их!
Вселенная нарядилась в свои венчальные одежды. Мы кланяемся им до праха
дорожного и целуем родную, голгофс-кую землю там, где ступила нога коммунара.
Радуйтесь, братья, – земля прощена!
Радуйтесь славе всемирной, радуйтесь трепету ясных знамен! Смертию смерть
победим!
<1919>
КРАСНЫЙ НАБАТ
Из моря народной крови выросло золотое дерево Свободы.
Корни этого дерева купаются в чистых источниках бытия, в сердце матери-
природы, ствол ушел за сотое, отныне разгаданное и послушное небо, а ветви своею
целящею, бальзамической тенью осенили концы вселенной.
Жаждущие народы, отягченные оковами племена потянулись к живоносным плодам
чудесного древа.
Всех радостнее, в младенческом непорочном восторге, в огненном восхищении, —
пошел навстречу красному древнему шуму русский многоскорбный народ.
Из окопного, геенского пламени, из клубов ядовитого газа, под смертным
пулеметным градом восстал прекрасный, облеченный в бурно-багряный плащ витязь,
он же сеятель с кошницей, полной звездных, пылающих зерен.
И горы поколебали свои вершины, поклоняясь Огненному сеятелю, океаны
принесли ему дары, и недра земли выдали ему свои неисчислимые клады.
Из заревой руды, из кометного золота алмазным молотом выковало ему солнце
волшебные ключи и на своем поясе-радуге опустило их с высей к ногам прекрасного.
Ключи от Врат жизни вручены русскому народу, который под игом татарским, под
помещичьей плетью, под жандармским сапогом и под церковным духовным
изнасилованием не угасил в своем сердце света тихого невечернего, – добра, красоты,
самопожертвования и милосердия, смягчающего всякое зло. Только б распахнуть врата
84
чертога украшенного в благоуханный красный сад, куда не входит смерть и дырявая
бедность и где нет уже ничего проклятого, но над всем алая сень Дерева Жизни и
справедливости.
Но два смрадных чудовища переградили светлому витязю путь к Вратам
солнечным.
Капитал и Глупость – вот имена этих чудовищ. Кто же толпится вокруг престола
первого из них? Кто льнет к ступеням страшного седалища, сооруженного из
человеческих костей и червонцев? Только не бедняк, его гонят, его вид неугоден взорам
златозубого владыки. Бедняку даже не позволяется приближаться к нижней ступени
престола, потому что его тело изнурено работой и покрыто одеждой нужды. Итак, кто
же собирается вокруг нечистого престола капитала?
Богачи и льстецы, хотящие стать богачами, падшие женщины, бесчестные
пособники тайных пороков, шуты, сумасшедшие, развлекающие совесть своего
владыки, и лжепророки, променявшие Христа на сатану, воскуряющие фимиам
виселице и осеняющие распятием кровавую плаху.
И еще кто? – Люди насилия и хитрости, пособники угнетения, неумолимые
сборщики податей и все те, кто говорит: «Отдай нам, отец наш, русский народ, и мы
заставим течь золото в твои сундуки и его кровь в твои жилы!»
Туда, где лежит труп, слетаются вороны.
Кто же толпится у трона второго чудовища, пузо которого, как яма для стока
нечистот, на змеиной шее тупое рыло борова и вместо глаз по цыбику вонючей
махорки?
Все те, кого развратила господская кухня, царская казенка и продажная синодальная
Церковь.
«Для нас всё равно: владей нами хоть Каин с Иудой, лишь бы потуже было набито
наше брюхо!» – говорит эта свиная порода, оскверняя воздух своим дыханием и
затемняя солнце серой пылью ничтожных дел своих.
Проклятие, проклятие вечное этой прожорливой смрадной саранче, попирающей
ногами кровь мучеников и насмешливо помавающей своим поганым рылом
искупительному кресту, на котором распинается ныне красная Россия.
Разделиша ризы моя, и об одежде моей меташа жребий...
Если бы угнетатели народов были предоставлены самим себе, без помощи, без
поддержки извне, что могли бы они сделать против народа?
Если бы для удержания его в рабстве у них была бы только помощь тех, кому
рабство выгодно, – что могла бы поделать эта маленькая кучка против целого народа?
Но повелители мира, обратив сердце людей на золото, жадность и ненависть,
противопоставили вечной истине, которую люди разучились понимать, мудрость князя
мира сего – дьявола.
И вот дьявол, царь всех угнетателей народов, внушил им для укрепления тирании
адскую хитрость.
Он сказал им: «Вот что нужно сделать: возьмите лист бумаги и пролитой кровью
напишите на одной стороне его: "Закон", на другой же стороне напишите: "Священная
собственность' . Я же дам народу третью заповедь, имя которой "Слепое повиновение".
И люди будут боготворить этих идолов и слепо подчиняться закону, потому что я
обольщу их разум, и вам нечего будет бояться».
И угнетатели народов сделали так, как им сказал дьявол, и дьявол исполнил то, что
обещал угнетателям.
И увидело небо, как дети народа подняли руку на свой народ, резали своих братьей,
налагали цепи на своих отцов и забыли даже чрево матерей, носивших их.
85
Когда им говорили: «Во имя всего святого, подумайте о справедливости, о
жестокости того, что вам приказывают злодеи», – они отвечали: «Мы не думаем, мы
повинуемся. У нас будет хлеб, цигарка и публичный дом».
И когда им говорили: «Неужели в вас нет более любви к вашим отцам, вашим
матерям, вашим братьям и сестрам?» – они отвечали: «Не наше дело, начальство
больше нас знает».
Воистину, со времени обольщения Евы-жизни Змием не было обольщения ужаснее
этого! Но обольщение приближается к концу. Если злой разум обольщает прямые
души, то лишь на время.
Еще несколько дней – и те, кто сражался за угнетателей, сразятся за угнетенных, и
те, кто сражались, чтобы удержать в цепях своих отцов, своих матерей, своих братьев и
сестер, сразятся за их освобождение.
И дьявол убежит в свои пещеры вместе с повелителями народов. Молодой воин,
куда идешь ты?
Я иду сражаться во избавление братьев моих от угнетения, – разбить их оковы и
оковы мира.
Я иду сражаться против неправедных людей за тех, кого они бросают на землю и
топчут ногами, против господ за рабов, против тиранов за свободу.
Я иду сражаться за то, чтобы все не были добычей немногих, чтобы поднять
согбенные головы и поддержать слабые колени. Да будет благословенно оружие твое,
молодой воин! Молодой воин, куда идешь ты?
Я иду сражаться за то, чтобы отцы не проклинали больше того дня, когда им было
сказано: «У вас родился сын», не проклинали матери того дня, когда они в первый раз
прижали его к своей груди.
Я иду сражаться за то, чтобы брат больше не печалился, видя, как вянет его сестра,
словно травка на сухой земле; чтобы сестра не глядела больше со слезами на своего
брата, который уходит и больше не вернется.
Я иду сражаться за то, чтобы каждый мог пользоваться с миром плодами труда
своего; иду осушить слезы малых детей, которые просят хлеба, а им отвечают: «Нет
больше хлеба: у нас отняли всё, что еще оставалось».
Да будет благословенно оружие твое, молодой воин!
Молодой воин, куда идешь ты?
Я иду сражаться за бедных, за то, чтобы они не были больше навсегда лишены
своей доли в общем наследии.
Я иду сражаться за то, чтобы изгнать голод из хижин, чтобы вернуть семьям
изобилие, безопасность и радость.
Я иду сражаться за то, чтобы всем, кого угнетатели бросили в тюрьмы, вернуть
воздух, которого недостает их груди, и свет, который ищут их глаза.
Да будет благословенно оружие твое, молодой воин!
Молодой воин! Куда идешь ты?
Я иду сражаться за то, чтобы опрокинуть лживые законы, отделяющие племена и
народы и мешающие им обнять друг другу, как детям одного отца, предназначенным
жить в единении и любви.
Я иду сражаться за то, чтобы все имели единое небо над собою и единую землю под
своими ногами.
Да будет благословенно твое оружие, семь раз благословенно, молодой воин!
Слышите ль, братья, красный набат?
<1919>
ГАЗЕТА ИЗ АДА, ПЛЯСКА ИРОДИАДИНА:
Малая повесть о судьбе огненной, русской
86
Захожий старичок – клюшка кукишем, с копием о земь, сапоги выворотные,
рубцами на вон, как до Петра носили, обличьем же с протопопом Аввакумом схож, —
поведал мне сие малое слово о судьбе огненной, русской. «Ты, – говорят, – ветром
питаешься; в газети-не хоть от сердечного смысла всячину праведную пропечатываешь,
только преисподнего не ведаешь.
Имеется при мне потайное рукописание, рясным и столбовым письмом по
кипарисной бумаге умными персты выведено. Господи, благослови прочести малое за
большое, во премудрое слышание, душе и телу во исцеление:
Вышла газета из ада, какая – грешным от сатаны <награда>. И в бесконечные веки
не будет душам их отрады.
В нынешний век зри всяк человек:
Грех скончался.
Истина охромела.
Любовь простудой больна.
Честность и верность в отставку вышли.
Вера ушла в пустыню.
Совесть попрана ногами.
Благодеяние таскается по миру.
Терпение лопнуло.
Ложь ныне первоприсутствует.
Бесчиние в монастырях проживает.
Гордость с монахами познакомилась.
Тщеславие игуменствует.
Братоненавидение епископствует.
Невежество старейшенствует.
Сатана, предвидя кончину сих дней, приказал бесам ад наполнить разных огней,
послал бесов размерить адскую глубину, где бы можно было грешных посадить за
вину. Потом сатана всед на седало, зарычал на бесей весьма яро: "Что-то грешных во
аде мало?" Бес подскочил и рек, что еще не век, а когда придет миру конец, тогда ты
будешь многим душам отец.
Предстали пред князя тьмы беспопечительные чернецы; он, сме-яся, сказал: "Вы
зачем, святые отцы, сюда пришли или в царствие небесное пути не нашли? Знать, вы
весь век богатства ради, а не прокормления мзду сбирали, того ради и путь в царствие
небесное утеряли!
Вы препровождали жизнь в монастырях, вам и должно быть в райских краях.
Но, видно, вы в небрежении грабительном жили, что в моей области честь себе








