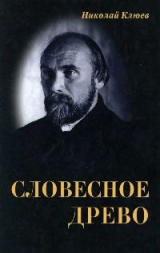
Текст книги "Словесное древо"
Автор книги: Николай Клюев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 46 страниц)
пароходы. Если зазимую, не знаю, где буду жить, придется в землянке-яме – где цинга
и... конец. Но и за яму нужно платить. Спасите, кто может! Посылки от тебя не
получил. 15 р. и 30 р. получил – благодарю. Прощайте! Простите всё. Попроси В.
Кириллова об оленьей шапке и об оленьих пимах. Родной мой – живи. Поминай меня -
ради нашей молодости и песен.
Жду письма. Помощи. Сердце мое ждать долго не может. Не забывай. Милый,
родной, певучий, сладостный брат мой!
Напиши, как съезд писателей – я послал ему заявление-письмо. Нельзя ли узнать,
как оно принято?
Прощай!
Н. Клюев.
217. В.Я.ШИШКОВУ
Лето 1934 г. Колпашево
Дорогой Вячеслав Яковлевич – после двадцати пяти лет моей поэзии в первых
рядах русской литературы я за чтение своей поэмы «Погорелыцина» и за отдельные
строки из моих черновиков – слова моих стихотворных героев – сослан в Нарымский
край, где без помощи добрых людей должен неизбежно погибнуть от голода и свирепой
нищеты. Помогите мне чем можете ради моей судьбы художника и просто живого
существа. Умоляю о съестной посылке. Деньги только телеграфом. Адрес: Северо-
Западная Сибирь, Нарымский край, поселок Колпашево, до востребования Клюеву
Никол<аю> Алексеевичу. Низко нам кланяюсь.
Н. Клюев.
218. В. Н. ГОРБАЧЕВОЙ
6 сентября 1934 г. Колпашево
Дорогая Варвара Николаевна – получил Ваше письмо, – облил его слезами,
благодарю за память, за утеху словами, они так мне нужны. Говорят, что 8 сентября
уходит последний пароход, и, быть может, мой стон с этим листком дойдет до Москвы.
Я погибаю от <не-доодания. Впереди страшная <полярная зима>, цинга и т. п. <Часть
текста утрагена> поэтически <несколько слов утрагено> изложить ей мою судьбу
<несколько слов утрагено> что ее будет рад видеть у себя большой писатель, знакомый
ей еще по Италии, и что только она может им по моему делу быть принята и
выслушана. Адрес: Большой Кисловский пер., дом 4. Нежданова меня хорошо знает и
высоко ценит, и, вероятно, жалеет. Заявление о помиловании Калинину, если только
Сережа находит это разумным, можно передать через Нежданову же, если она
уклонится – то нужно просить Надежду Андреевну Обухову, – но всё лично, а не по
телефону, и в том случае, если Сереже вырастет какая-либо рогатка и препятствие.
Пока же помогите шибко не замедлять милостыней по телеграфу, не то я могу, не
дождамшись помилования, умереть с голоду или меня под свирепые матюги остячка
выгонит из угла на снег за неуплату.
Дорогая В. Н., урвите минутку, напишите мне еще страничку. Поговорите о
деньжонках с Треневым, он, я верю, меня пожалеет и попросит других. Пусть не
216
стесняется суммой. Ваших 50 руб. в Томске я, вероятно, получил, но мне не объявляли,
от кого получение, – таков острожный режим. Доверенность я посылал и Сереже, и
Толе, и другим, но ни от кого не получаю ответа. Напрасно Вы не сообщили имени,
отчества и фа<милии> <гасть текста утрагена> может <ут-раген текст одной строки>
стал слаб. Пенсио<нное удостоверенио лежит на столике в моей <квартире>, была бы
радость, если получить что-либо. Прошу Вас, не медлите ответом.
Каждый день жизни моей сосчитан. Не припомните ли, сколько раз по моей
высылке был у Вас Павел Васильев и Рюрик. Утешали ли они меня или виноватили?
Очень прошу обратить на это внимание.
Кланяюсь Вам земным поклоном. Благословляю крестника. Простите. Прощайте.
Адрес: Сев<еро>-Зап<адная> Сибирь, поселок Колпашев.
6-го сентября 1934 г.
Поговорите с Пастернаком, он, наверно, примет – писатель. 219. С.А.КЛЫЧКОВУ
21 сентября 1934 г. Колпашево
Весьма нуждаюсь в твоем письме, милый. Давно послал заявления, как ответ на
твои телеграммы. Кланяюсь земным поклоном за твои труды и заботу обо мне
недостойном. Помоги. Не забывай. Кланяюсь Варваре Никол<аевне>, Георгию. Скоро
– вероятно, в конце октября пароходы не будут ходить. Сообщение будет лишь
телеграфом. Прощай. Прости! Н. К.
22 сентября.
220. А. Н. ЯР-КРАВЧЕНКО
25 сентября 1934 г. Колпашево
Ты пишешь мне, чтобы я нашел смысл в своем положении и что это поможет мне не
разлагаться психически. Так вот, пускай янтари твоих глаз искупаются в цветистых и
раскаленных струях моей поэмы – и ты будешь уверен, что твой дед душой богат и
крепок, как никогда, и только тело нужно поддержать куском хлеба – чтобы не опухло
оно, не пошло на пролежни и раны и сошло преждевременно в мерзлую нарымскую
землю. Об этом должны бы позаботиться мои друзья и почитатели. Подумай и ты, мое
дитятко, по мере своих сил и возможностей. От Софии Викторовны я получил
медсправку, но посылки, которую она обещает, я до сих пор не получал, передай ей об
этом. В этом году пароход обещает ходить весь октябрь, потом будет перерыв почты до
зимней дороги от Томска до Нарыма, приблизительно до первых чисел декабря.
Рассчитайте для посылок время. Деньги можно телеграфом круглый год, так же и все
телеграммы. Прошу о валенках. Полушубок и проч. получил. Говорю с ним, как с
тобой и плачу. Ты пишешь мне, чтобы я не унывал и был спокоен, но подумай, дитятко,
ведь впереди четыре года с лишком проклятого положения нарымского ссыльного!
Если бы я попал ногой или рукой в капкан, я бы оставил ему руку или ногу, а сам бы
ушел, но силе, которая держит меня в плену – не нужно моих рук и ног и я глубоко
несчастен от сознания этого, здоровье мое страшно пошатнулось. Целыми неделями я
питаюсь лишь кипятком и хлебом. Ильюшина бабушка послала очень хорошую
посылку – пользую ее со всей скупостью, и земным поклоном кланяюсь за эту
потрясающую душу милостыню, передай бабушке про сие. Скажи, что особенно был
хорош и памятен чай, уже давно я не пивал такого. От доктора В. М. Б. получил
телег<рамму>, 20 руб. с деревни, медсвид<етельства> не получил.
По твоему уверению, что ты будешь платить за комнату – я поселился у вдовы
остячки в старинной избе над самой рекой Обью – за оконцем водный блеск и сизость,
виден желтый противоположный берег. По ночам летят с криком перелетные гуси.
Огромную печь посреди избы остячка начинает топить на рассвете такими же поленья-
ми, какими топят камские пароходы. Я за бревенчатой, обмазанной глиной с навозом
стеной – слушаю странную музыку нарымских пустынь и неустанного ветра с океана.
217
Ни одного дня не бывает здесь без пронзительного ветра, а битва и борьба чугунных
туч, никогда и нигде мною не виданная. Изба большая, с подвалом. В углу «Знамение»,
высеченное из камня, и грубо раскрашено, помнит еще Ермака. Остячка говорит, как
мужик, и ругается матерно на цепную собаку в жалком из жердей придворке. Сейчас 12
ч. дня. Часы отбивает колокол посреди поселка. Летит густой снег. Прощай, Толечка,
теплое сердце мое, любимый художник и роковое дитя мое! Прощай, не медли
письмом. Торопись делать добро, чтоб не опоздать тебе, как опоздал ты в феврале! Кто
спросит обо мне – передай всем любовь мою. Милые, желанные люди – как бы я
припал к ногам вашим, наревелся бы досыта от горечи сердца и радости, что могу еще
обнять вас, что я жив еще. Ведь, вероятно, скоро кончится путь мой земной. По-види-
мому, ждать мне иной свободы нечего. Не ищу славы человеческой – нуждаюсь лишь
в одном прощении и забвении моих грехов вольных и невольных. Простите все! Адрес
прежний.
25 сентября 1934 г.
❖❖❖
От Льва Ивановича получил прямо какое-то окровавленное письмо – он сослан в
концлагерь в Мариинск в Сибири на три года. Ты, кажется, должен его немножко
припомнить, он в последнее время жил у меня. Несчастный парень. Сколько ему
стоило кожи и голодовок кончить университет, и вот апофеоз!
Еще раз прошу о письме. Не забывай. Быть может, недолго тебе придется
беспокоиться обо мне. Кланяюсь Зинаиде Павловне. Пусть она простит меня, а я
желаю ей счастья и искреннего благополучия. Пусть ее красота и молодость украшают
твои труды и дни! Еще раз прощай!
221. Н. Ф. ХРИСТОФОРОВОЙ
5 октября 1934 г. Колпашево
Дорогая Надежда Федоровна, кланяюсь Вам земным поклоном, приветствую от
всей крови сердечной, преисполняясь глубокой преданностью и благодарностью за
Ваше милосердие ко мне недостойному. Под хмурым нарымским небом, под
неустанным воющим болотным ветром, в сизое утро и в осенние косматые ночи -
простираюсь к Вам душой своей и, умываясь слезами, вызываю перед внутренним
своим зрением все дни и часы, прожитые мною в общении с Вами. Какой великий
смысл в них, во днях чистоты и в часах святых слов и благоуханных мечтаний! Но всё
как сон волшебный. Я в жестокой нарымской ссылке. Это ужасное событие
исполняется на мне в полной мере. За оконцем остяцкой избы, где преклонила голову
моя узорная славянская муза, давно крутится снег, за ним чернеет и гудит река Обь, по
которой изредка проползает пароход – единственный вестник о том, что где-то есть
иной мир, люди, а быть может, и привет с родным гнездом. Едкая слезная соль
разъедает глаза, когда я провожал глазами пароход: «Прощай! Скажи своим свистом и
паром живым людям, что поэт великой страны, ее красоты и судьбы, остается на
долгую волчью зиму в заточении – и, быть может, не увидит новой весны!» Мое
здоровье весьма плохое. Средств для жизни, конечно, никаких, свирепо голодаю, из
угла гонят и могут выгнать на снег, если почуют, что я не могу за него уплатить.
Н<адежда> А<ндреевна> прислала месяц назад 30 руб. Это единственная помощь за
последнее время. – Что же дальше? Близкий человек Толя не имеет ничего, кроме
ученической субсидии. Квартира запечатана, и трудно чего-либо добиться поло-
жительного о моем жалком имуществе, правда, есть из Москвы письмо с описанием
впечатлений от съезда писателей. Оказывается, на съезде писателей упорно ходили
слухи, что мое положение должно измениться к лучшему и что будто бы Горький стоит
за это. Но слухи остаются в воздухе, а я неизбежно и точно, как часы на морозе, зами-
раю кровью, сердцем, дыханием. Увы! для писательской публики, занятой лишь
218
саморекламой и самолюбованием, я неощутим как страдающее живое существо, в
лучшем случае я для нее лишь повод для ядовитых разговоров и недовольства – никому
и в голову не приходит подать мне кусок хлеба. Такова моя судьба как русского
художника, так и живого человека. И вновь, и снова я умоляю о помощи, о милостыне.
С двадцатых чисел октября пароходы встанут. Остается помощь по одному телеграфу.
Пока не закует мороз рек и болот -почта не ходит. Я писал Ник<олаю> Семен<овичу>.
Ответа нет. Да и вообще мне в силу условий ссылки – почти невозможно списаться с
кем-либо из больших и известных людей. К этому есть препятствия. Вот почему я
прошу переговорить с ними лично. В первую очередь о куске насущном, а потом о
дальнейшем спасении. Посоветуйтесь с Н. Г. Чулковой, она поговорит со своим мужем
и т. д. Как отнесется Антонина Васил<ьевна> Нежданова? Она может посоветоваться
со Станиславским, а он в свою очередь с Горьким. Нужно известить Веру Фигнер – ее
выслушает Крупская и, конечно, посоветует самое дельное. Очень бы не мешало
поставить в известность профес<сора> Павлова в Ленинграде, он меня весьма ценит.
Конечно, всё это не по телефону, а только лично или особым письмом. Еще раз
извещаю Вас, что Ваши три посылки я получил в целости и, как это ни тяжело, я
вынужден вновь просить Вас не оставить меня милостыней, хотя бы же первое время -
если возможно – телеграфом. Простите. Прощайте и благословите.
5 октября 34 г.
222. В. Н. ГОРБАЧЕВОЙ
223. Н. Ф. ХРИСТОФОРОВОЙ
24 октября 1934 г. Томск
Дорогая Надежда Федоровна. На самый праздник Покрова меня перевели из
Колпашева в город Томск, это на тысячу верст ближе к Москве. Такой перевод нужно
принять за милость и снисхождение, но, выйдя с парохода в ненастное и студеное утро,
я очутился второй раз в ссылке без угла и без куска хлеба. Уныло со своим узлом я
побрел по неизмеримо грязным улицам Томска. Кой-где присаживался, то на
случайную скамейку у ворот, то на какой-либо приступок. Промокший до костей,
голодный и холодный, уже в потемки я постучался в первую дверь кособокого
старинного дома на глухой окраине города – в надежде выпросить ночлег Христа
ради. К моему удивлению, меня встретил средних лет бледный, с кудрявыми волосами
и такой же бородкой человек – приветствием: «Провидение послало нам гостя!
Проходите, раздевайтесь, вероятно, устали». При этих словах человек с улыбкой стал
раздевать меня, придвинул стул, стал на колени и стащил с моих ног густо
облепленные грязью сапоги. Потом принес валенки, постель с подушкой, быстро
наладил мне в углу комнаты ночлег. Я благодарил, едва сдерживая рыдание, разделся и
улегся, – так как хозяин, ни о чем не расспрашивая, просил меня об одном -
успокоиться, лечь и уснуть. Когда я открыл глаза, было уже утро, на столе кипел
самоварчик, на деревянном блюде – черный хлеб... За чаем хозяин поведал мне
следующее: «Пришла, – говорит, – ко мне красивая, статная
Дорогая Варвара Николаевна, жалко, что послал Вам большое письмо, как получил
перевод в г. Томск, говорят, что это милость, но я вновь без угла и без куска хлеба.
Постучался для ночлега в первую дверь – Христа ради. Жилье оказалось набитой
семьей, в углу сумасшедший сын, ходит под себя, истерзанный. Боже! Что будет
дальше со мной? Каждая кровинка рыдает. Адрес: г. Томск, Главпочтамт, до
востребования.
Помогите, чем можете.
Прощайте.
Ваш дед Н. Клюев.
12 сентября.
219
женщина в старообрядческом наряде, в белом плате по брови: прими к себе моего
страдальца – обратилась она ко мне с просьбой – я за него тебе уплачу – и подает
золотой». Дорогая Надежда Федоровна, Вы поймете мои слезы и то состояние
человека, когда всякая кровинка рыдает в нем. Моя родительница упреждает пути мои.
Мало этого – случилось и следующее. Я полез в свой мешок со съестным, думая
закусить с кипятком, но сколько я ни ломал ногтей, не мог развязать пестрядинной
кромки, которою завязал мне конвойный солдат мешок. Хозяин подал мне ножик, я
стал пилить по узлу и вдоль рубца. Отлетела уцелевшая пуговка, а за ней из-под
толстой домотканной заплатки вылез желтый кружочек пятирублевой золотой монеты!
Вы мне писали, чтобы я пересмотрел свою жизнь. Я знаю, что за грехи и за личины
житейские страдаю я, но вот Вам доказательство того, что не меркнет простой и
вечный свет. Хозяин, ссыльный диакон с Волыни, скоро кончает срок своей ссылки,
поедет в Москву, – и, если можно, то зайдет к Вам с поклонами. Только рас-
спрашивать его не нужно. Если он почувствует внутреннее разрешение, то и сам
расскажет. Про такие явления нельзя говорить холодным, набитым лукавыми словами,
людям. Теперь я живу на окраине Томска, близ березовой рощи, в избе кустаря-
жестянщика. Это добрые бедные люди, днем работают, а ночью, когда уже гаснут
последние городские огни, встают перед образа на молитвенный подвиг. Ничего не
говорят мне о деньгах, не ставят никаких условий. Что будет дальше – не знаю. Уж
очень я измучен и потрясен, чтобы ясно осмысливать всё, что происходит в моей
жизни. Чувствую, что я вижу долгий, тяжкий сон. Когда я проснусь – это значит, всё
кончилось, значит, я под гробовой доской. Прошу Вас – потерпите еще немного, не
бросайте меня своей помощью по-человечески и по простоте Вашей. Моя Блаженная
мать небесным бисером отплатит Вам за Вашу хлеб-соль и милосердие ко мне
недостойному.
Томск – город путаный, деревянный, утонувший по уши осенью в грязи, а зимой в
снегах... Это на целую тысячу верст ближе от Нары-ма к России. На базаре можно за
деньги купить разную пищу: мясо 8 р., хлеб 1 р. 50 к., картофель 3 руб. ведро, нет
только яблок и никаких круп. Я чувствую себя легче, не вижу бесконечных рядов
землянок и гущи ссыльных, как в Нарыме. Айв Томске как будто бы потеплее, за
заборами растут тополя и березы, летают голуби, чего нет на Севере. Комнаты у меня
нет отдельной, изба общая с печью посредине. Приходится вставать еще впотьмах.
Приходят в голову волнующие стихи, но записать их под лязг хозяйской наковальни и
толкотню трудно. В феврале будет год моих скитаний, впереди еще четыре – но и
первый показался на столетие. Как живете Вы? Как Наумовы? Я писал им письмо, но
ответа не получил. Слезно прошу
Вячеслава о письме. Кланяюсь Мише. Как его искусстве? Мне это весьма
интересно. Сообщите, как живет Надежда Григорьевна, – я не знаю ее адреса, —
хотелось бы написать ей письмо. От Н<адежды> А<ндреевны> получил письмо и 50 р.
уже в Томске. Лучшие перлы из моих сердечных морей вплетаю в ее венец Сирин-
птицы. Поплакал я, когда прочитал в ее письме, что прекрасный Собинов отзвучал
навеки. Как мало остается красивых людей в нашей стране! Не могу оторваться от
письма, но так трудно говорить на бумаге. Простите. Не забывайте. Помогите, чем
можете. Адрес: г. Томск, переулок Красного Пожарника, дом № 12.
24 октября 34 г.
224. В. Н. ГОРБАЧЕВОЙ
1 ноября 1934 г. Томск
Дорогая Варвара Николаевна. Получил двадцать пять. Благодарю от всего сердца.
Живу в углу на окраине Томска у жестянщика-старика со старухой. Очень мучительно
на чужих глазах со своими нуждами душевными и телесными. Комнатки отдельной
220
здесь не найти, как и в Москве. Это очень удручает. Дрова сорок руб. возик. Везде
железные топки с каменным углем. Смертельно скучаю. Прошу о письме. Кланяюсь
земным поклоном. 1 ноября.
225. Б. Н. КРАВЧЕНКО
7 ноября 1934 г. г. Томск
Дорогой Боречка – волнуюсь невыразимо, что не могу получить ответа на свои
телеграммы и письма к вам. Прошу усердно, как только получишь это письмо —
отвечай. Ставлю Зинаиду Павловну в известность, что, не получая в продолжении
четырех месяцев ничего резонного на мою доверенность на вещи, я вынужден был
послать доверенность на имя другого человека, живущего в Москве близ того дома, где
я жил и где находятся мои вещи. Они свалены в сарай и мне пишут, что они
расхищаются, потому что это общий сарай для всех жильцов дома. Не зная, что делать,
я ухватился за возможность пристроить мое бедное имущество к доброму человеку,
благо он изъявил сердечную готовность помочь мне в моем горе, весьма жестком поло-
жении. Я теряю последние силы буквально от недоедания, быть может, удастся что-
либо продать, и мне перешлют сколько-нибудь деньжат. Я буду иметь возможность
платить двадцать руб. в месяц за конуру, и меня не выгонят на снег под 45-тиградусный
мороз. Морозы в 40° здесь начались с половины ноября, а я в лохмотьях, без валенок, о
которых умоляю Толечку, он мне обещал прислать валенки с калошами. Если же
возможно, то зашейте их в тряпку покрепче и пришлите. Мои условия по суровости
вам не могут быть понятны, но они ужасны. Умоляю о валенках! Вещи доверяю
Клычкову. У него большая квартира и если Толечка пожелает что-либо взять, то это
можно во всяк<о>е время. Лишь бы уцелело мое барахло и было вывезено из сырого
общего сарая. Конечно, половина вещей пропала, но что же сделать?! За тысячи верст я
бессилен этому воспрепятствовать. Деньги 20 рублей от Толи за октябрь мне переслали
из Колпашева в Томск. Он обещал высылать аккуратно каждый месяц 20 руб. В уплату
за комнату мне нужно знать, будут ли они высылаться в дальнейшем?
Освободится комната в январе, и я могу занять ее, если буду знать, что меня не
забудут этими двадцатью рублями. Какое было бы счастье уйти от чужих собачьих глаз
в свой угол!
Милый Боречка – отвечай! Найди возможность поставить меня в известность о
себе.
Кланяюсь со слезами.
Извести Ильюшину бабушку, что я от нее жду милый гостинец – посылочки, такой
же как и первый раз посылали в Нарым.
Сообщи ей мой новый адрес: г. Томск, переулок Красного Пожарника, изба № 12 —
мне.
7 ноября 1934 г.
226. В. Н. ГОРБАЧЕВОЙ
26 ноября 1934 г. Томск
Дорогая Варвара Николаевна, не знаю, как и благодарить Вас за заботы обо мне.
Кланяюсь Вам земным поклоном и умываюсь слезами. Прошу Вас не забывать меня
весточкой. Можно ли наведаться в Оргкомитете – передано ли во ВЦИК мое
заявление? Надо об этом по возможности чаще напоминать Комитету, потому что он
может тянуть передачу годами, как тянул мои заявления о пенсии, пока я сам не
добился личного свидания с Калининым. Мне пишут из Москвы, что дама, к которой я
просил Вас позвонить – была очень больна, вероятно, она еще медленно
поправляется. Но весьма бы было любопытно, а быть может, и полезно под каким-либо
интересным предлогом, который бы был не похож на просьбу о деньгах – получить от
нее разрешение свидеться – и передать ей мой документ лично. Быть может, она что и
221
сделает, если захочет. Я послал Вам доверенность (и список вещей). Когда будете ее
предъявлять, нельзя ли узнать, почему на предъявленную Зинаидой Павловной
Кравченко доверенность не последовало разрешения получить вещи? Это мне очень
важно знать. О результате Вашего предъявления доверенности известите меня
письмецом. Как вещи? По возможности их нужно проверить по списку. В первую
очередь нужно попытаться продать ковер и складень красный, обложенный медной
оковкой, Неопалимой Купины. Этот складень принадлежал Андрею Денисову – автору
книги «Поморские ответы». Писан же он тонким письмом в память Палеостровского
самосожжения иже на езере Онего, при царе Алексии. Сплошной красный цвет
выражает стихию огня. Этому складню всего бы больше приличествовало быть у меня
– связу<я> меня, сгоревшего на своей «Погорельщине», с далекими и близкими
отцами и дядичами, но что же делать? Они простят меня, слабого и уже одной ногой
стоящего во гробе. За складень раньше мне давали полторы тысячи. Теперь сколько
дадут. Предложите его Николаю Семеновичу Голованову, изв<естному> дирижеру из
Большого театра. Его адрес: Средний Кисловский, дом № 4. Но цены не назначайте -
сколько даст сам. Он видел эту вещь у меня на Гранатном, если даст 750 руб., т. е.
половину прежнего – то отдайте, а так попытайтесь продать где-либо иначе. Складень
Феодоровской Б<ожией> М<атери> может пойти от 500 руб. Ангел Хранитель
большой – от 200 руб. Остальные иконы от ста до 50 руб. штука. Ковер, если он не
очень разрушился от сырости, стоит от 300 до 750 руб. Как можете вырядить – Вам
виднее. Смотря по покупателю. Древние книги предложите Демьяну Бедному – он
любитель. Свиток пергаментный на древнееврейском языке – стоил тысячу рублей,
теперь хотя бы дали сто рублей. Это повесть о Руфи, Х-го века. В ларце узорном
теремном статуэтка Геракла в юности бронзовая <нрзбр> времен и царя Андрияна. Там
же серьги из Микенских раскопок – можно предложить музею Изящных искусств. Но
умоляю что-нибудь продать вскорости в течение декабря месяца. Чтобы меня не
выгнали на 40-градусный мороз в лохмотьях, без валенок, голодным. Прошу Вас -
нельзя ли валенки получить Вам в распределителе – размер отнюдь не больше галош
№ 10-ый. В моем комоде осталось белого материала 9-10 метров, желательно его
получить – прикрыть мою наготу. Если наторгуете денег, – то нельзя ли купить мне
хотя бы пару кальсон готовых и бумазеи черной и темно-синей четыре метра на
верхнюю рубаху, если бумазеи нет, то какого-либо хотя бумажного материала!
И еще к Вам особенное моление: прямо снаходу получите книгу немецкую Библию
– она пуд весу с медными углами и срединой на кожаном переплете. Библия на
готическом немецком языке – а в
ней, приблизительно в первой половине толщины – заложено в листах мое
инвалидное свиде<те>льство, бережно переложите его особо в крепкое место, снимите
с него копию в горсовете у нотариуса, копию пришлите мне «ценным письмом», а
оригинал берегите пуще денег. Дело в том, что этот документ дает мне право если не
полного освобождения, то перевода в лучшие климатические условия, чем Сибирь. Я
могу очутиться в Воронеже или в Казани, а это было бы для меня истинным счастьем!
Потрудитесь для спасения меня несчастного, перелистайте не торопясь Библию – оно
там, мое спасение! И я пойду на комиссию. Многие по такому свиде<те>льству осво-
бождаются по чистой. Ах, если бы мне в руки мое инвалидное свидетельство!
Помогите! И еще прошу Вас принять во внимание, что если иконы покрыты плесенью,
то отнюдь их не тереть тряпкой, а расставить вдоль стенки, хотя бы на пол, но не к
горягей паровой трубе, и маленько просушить, пока плесень сама не начнет осыпаться
– тогда уже протереть аккуратно ватой. Но, Бога ради, не трите никаким маслом,
особенно лампадно-гарным, это вечная гибель для иконной живописи!
222
Пенсионную книжку я получал в Хрустальном переулке. Книжки у меня две —
большая, что потерялась, и на место ее получена поменьше, уже вновь действительная
(первая неожиданно нашлась). Хотя бы мне получить пенсию со дня моего ареста 2-го
февраля по 2-ой май, и то бы было облегчение. В книжке есть листы для доверенности
получения, кому я пожелаю.
Если получение за прошлое возможно, то я вышлю Вам доверенность или Вы
пришлите самую книжку – я напишу и вновь возвращу ее Вам почтой – с
доверенностью.
До отчаяния нужно мало-мало денег. У моих хозяев в январе освобождается
комната 20 руб. в месяц – два окна, ход ртдельный, пол крашеный, печка на себя, – то-
то была бы радость моему бедному сердцу, если бы явилась возможность занять ее,
отдохнуть от чужих глаз и вечных потычин! Господи, неужели это сбудется?!
Мучительней нет ничего на свете, когда в тебя спотыкаются чужие люди. Крик, драка,
пьянство. Так ли я думал дожить свой век...
Прошу Вас поговорить с Пришвиным, он ведь близок к Алексею Максимовичу, и
сам многие годы относится ко мне хорошо, и злополучную «Погорельщину» мою
слушал в моем чтении – и может ясно представить мои преступления. Как принимать
мой перевод в Томск? К хорошему это или к худому? Как живет и чувствует себя
Сережа? Близок ли он к Павлу и Рюрику? Если они Вас не посещают, то я весьма рад
этому. Еще раз прошу не забывать меня весточкой. Я ведь живу от письма до письма. В
опись я забыл внести фонарь железный, что висел над столом. И икону Николы с
Григорием Богословом в рост, Никола в ризе черными крестами. Размер 6 вер<шков>
на 4 вершка, 15-й век. От Толи не получаю уже три месяца никаких известий. Нельзя
ли ему написать под каким-либо предлогом, не упоминая меня, чтобы он ответил Вам,
и я узнал, что он жив и благополучен? Низко кланяюсь всем милым сердцу. Прощайте.
Простите! Адрес: Томск, пер. Красного Пожарника, изба № 12. Мне.
26 ноября 1934 г.
227. И. Э. ГРАБАРЮ
7 декабря 1934 г. Томск
Игорю Грабарю от поэта Николая Клюева. Я погибаю в жестокой ссылке, помогите
мне, чем можете. Милосердие и русская поэзия будут Вам благодарны. Адрес:
Север<о>-Западная Сибирь, г. Томск, переулок Красного Пожарника, изба № 12.
7 декабря 1934 г.
228. В. Н. ГОРБАЧЕВОЙ
Наголо – первая половина декабря 1934 г. Томск
<Пишу Вам чотвертое письмо, <дорогая Варва>рия Николаевна. <В них я говор>ил,
что удастся, <быть может>, кое-что из моего <имущества прода>ть и выслать <мне
деньги на> хлеб. Свыше человеческих сил мое страдание. Быть может, уцелело что-
либо из продуктов: в чайном поставце осталась четверть хорошего чаю не раску-
поренной, и в стеклянной чайнице высыпана другая четверть фунта. Кофе в глиняной
зеленовато-черной большой сахарнице с крышкой, жареный, два фунта, цикория в
пачках. В кухонном столе двадцать фунтов гречи. Ах, если бы чудом всё это уцелело!
Много и другого: макароны, рис, пшено, всего не помню. Быть может, удалось бы со-
орудить посылочку. Какое бы было счастье! Жадно жду письма от Вас. Нельзя ли
вспомнить мужских черных ботинок? Они совершенно хорошие, и мне хватило бы их
надолго. Есть и сандалии. Одним словом, всё, что можно. Побеспокойтесь! До
гробовой доски не забуду Вашего милосердия. Вся надежда, что в течение декабря что-
нибудь выяснится с деньжатами. Иначе меня выгонят на улицу. За угол нужно платить
20 руб. в месяц.
223
С января можн<о бы было ужо нанять отдельн<ую комнатушку^ но, повторяю,
не<где взять ежеме>сячные 20 руб. <Толечка не мо>жет ничего боль<ше сделать. Он>
живет только на <ученическую сти>пендию, соверше<нно без помощи>, так как
родньке его оставили^ переехали на постоянное <местожительство> в Севастополь. За
семьей-то ему было легче, а теперь вовсе тяжело, желательно бы не сломать резной
спинки у моей скамьи. Скамья разбирается, и спинка снимается, только выбить
клинышки с испода и положить спинку плашмя на скамью, перевязать, и она не
сломается при перевозке. В Томске глубокая зима. Мороз под 40°. Я без валенок, и в ба-
зарные дни мне реже удается выходить за милостыней. Подают картошку, очень редко
хлеб. Деньги от двух до трех рублей – в продолжение почти целого дня – от 6 утра до
4-х дня, когда базар разъезжается. Но это не каждое воскресенье, когда и бывает мой
выход за пропитанием. Из поданного варю иногда похлебку, куда полагаю всё: хлебные
крошки, дикий чеснок, картошку, брюкву, даже немножко клеверного сена, если оно
попадает в крестьянских возах. Пью кипяток с брусникой, но хлеба мало. Сахар
великая редкость. Впереди морозы до 60°, но мне страшно умереть на улице. Ах, если
бы в тепле у печки! Где мое сердце, где мои песни?! Еще раз умоляю о письмах. Про
запас прощайте. Кланяйтесь моим знаменитым друзьям – русским художникам и
поэтам!
229. Н. Ф. ХРИСТОФОРОВОЙ
1 января 1935 г. Томск
Дорогая Надежда Федоровна!
К неземной стране Путь указан мне, И меня влечет Что-то всё вперед!
Не растут цветы На пути моем, Лишь шипов кусты Вижу я кругом!
Соловьи зарей Не ласкают слух. Лишь шакалов вой Слышу я вокруг!
Не сулит покой Мне прохлады тень, Но палящий зной Жжет и ночь и день!
Не в тиши идет Путь кремнистый мой – Ураган ревет, Проносясь над мной!
Не среди лугов. Под шумок ручья, По камням холмов Пробираюсь я!
И встречаю я Всюду крови след: Кто-то шел, скорбя, Средь борьбы и бед!
В черной мгле сокрыт Путь суровый мой. Но вдали блестит Огонек живой!
Огонек горит, И хоть вихрь шумит. Но меня влечет Что-то всё вперед!
Поздравляю Вас со Святками, со звездной елкой счастья и благословения. Я
получил Ваше письмо, наполненное грустью о моих грехах. Я поплакал над ним
тихими очистительными слезами. Оно живое доказательство, что я один из тех темных
грешников, ради которых и пришел во плоти Свет на земле, ибо Он пришел не к
праведникам, а к ужасному сборщику римских податей Закхею, к сирофи-никиянке-
блуднице, львице восточных бань и публичных сатурналий, к бесноватому, живущему
во гробах, к гнойным прокаженным. О, какое счастье встать в ряды тех, про которых
сказано в Евангелии от Луки в главе VI-ой, стих 22-ой: «Блаженны вы, когда возненави-
дят вас люди, и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше как
бесгестное». И еще стих 26-ой того же евангелиста: «Горе вам, когда все люди будут
говорить о вас хорошо».
Дорогое чадо Божие – теплая и родная Надежда Федор<овна>. Да не смущается
сердце Ваше и да не устрашается! Не принимайте мои спокойные встречи с








