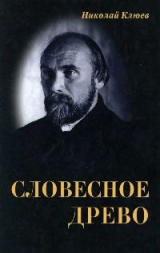
Текст книги "Словесное древо"
Автор книги: Николай Клюев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 46 страниц)
бокам зеркала – мутные лужи, где кишат и полощутся рожи, плеши, носы и загривки —
нечеловечье всё, лошадиным паром и мылом сытое.
С полуночи полнится верхнее стойло копытной нечистой силой. Гниющие девки с
бульваров и при них кавалеры от 13-ти лет и до проседи песьей. Старухи с внучатами,
гимназисты с рара *. Червонец за внучку, за мальчика два.
В кругу преисподнем, где конские ядра и с мясом прилавки (грудинка девичья,
мальчонков филей), где череп ослиный на шее крахмальной – владыка подпольный
законы блюдет, как сифилис старый за персики выдать, за розовый куст – гробовую
труху, там бедный Есенин гнусавит стихами, рязанское злато за гной продает.
<1924>
44
Музыка, не вызывающая видений или не порождающая хотя бы образов, не есть
истинная музыка. Лично для меня музыка – видение, настолько зримое, что просто
боишься какого-то сдвига в себе, чтобы самому не стать видением.
<1924>
45
Чувствую, что я, как баржа пшеничная, нагружен народным словесным бисером. И
тяжело мне подчас, распирает певческий груз мои обочины, и плыву я, как баржа по
русскому Ефрату – Волге в море Хвалынское, в персидское царство, в бирюзовый
камень. Судьба моя – стать столпом в храме Бога моего и уже не выйти из него, пока
не исполнится всё.
Май 1924 Ленинград
46
45
Бедные критики, решающие, что моя география – «граммофон из города»,
почерпнутая из учебников и словарей, тем самым обнаруживают свою полную
оторванность от жизни слова.
ее
* рар£ – папа (фр.).
Лучше телят пасти, чем сидеть в канцеляриях, плевать чернилами и рассыпаться
цифирной трухой. Под одним выпросить, под другим – съесть, что подали из первого,
менее унизительно и вовсе не обидно. Чернильная слюна обиднее.
Июнь 1924
48
Кто Фета не чувствует да не любит, тот не поэт.
1924 или 1925
49
Слушал Россию, какой она была 60 лет тому назад, и про царя и про царицу слышал
слова, каких ни в какой истории не пишут, про Достоевского и про Толстого – кровные
повести, каких никто не слышал... удары Царя-колокола в грядущем... парастас о
России патриархальной к золотому новоселью, к новым крестинам...
В углу горницы кони каким-то яхонтовым, вещим светом зарились, и трепыхала
большая серебряная лампада перед образом Богородицы.
20 марта 1925
50
«Столп и утверждение Истины» П. Флоренского – дивная, потрясающая книга.
Никогда в жизни не читал более близкого моему сердцу писания! Читая ее, я очищаюсь
от грехов моих.
<1925>
51
Вот уж кого я не люблю из прозаиков, так это Вересаева. А 1а Ка-рабчевский в
литературе, «без божества, без вдохновенья, без звуков сладких и молитв».
Был у меня Львов-Рогачевский... такая серость, такая скудость – дышать около
человека нечем.
<1925>
53
Был с П. А. Мансуровым у Кузмина и вновь учуял, что он поэт-кувшинка и весь на
виду и корни у него в поддонном море, глубоко, глубоко.
<1925>
54
Не в чулке ли нянином Пушкин Обрел певучий Кавказ?!
Вот подлинно поэтическая капля, хотя и беззаконная.
Стихи Рождественского гладки, все словесные части их как бы размерены
циркулем, в них вся сила души мастера ушла в проведение линии.
Не радостно писать такие рабские стихи.
Июль 1925
55
Когда я начинаю говорить с Ахматовой, она начинает волноваться, кричать высоким
фальцетом, чувствуя, что я попадаю в самую точку, понимая как никто всю ее
женственность.
1925 или 1926
56
Пошел в «Круг» спросить у Вронского, будет ли издана моя книга «Львиный хлеб»?
Вронский съежился, хитро прибеднился:
46
– Да, знаете, говорит, человек-то вы совсем другой...
– Совсем другой, отвечаю, но на что же вам одинаковых-то че-ловеков? Ведь вы не
рыжих в цирк набираете, а имеете дело с русскими писателями, которые, в том числе и
я, до сих пор даже и за хорошие деньги в цирке не ломались.
Ответ Вронского:
– А нам нужны такие писатели, которые бы и в цирке ломались и притом
совершенно даром.
1925 или 1926
57
Накануне введения 40-градусной Арский Павел при встрече со мной сказал: «Твои
стихи ликёр, а нам нужна русская горькая да селедка!»
1925 или 1926
58
Почувствовать, обернуться березкой радостно и приятно, а вот с моими чудищами,
как сладить? Жуть берет, рожаешь их и старишься не по дням, а по часам.
1925 или 1926
59
Размер «Ленинграда» взят из ощущения ритма плывущего корабля, из ощущения
волн и береговых отгулов, а вовсе не из подражания «Воздушному кораблю»
Лермонтова.
1925 или 1926
60
Н. Тихонов довольствуется одним зерном, а само словесное дерево для него не
существует. Да он и не подозревает вечного бытия слова.
1925 или 1926
61
Мужики много, много терпят, но так не умирают, как Есенин. И дерево так не
умирает... У меня есть что вспомнить о нем, но не то, что надо сейчас. У одних для него
заметка, а у меня для него самое нужное – молитва.
Меня по-есенински не хороните, не превращайте моего гроба в уличный товар.
<1926>
63
А Сереженька ко мне уж очень дурно относился, незаслуженно дурно – пакостил
мне где только мог.
<1926>
64
В последний вечер перед смертью Есенин сказал: «Ведь все твои стихи знаю
наизусть, вот даже в последнем моем стихотворении есть твое: "Деревья съехались, как
всадники"».
<1926>
65
Есенин учуял, что помимо живописи Богданова-Бельского («Газета в деревне» и т.
д.) в поэзии существуют более глубокие, непомерные и величавые краски и что такие
мазки, как «С советской властью жить нам по нутру, теперь бы ситцу и гвоздей
немного...» – сущие пустяки рядом с живописью Тициана или Рембрандта в «Св.
Себастьяне».
Каким-то горящим океаном, горящими лесами и заклятыми алатырь-камнями
отделены эти два мира цвета и поэзии один от другого.
Пройти невредимым сквозь горящую страну, чтобы прийти хотя к «Трем пальмам»
Лермонтова с их студеным ключом под кущей зеленой, у Есенина не хватило крепости,
47
и сознание, что вопли в пустыне уже не вернут отлетевшую душу, – перешло в
нестерпимую жажду угомонить себя наружно хотя бы веревкой.
<1926>
66
Есенин мог вести себя подходяще только в кабацкой среде, где полное извращение
и растление.
Март 1926
Есенин не был умным, а тем более мудрым. Он не чувствовал труда в искусстве и
лишен был чувства благоговения к тайнам чужого искусства. Тагор для него дрянь,
Блок – дурак, Гоген не живописен, Репин – идиот, Бородина он не чуял, Корсаков и
Мусоргский ничуть его не трогали.
Всё ценное и подлинное в чужом творчестве он приписывал своему влиянию и
даже на вечере киргизской музыки (в Москве) бранчливо и завистливо уверял меня, что
кто-то передал его напевы косоглазым киргизам и что киргизская музыка составляет
суть и душу его последних стихов. Это было в 1924 году.
<1926>
68
У Садофьева и Крайского не стихи, а вобла какая-то, а у Вагинова всё – старательно
сметенное с библиотечных полок, но каждая пылинка звучит. Большего-то Вагинову
как человеку не вынести. (По поводу сборника стихов Вагинова и стих<отворения>
«Любовь страшна не смертью...».)
Март 1926
69
Чтобы полюбить и наслаждаться моими стихами, надо войти в природу русского
слова, в его стихию, как Мурад в Константинополь, хотя бы через труп.
<1926>
70
Лучше врать, чем быть верным и точным до одуряющей тоски, до зеленой скуки.
<1926>
71
ЕСЕНИН В САЛОНАХ
На живого человека наврать легко, а на мертвого еще легче. Липуче вранье,
особливо к бумаге льнет, ни зубом, ни ногтем не отдерешь.
Лают заливисто врали, что Есенина салоны портили, а сами-то, борзые вруны, в
боярских домах, по ихнему в салонах, и нюхом не бывали.
Самовидец я и виновник есенинского бытия в салонах. Незваный он был и никем не
прошенный, и не попасть бы ему в старопрежние боярские дома вовеки, да я (дурак -
браню себя) свозил его раза три—четыре в знатные гости.
Вспоминать стыдно есенинский обиход!
Столовая палата вся серебром горит, в красном углу родовые образа царя Федора
Ивановича помнят, жемчугом залитые. Хозяйка в архангельском сарафане, в скатной
поднизи на голове, пир по чину правит... Пироги и вино в черед подаются.
Есенину черед непонятен, не видит он ни скатерти браной, ни крымских роз меж
хлеба-соли. Свою персонную стопку с красным вином на скатерть пролил, вино из
серебряного столового бочонка сам цедит, рыбу астраханскую, что китом на блюде
изукрашенном пасть ширит, ножом с хребтины ворочает. У самого рожа сальная, нос не
утерт, а на языке разное слово глупое, неплавное. Срам чистый!
Хозяйка, царская сказочница Варвара Устругова (людей, чай, видала) поглядела на
Есенина да и говорит: «Ты знаешь, молодец, что корм не в коня бывает! Поди-ка в
48
холодную, там на сундуке посиди, понадобишься – солдата пришлю». (Муж у ней
полковник от Литовского полка был.)
Вот так по разным гостям раза три-четыре, говорю я, его водил, и везде он мне
машкеру одевал, ни обихода, ни людей не чуял и розы со стола под сапоги ронял, и
людей не стыдился. А людей хороших, знающих и бывалых на тех боярских трапезах
встречалось вдосталь. Ни одного гнилого слова Есенин от них не слыхивал, и в
пьянство его никто не втравливал. Гости и хозяева хоша и гордые были, но меня с
Есениным как родных честили. Только Есенину честь не в честь была.
Больше я его в салоны и не возил.
<1926>
72
Услыхав, что Репин говорил советскому корреспонденту про Клюева, как
замечательного и недооцененного поэта, жена критика П. Н. Медведева сказала, что
если бы она обладала талантом Клюева, то «съела бы всех!»
Ник<олай> Ал<ексеевич> ответил:
– Я до суропного пристрастен, Ек<атерина> Петр<овна>, и до пищи чистой,
мертвечины же и сулемы бегаю!
(Ек<атерина> Петр<овна> разумела разную литературную шатию.)
' Июнь 1926
73
Я появился в Москве, вероятно, в 1910 г., а Блок-то узнал мои стихи раньше, в
рукописях, ходивших по рукам, в Москву я пришел прямо с «корабля», и весь был, как
говорится, в Боге. Надо думать, какое впечатление я произвел на Блока, когда жене
Городецкого он писал: «Радуйся, сестра, Христос посреди нас, – это Николай Клюев!»
Но я пришел в мир очень печальным, и эти люди со своей культурой, со своим
образованием очень меня печалили. Чуяла душа моя, что в жизни этих людей мало
правды и что придет час расплаты, страшный час.
Об этом я позже писал и Блоку: «Горе будет вам, утонете в собственной крови!»
<1926>
74
Я так взволнован сегодня, что и сказать нельзя, получил я книгу, написанную от
великого страдания, от великой скорби за русскую красоту. Ратовище, белый стяг с
избяным лесным Спасом на нем за русскую мужицкую душу. Надо в ноги поклониться
С. Клычкову за желанное рождество слова и плача великого.
В книге «Балакирь» вся чарь и сладость Лескова, и чего Лесков недосказал и не
высказал, что только в совестливые минуты чуялось Мельникову-Печерскому от
купальского кореня, от Дионисиевской вапы, от меча-кладенца, что под главой Ивана-
богатыря – всё в «Ба-лакире» сказалось, ажио терпкий пот прошибает.
И радостно и жалостно смертельно.
28 ноября 1926
75
Ин<нокентий> Оксенов в разговоре с Н<иколаем> А<лексееви-чем> выразил
недоумение по поводу строк в «Песне о Бахметьеве»:
И над пучиной городскою, Челом бунтующим царя,
Лассаль гранитной головою Кивнет с проспекта Октября...
Оксенов недоумевал слову «царя», как сравнению Лассаля с Николаем II (царя -
дееприч. от гл. царить).
«Вот уж воистину (заметил Н<иколай> А<лексеевич>) приходится скорбеть не об
упадке своего таланта, а о критиках с пробковыми головами!»
Декабрь 1926
49
76
СЛОВО НА ЛИТЕРАТУРНОМ ВЕЧЕРЕ ПЕРЕД ЧТЕНИЕМ ПОЭМЫ «ЗАОЗЕРЬЕ*
(в Геологическом комитете)
Несколько, быть может, неловких предварительных слов...
Сквозь бесформенные видения настоящего я ввожу вас в светлый чарующий мир
Заозерья, где люди и твари проходят круг своего земного бытия под могущественным и
благодатным наитием существа с «окуньим плеском в глазах» – отца Алексея, каких
видели и знали Саровские леса, темные дубы Месопотамии и подземные храмы Сиама.
Если средиземные арфы звучат в тысячелетиях и песни маленькой занесенной
снегом Норвегии на крыльях полярных чаек разносятся по всему миру, то почему
должен умолкнуть навсегда берестя-ный Сирин Скифии?
Правда, существует утверждение, что русский Сирин насмерть простужен от
железного сквозняка, который вот уже третье столетие дует из пресловутого окна,
прорубленного в Европу.
Да... Но наряду с этим существует утверждение в нас, русских художниках, что
только под смуглым солнцем Сиама и Месопотамии и исцелится его словесное сердце.
1 октября 1927
77
Год прошел после смерти Есенина, а кажется, что жил он сто лет назад. Напрасно
люди стараются увековечить себя такой жизнью и смертью, какой жил и умер Есенин.
В самой природе фейерверка гнездится уже забвение, и чем туже развертывается
клубок жизни, тем больший след останется во времени.
4 октября 1927
Нечистью, нечуткостью, если не прямой жестокостью веет от слов Максима
Горького об Айседоре Дункан, о ее приезде в Париж вместе с Есениным. «Дункан
стара, толстое лицо, дряблое тело» -всё это позволительно какому-нибудь маляру,
пропущенному сквозь рабфак, а не художнику-старику, каким является сам Горький.
Дункан своим искусством дала людям не меньше радости и восторга, чем Горький, а,
наверное, побольше.
Я видел * Горького 50-летним тяжелым человеком, действительно с толстым
старым лицом и шваброобразными толстыми усами, распаленным до поту от пляски
дешевой танцовщицы, воистину отвратительной даже для обывательского вкуса, всё
хитрое ломанье которой вместе с молодостью кухарки не стоило движения мизинца
старой Дункан.
1927 или 1928
79
«Любят люди падение праведного», – говорил мне не раз Н<ико-лай>
А<лексеевич>.
1927 или 1928
80
Не люблю я духа Горького, каков он есть в его повести «Мать». Вся эта повесть
сделана по выкройке из Парижа, в стиле дешевых романов с социальной правдой,
которая давно уже ни на кого не производит впечатления.
1927 или 1928
81
«У Блока все стихи о России родились от Клюева» – это говорил Евгений Иванов.
1927 или 1928
* На квартире художницы Любавиной в Петербурге в 1915 г. (Примеч. Н. Клюева).
50


Живописание Некрасова ничуть не выше изделий Творожникова, Максимова и при
самом добром отношении – Богданова-Бельского. По мудрости он идет плечо с
плечом с Демьяном Бедным.
Глухонемой к стройному мусикийскому шороху, который, как говорит Тютчев,
струится в зыбких камышах, как художник Некрасов мне ничего не дал ни в юности, ни
тем более теперь.
Его отвратительный дешевый социализм может пленить только товарищёв из вика
или просто невежд в искусстве, которым не дано познать очарования ни в слове, ни в
живописи, ни в музыке, ни тем более испить глубокого вина очей человеческих.
(Юбилейные некрасовские дни.)
<1928>
83
Известность одно, а слава совсем другое. Лев Толстой не прыгал по эстрадам, а
сидел у себя дома, в Ясной Поляне, да славен как никто. Обратная же сторона только
известности может стать просто пошлостью. Есенину не было дано различать славу от
известности.
1929
84
Был на выставке Кустодиева – вот уж воистину русский пир, праздник хлеба и
соли всероссийских. Глядя на эту всещедрость, становится больно и понятно, что для
такой России страшно было перейти на фунт черного хлеба в 17 году. Было чего
лишиться и от великой потери воскипеть сердцем. России же последнего десятилетия
уже не трудно и не больно перейти и на обглоданную кость, на последнее песье
унижение.
1929
85
Был в «ТРАМе» – не театр, а дрессировочный собачник.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
РАЗДЕЛ III
Сновидения
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
51
52

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
РАДОСТИ УЧИТЕЛЬ
артовские насты – сивы, а зори пахучи и вихрасты. Трактом до росстани около
трех верст столбовых, а на третьей версте часовенка пологая у сосняка крест в талом
заря-ничном сусле купает. Здесь под купанным крестом видение мне было, в теле или
без тела – просто не знаю. Пришел я мартовской зарей к часовенке на крылечной
ступеньке посидеть, жалостью себя покормить. А уж поздно было, до дому же
обратных три версты столбовых...
Пришел я домой, с ветерком павечерним в бороде, студеный. Сус-татка не
сумерничал, лег спать.
И вижу: сижу я на часовенном крылечке, сосны при дороге и заря на снегу. . Гляжу
– старичок, как бы странник, дорогой к жилью да ночлегу поспешает...
Жалко мне стало батюшку. «Откулешний, – спрашиваю, – дедушка?» А он мне в
ответ голосом незабвенным: «Тамбовский, радость моя!»
Ёкнуло у меня сердце, узнал я Серафима-брата, радости учителя. Спохватился я,
глаза открыл: сижу на крылечке часовенном. И уж ночь в мире, звезды надо мной
редкие, полузимние.
Пришел я домой в изумлении, как пьяный. Таково Серафимово видение, до гроба не
забыть.
Аминь.
Март 1921
ТРОИЦКИЙ ХЛАД
В четверг на Троицкой неделе весь день солнопёк бил в окошко, и малиновка после
заката теленькала до вторых петухов за стеной.
А как вторым петухам протрубить, толкнуло меня, спящего, в бок два раза: мол, что
спишь, вставай!
Открыл я глаза и сел на постели. Вижу, передо мной стоят два человека. Первый,
ближе ко мне, показывает другому на меня и говорит: «Вот он может написать про
тебя!» – «Да, – ответил второй, – он нашего рода, но от малого так страдает».
И пошли говорящие. А я закричал им вслед: «Кто вы, кто? Скажите, Бога ради!» И
на вопленье мое ответ был: «Апостол Петр...»
Малиновка теленькала за окном. Троицким тонким хладом веяло над землей...
Пролил я слезы...
2 июня 1922
ДВА ПУТИ
Нездоровилось мне. Всю ночь дождь клевал окошко. А когда задремал я,
привиделся мне сон.
Будто горница с пустыми стенами, как в приезжих номерах бывает, белесоватая. В
белесоватости – зеркало, трюмо трактирное; стоит перед ним Сергей Есенин,
наряжается то в пиджак с круглыми полами, то с фалдами, то клетчатый, то синий с
лоском. Нафиксатурен он бобриком, воротничок до ушей, напереди с отгибом; шея
желтая, цыплячья, а в кадыке голос скачет, бранится на меня, что я одёжи не одобряю.
Говорю Есенину: «Одень ты, Сережа, поддёвочку рязанскую да рубаху с
серебряным стёгом, в которые ты в Питере сокручен был, когда ты из рязанских краев
"Радуницу" свою вынес!..»
И оделся будто Есенин, как я велел. И как только оделся, – расцвел весь, стал
юным и златокудрым. И Айседора Дункан тут же объявилась: женщина ничего себе -
53
добрая, не такая поганая, как я наяву о ней думал. Ей очень прилюбилось, что Есенин в
рязанском наряде...
Потом будто приехали мы к большим садам. Ворота перед нами -столбы каменные,
и на каждом столбе золотые надписи с перстом указующим высечены: направо – аллея
моя, налево – Сергея Есенина...
И знаем мы, что если пойдем все по одному пути или порознь – по двум, – то
худо нам будет... Сговорились и пошли напрямки...
Темно кругом стало и ветрено... Вижу я фонтаны по садовым площадкам, а из них
не вода, а кровь человеческая бьет...
И не пошли мы дальше, а свернули вправо, туда, где дерева зеленые...
Вижу я – дорога перед нами светлым, нежным песком усыпана, а по краю ее как бы
каштаны или дубы молодые, все розовым цветом унизаны. Меж дерев стали изваяния
белые попадаться, лица же у изваяний закрыты как бы золотыми масками...
Стал я узнавать изваяния: Сократа, Сакья-муни, Магомета, Данте...
И вышли мы опять к воротам, в которые вошли, к калитке с моим именем.
Подивились мы и порешили пройтись и тем путем, который есенинским назван.
Вижу я – серая под ногами земля, с жилками, как стиральное мыло. И по всему пути
– огромные мохнатые кактусы посажены, шипы – по ножевому черню. Меж кактусов,
как и на первом пути, – болваны каменные, и на всяком болване по черной маске
одето: Марк Твен, Ростан, Д'Аннунцио, а напоследок Сергей Клычков зародышем
каменным уселся. И вместо носа у него дыра, а в дыру таково смешно да похабно
цигарка всунута...
Стали мы с Есениным смеяться...
В смехе я и проснулся.
7 октября 1922
МЕРТВАЯ ГОЛОВА
Под Михайлов день, когда я ночевал у тебя, Коленька, привиделся мне сон. Будто я
где-то в чужом месте и нету мне пути обратно. Псиный воздух и бурая грязь под
ногами, а по сторону и по другую лавчонки просекой вытянулись, и торгуют в этих
ларьках люди с собачьими глазами. И про себя я знаю, что не люди это... Товар же —
одежда подержанная связками под потолками и по стенам развешана: штаны, пиджаки,
бекеши, пальто, чуйки... И все до испода кровью промочены.
Поровнялся я с одним из ларьков. Вижу, Коленька, твои брюки и летний пиджак на
крюке висит; слиплись штаны и закорузли от сукровицы, а на белом пиджаке огромное
кровавое пятно густого коричнево-вишневого цвета.
Затрясся я от ужаса и жалости. А спросить не у кого, нет на улице никого, окромя
меня да хозяев и торговцев по ларькам. Пошел я дальше...
Стали попадаться ларьки с мясом. На прилавках колбаса из человеческих кишок, а
на крючьях по стенам руки, ноги и туловища человеческие. Торгуют в этих рядах
человечиной. Мне же один путь вдоль рядов, по бурой грязи, в песьем воздухе...
Вдруг вижу я, идет мне навстречу как бы военный, в синих брюках с красным
кантиком, и пиджак на нем с нашивными офицерскими карманами, как теперь носят.
Обрадовался я человеку, думаю про себя: «Он всё знает, укажет, как мне из этого
проклятого места выбраться!..»
Человек зашел в один из ларьков, а я боязно за ним... Смотрю, он к чему-то
приценивается: сдобное что-то зеленым луком густо обсыпано. Тронул человек
пальцем лук, а под луком голова обозначилась... твоя, Коленька, мертвая голова: из
ноздрей черная сукровица протекла, и рот синий язык выпятил.
54
А военный к голове приценивается и приказ дает: «Отнесите, – говорит, – Ирине
Федоровне, язык же я сейчас отрежу, чтобы послать поэту Клюеву в Петрозаводск, в
часовню блаж<енного> Фаддея».
Расстегнул военный тужурку с карманами, – деньги вынуть. Смотрю я, а на груди
у него четыре кровавых дыры с кулак величиной, и понятно мне стало, что покойник
он...
Узнал я и твое, Коленька, туловище... пополам разрубленное на крюке висит.
Говорю торговцу: «Дайте мне вот эту часть, заднюю». Торговец же собачьи глаза на
меня уставил: «Хорошо, – говорит, – можно; только вам придется заплатить за нее
собственным мозгом!»
Холодею я весь от ужаса. По костям колючая дрожь бежит... Хочу у военного
спросить, а он за голову рядится, на меня не смотрит, и бес за прилавком бумажек за
твою, Коленька, голову не берет: «Мы, – говорит, – румынских денег не
принимаем!..»
Вдруг где-то далеко-далеко, в далях святорусских, ударил колокол.
До трех раз ударил. Заметались, засуетились по всем рядам собачьи рожи. А я
перекрестился и говорю: «Господи, Иисусе Христе, спаси меня, грешного!.. Завтра
Михайлов день, Архангела Огненного!..»
1ут я и проснулся.
21 ноября 1922
ЦАРЬ СЛАВЫ
В канун кануна Спиридона Солнцеворота привиделся мне сон. Стою я будто на
лестнице внутренней, домовой. Смотрю вниз на рундук, а там два котеночка маленьких
хвостики задирают, пищат —
домой просятся. Пожалел я их, от#орил двери в квартиру: мол, хозяева котятные
найдутся!
Воззрился я вокруг: комната с часами на стене, и о стену стол, салфетка на нем
брошена, крючком вязанная, и другие часы, шейные, какие барыни носят, на столе близ
салфетки лежат.
Пошел, было, я вон из комнаты, дверь открыл на улицу, а за мною погоня, будто я
часы украл.
Пустился я бежать, улица узкая и панель булыжная, всё в гору, в гору...
Прибежал к громадной кирпичной постройке, полез вверх по лесам. Ветер мне в
лицо, а леса подо мной гнутся, трещат, а я всё выше забираюсь. Одно держу в мыслях:
как бы мне от погони схорониться...
Гляжу, встреча мне: на выступе гнездо орлиное, а в нем орел с двумя орлятами,
воззрился на меня люто, когти выпускает, шипит, вот-вот в кровь меня разорвет.
Некуда мне укрыться: одна тесина узенькая от выступа к краю стены перекинута, а
от стены лестница вниз спущена на крышу какую-то со слуховым окном.
Я по теснине да по лестнице вниз опустился, орла минуючи, да в слуховое окошко и
нырнул...
Слышу пение внизу... исполатное и трубное: каково возноситель-но да пасхально
поют – ну, думаю, благочестивые здесь люди живут, найду я у них приют и оборону...
Сошел я по пологим ступеням в сени, а из сеней – в горницу. Горница светличная,
прибранная и святочистая. У стола, в большом углу, как бы белицы стоят, а с ними
доброликий кто-то в пустынной ряске. И все поют в голос: «Утреннюю, утреннюю
глубоку вместо мира песнь принесем Владычице и Христа узрим!» А сами икону на
столе рассматривают; икона белых Олипия Печерского писем: преподобный изображен
на иконе, а над ним крест с надписью: «Царь славы».
55
Перекрестился я, грешный, на икону глядючи. Вдруг икона поднялась на воздухе,
мягким шелковым лентием поддерживаема, а четыре белицы, подобно камню, что
рубином зовут, ало воссияли, крылья над головами крестя.
Оглянулся я на себя – а уж я не мирской... в белопламенную ризу облаченный,
жезл у меня в руке и на голове венец трехъярусный слепящий. И возгласили мне
невидимые лики исполатное и трубное «Царь славы» трикраты. А существа
алопалящие, как бы путь мне ука-зуя, с места содвигнулись, а я в одежде Соломоновой
по горницам, одна святее другой, за ними крестоходным шагом устремился...
Только стали горницы одна за другой сереть и в худость приходить; мусор какой-то
задворочный да помойный стал под ноги мне попадать и за светлые ризы цепляться.
Стараюсь я осторожно через нечисть ступать, через голики да через человеческие
отбросы, только понапрасно тщание мое... Лужа мне вонючая да зеленая на пути пред-
стала. Я вброд по луже, по колено ризный виссон онечистил...
И уж нет со мной друзей багряных, и путь мой в стену кабацкую уперся. Поганая
такая стена, вся пропадом да грехом обглодана. Дверь в стене этой – дыра гнилая, а
над дверью вывеска горькая: «Распивочно и на вынос». Буквы такие проклятые!
На черном осклизлом пороге ты, Николенька, сидишь, пьяный и драный, пропащий
бесповоротный забулдыга. А рядом тебя черноглазая девка, какие раньше с
шарманками ходили, на сербов похожи... стоит, куражится... Одета девка в военный
полушубок, за пазухой одеяло синее байковое свертком засунуто, а в руке бубен
кабацкий. Трясет она бубном, а сама как бы тебе резоны выставляет: «Говорила я тебе,
брось своего Клюева!»
А ты будто плюешься, слезы с отчаяния из глаз выжимаешь, по синей опухшей
роже размазываешь: «Найди ты, – говоришь, – мне его, и тогда я спасусь!»
Подошел я к тебе поближе, на жезл драгоценный опираюсь, а светлоогненные ризы
мои, почитай, выше колен слизью да калом измазаны.
«Коленька, – говорю, – это ведь я! Узнаешь ли ты меня?»
Поднял ты на меня пропитущие гнойные зенки и не узнал. Только хрип твой до
меня дошел: «Ты – Царь славы!»
И во мгновение ока очутился я вновь в святой горнице. Четыре огненных брата со
мной и икона Олипиева перед зреньем моим на воздусях, и сам я – во славе
светлоризной. Поклонился я иконе, как царь кланяется, а в иконе, как в стекле, даль
обозначилась, и ты, Николенька, удавленником на веревке качаешься, вытянулся весь, и
рубище на тебе кабацкое...
Тут я и проснулся.
23 декабря 1922
МЕДВЕЖИЙ СПОЛОХ
Два сна одинаковые... К чему бы это? Первый сон по осени привиделся.
Будто иду я с Есениным лесным сухмянником, под ногой кукуший лен да
богородицына травка. Ветер легкий можжевеловый лица нам обдувает; а Сереженька
без шапки, в своих медовых кудрях, кафта-нец на нем в синюю стать впадает, из
аглицкого тонкого сукна и рубаха белая белозерского шитья. И весь он, как березка на
пожне, легкий да сквозной.
Беспокоюсь я в душе о нем – если валежина или пень ощерый попадет, указую
ему, чтобы не ободрался он...
Вдруг по сосняку фырк и рыск пошел, мярянданье медвежье...
Бросились мы в сторону. . Я на сосну вскарабкался, а медведь уже подо мной
стоймя встал, дыхом звериным на меня пышет. Сереженька же в чащу побежал прямо
медведице в лапы... Только в лесном пролежне белая белозерская рубаха всплеснула и
красной стала...
56
Гляжу я: потянулись в стволинах сосновых соки так видимо, до самых макушек... И
не соки это, а кровь, Сереженькина медовая кровь...
Этот же сон нерушимым под Рождество вдругоряд видел я. К чему бы это?
Январь 1923
ЖИВОЕ ДРЕВО
Под святочную порошу спится глухо. Колотушки сторожевой не слышно. Спал бы
век векущий, да сны будят.
Под святочную порошу видел я себя в лесу. Лес особенный – не обхватные
стволины, земля сальная, дюжая...
Темень в лесу, марево сизое. Все дерева заматерели во мхах, в корявых наростах, в
сединах трущобных.
Тронул я перстом одно самое матерое дерево, а из него голос ровный, как бы
укорный:
«Что ты меня беспокоишь, ведь христианство только теперь началось!..»
Годы дремучие...
<Январь 1923>
НЕПРИКОСНОВЕННАЯ ЗЕМЛЯ
Прости меня, Коленька, за грех мой. Не от меня грех исходит, а от древней злобы и
мертвой персти. Не возложения рук твоих молю я, а пинка, как ошпаренной шелудивой
собаке.
Собака я ошпаренная, а вновь и опять видел небо величавое и колыбельную землю
сладимую.
На память преподобного Серафима, Саровского чудотворца, привиделся мне сон
пространный, легкий.
Будто я пеш и бос, в пестрядинной рубахе до колен, русская рубаха, загуменная.
Понизь – равнина, понизовье поречное без конца – без края в глазах моих, и
воздухи тихие, благорастворимые. Там и сям на груди равнинной водные продухи, а на
них всякая водяная птица прилет с северных стран правит...
И будто земля сновидная – Египет есмь. Сфинксы по омежным сухменям на
солнце хрустальном вымя каменное греют.
Прохладно и вольно мне, глотаю я воздух дорогой, заповедный. И будто в стороне
море спит, ни ряби на нем, ни булька...
Далеко-далеко за морем пушки ухают: это будто в Питере неспокойно...
Вдруг два человека мне предстали: один в белом фараоновом колпаке рыбу в десять
лес ловит, а другой – ищейка подворотная, в пальтишке длинном, и в руке бумага, по
которой я судебной палатой за политику судился. Тявкнула ищейка, а смысл таков: мол,
установлено, что я, Николай Клюев, – анархист; что же касательно Распутина, то это
установить еще надо.
«Ну, – думаю, – с меня теперь взятки гладки: в Египте я, в земле древней,
неприкосновенной!..»
Проснулся обрадованный.
Январь 1923
СОН АСПИДНЫЙ
Взят я под стражу... В тюрьме сижу. . Безвыходно мне и отчаянно. Сторож
тюремный ключами звякает, жалеючи меня, говорит мне, что казнь моя завтра и что
придется меня, хоть и жалко, в холодный каземат на ночь запереть.
«Господи, – думаю я, – за что меня?»
А сторож тюремный, жалеючи меня, говорит: «За то, что в дневнике царя Николая
II ты обозначен! Теперь уж никакая бумага не поможет!» И подает мне черный, как
57
грифельная доска, листик, а на листике белой прописью год рождения моего, имя и
отчество назна-менованы. Вверху же листа слово «жив» белеет...
Завтра казнь... Безысходная тюрьма и не вылизать языком белых бук на черном








