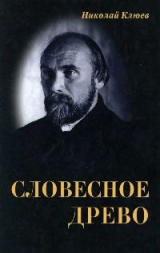
Текст книги "Словесное древо"
Автор книги: Николай Клюев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 46 страниц)
заслужили".
Бес подскочил без хвоста и сказал: "Они не блюли поста. 1917 года, когда снизошла
на землю Свобода, они для кровавой охоты поставили на церкви пулеметы. Метили в
бытия праведное сердце, тем и отворили во ад себе дверцы".
Притащили бесы табашника в ад, который сотню за осьмушку платил и светлую
Коммуну хулил: дескать, большевики нас, миляг, забижают, по десятке с рыла налоги
платить принуждают; всё на приюты да на образованье, – за сие постигло его геенское
наказанье. Зарычал Вельзевул на табашника яро: "Воистину мало тебе смолы и вара!
Променял ты драгие подарки на паленый ус да цигарки! Всю Рассию пренепорочную
закоптил, зато и на вилы бесовы угодил. А за хуление мужицкой красной власти
приготовят тебе мои черти страсти: вытянут язык на сажени, чтоб забыл ты змеиные
пени!"
87
Явились на тот свет гордые господа: прокуроры да становые приставы, городские
головы, генералы, для которых бог – чины да зер-цалы и которые пили кандяк, на
закуску – палья, совесть им – рубь, а мужик – каналья.
Бес кричит из ада: "Честнейшие господа, пожалуйте сюда! Я вас отменно буду
угощать, огнь горящий и жупел велю возгнещать! Я, милостивые государи, повелю чай
греть в самоваре, но для роскошных и жирных здесь во аде есть котел на взваре.
Растоплю олово заместо пуншу, чтоб промочить вашу скаредную душу.
Гей, змий-стоглав, воздай господам множество слав: посади их по тысяче на зуб,
чтоб не осталось от них ни праха, ни круп!" Змий тому давно рад: облапя сих господ,
потащил во ад.
Привели бесы богача, который процентом богатство распространял, а излишнее
неимущим не раздавал. Он горько возопил: "Я успел столько денег накопить, что мог
бы весь ад откупить!"
Сатана в насмешку сказал: "Видно, ты здесь хочешь роскошно проживать, время
тебе в преисподней побывать.
Тамо узнаешь, как обижать бедных, понеже и сам будешь в самых последних".
А нищим сатана сказал: "Вы зачем сюда пришли или в царствие небесное пути не
нашли?
Здесь места все заняли вельможи, ибо в житии своем были мне во всем угожи".
Нищие, то услышавши, ухватили кошели да в царствие небесное и побрели».
Старичок в сибирке, клюшка с кукишем, ликом же – протопоп Аввакум, что
заживо царем Алексием за истинный древлеотеческий крест пламени огненному
предан, поведал мне тайну индийской души народной.
«Ты, – говорит, – ветром питаешься, а преисподнюю не разумеешь.
Все ваши газеты и книги – одно рассеяние мысленное, и грядет век в коем и мышу
грызть их попретит.
Ныне мужицкими кровями пишется новая книга, нарицаемая Гога – сиречь
Хризопраз в глазу, по-нашему же Усекновение главы».
После сего восстал старичок с услонца резного, что в келье моей для гостей
уготован и, простершу десную на заход солнечный укоризне с истовым покором рек:
«О, злочестивый и прескверный, и злосмрадный, и беззаконный, и блудный, и
скверный Ироде, како не устрашился еси дати святое некрадимое сокровище и
непорочное светило и благовестие – главу народную Иродиаде злосмрадней и
нечестивей во мзду скверного плясания!..»
Бросил я глаза на заход солнечный, куда гость стремление имел, и ёкнуло у меня
под ложечкой. – Дымен и багров, аки кровь зрячая, а за багровым его дымом лежат
страны западные, страны ученые, хитростью умственной никем не превзойденные.
Вздыбили там сорокаэтажные тулова железные небоскребы, слепят каленым,
еретическим светом подземные чугунки, башня вавилонская – сиречь Эйфелева, за
звезды шпульцом задевает, а в разных пиротехниках миллионы рейтузников, выскоблив
себе длани, аки тыковь, а через то самое браду честную упразднив и образа Божия не
возымев, ядосмесительством занимаются, – порох гремучий и огне-метательные дула
вымышляют и сие за высокую науку себе ставят – червонными литерами на камне-
мраморе прозвища своих злокозненных и лютых мудрецов выводя.
А в неприступных палатах, что по-аглински банками зовутся гремит Золотой Змий,
пирует царь Ирод-капитал и с ним князи и старшины, и тысячники, беззаконии
студодейцы и осквернители и блаз-нители нечестивии...
Вшедши же Иродиада – всемирная буржуазия посреде нечестивых и пляса угоди
Иродови и возлежашим с ним.
И клятся Капитал ей: «Всё, аще просиши у мене – дам ти».
88
И вшедши абие со тщанием к царю, глаголюще: «Хощу – даси зде на блюде главу
русского народа, ею же, яко яблоком, поигра на блюде...»
Ушел от меня гость не простяся, только дух тимьянный по себе оставил, —
воскресный, усекновенный воздух.
Вдругоряд узрел я моего доброгласника в месте злачном, – есть такое место и в
нашем городишке, – там, где Народный прошпект в березняк надречный колено
загнул. Стоит он, опершись на свою заречную клюшку, и сетующим, укорным оком
публику нашу обводит.
А, надо вам сказать, публика у нас – всё одна образованность; барыни четырех-
пяти панчуков матери, и волосья на сиво, и курицы самую личность ее цапками
выбродили, а сарафан у нее неприкновен до голяшек, и зоб на панель нагишом
вывален. Таковы и дочки их: барышни каблучные, барышни в уборку с головкой,
барышни – сквозная строчка, барышни – избави нас от лукавого, пипочки и саечки, а
по оптовой мужицкой прозывке – колотая посуда; закон же колотой посуды
общеведом: сколько в ней не лей, не токмо воды, но и пива нового, о котором в цветных
пасхалиях поется, – всё безза-держно в навоз да в грязь вытечет. И зияет такая
блудная посудина своей душой-щелью, дразнит мягкозадых молодых людей, у которых,
нечистый их ведает, для какой надобности спереди и сзади по полсотни карманов
наделано, штаны пузырями в самом причинном месте – раздуты.
«Пляшет плясея плясучая».
Опознав меня, с прогорклой слезой заговорил доброгласник.
«Каблучками постукивает, лодыжками подрыгивает, – всё за пречистую главу
народную, чтоб поиграть ею на блюде, яко узрелым яблоком, а телеса акридные да
медовые воронью отдать на расклева-ние...»
Пляшет Иродиада студодейная.
По кафедральным соборам в образе архиерейском, саккосом парчовым блистает...
Оборотень окаянный.
По ученым кабинетам сюртуком да постной рожей прикидывается: дескать, я всё
знаю и о русском народе воздыхаю, но, приподняв завесу истории и т. п., убеждаюсь в
необходимости созыва бесовского сонмища – сиречь Учредительного собрания.
Пляшет Иродиада бескостная.
Шторкой в окне пузатого серого дома, с лицевой стороны которого огненная метла
восстания смела растопорху, когтистого прожору – двуглавого орла государства.
Пепельницей модной, где две голых свинцовых бабы табакуру из бывших
высокоблагородий ручкой делают.
Собачкой косолапой с барским бездельным ожерелком на плюгавой шейке.
Всё за всечестную, пророческую и достохвальную главу народа русского...
И абие посла Ирод спекулатора и повеле принести главу святого.
Спекулатор же шед усекну его, и принеси главу его на блюде и дает ю Иродиаде.
Скончав же течение свое предтеча мирови и сниде во ад, благове-ствуя избавление
вселенной.
Слышав же ад глаголы его и рече ко диаволу:
«О ком сей глаголет, высокомысленный? Кто ли радость творя ему?»
Отвещав же диавол ко аду, глагола ему:
«Се – бо ныне пришед, радость творит велик Богогласник; егда бе на земли, велико
свидетельствоваше и глагола всему миру и Свободе, Равенстве и Братстве, хотя
избавити вселенную». Аминь.
<1919>
СОРОК ДВА ГВОЗДЯ
89
Чистили золотари отхожее место, дух такой распутили, что не токмо окно открыть,
– дохнуть в келье не мысленно.
Оговорка есть: мысленному дыханию и нужник не запрет, не помеха, не застава
крепкая, но только досада: – угораздило же граждан Российской Федеративной
Советской республики с погаными черпаками да с червивой смрадной бочкой на
зеленой, троицкой земле мертвое море разводить – ни живности, ни воздыхания
чистого в сем поморий не водится, а виляет в его мути смертной лишь рак-бесенок,
удавная клешня, пученый глаз, головастик треокаянный...
Большой черт не боязен.
Настоящего дьявола по духу хоша и не уличишь, зато пупом угадаешь: затолчет в
пуп, и в ягодицы жар бросится, – знай, что большущий чертяга с тобой дело имеет.
Другое дело – бес-головастик, через ноздрю душу человеческую погубляющий,
смородком мертвецким больше донимает он.
На отрока и на старицу с курицей похоть в тебя вселяет, а если языка человеческого
коснется, – трус и мор, и червь неусыпающий по земле пойдут. .
От большого черта крест с ладаном оборона, наипаче же ладан, что от образа
Умягчения злых сердец человеских взят и воскурен: – перед солнцем, перед Русью
родимой, колыбельной, перед ласточками, которые на зиму в рай к Киприяну
запечному улетают и по печуркам теплым, пренебесным гнезда вьют.
Ласточки, ластушки непорочные! Принесите хоть на перушке малом воздуха
горнего, райского, – нам, мошенникам, золотарям вонючим! Загноили мы землю
родительскую, кровями искупленную, от Соловков до потайных храмов индийских
праведными, алчущими правды лапоточками измеренную!
Где ты, золотая тропиночка, – ось жизни народа русского, крепкая адамантовая
верея, застава Святогорова?
Заросла ты кровяник-травой, лют-травой, лом-травой невылазной, липучей и по
золоту, – настилу твоему басменному, броневик – исчадье адово прогромыхал!
Смята, перекошена, изъязвлена тропа жизни русской.
И не знаешь, куда, к кому и зачем идти.
Суешься, как слепой кутёнок.
И нету титьки теплой, маткиной.
Издохла матка; остался хвост один, шкурка мокренькая, завалящая.
Хотя бы глазки скорее прорезались, – увидеть бы свет белый, травку-пеструшку, а
может статься, и жаворонка в небе заливчатого, серебряного...
Жаворонки, жаворонки свирельные!
Принесите вы нам пропащим, осатанелым, почернелым от пороховой копоти,
сукровицей да последом человеческим измазанным, хоть росинку меда звездного,
кусочек песни херувимской, что от ребячества синеглазого под ложечкой у нас живет!
И-и-и-же, хе-е-е-ру-у-ви-и-и-мы...
Помажем мы небесным медом свои запеклые губы, болячки свои нестерпимые,
прокаженные, смоем с лица пороховую грязь, чистую рубаху наденем, как бывало
перед Пасхой, после трудной Страстной недели.
Родители из гробов восстанут на Великое Разговленье, убиенные братья наши: кто
огнем опален, кто водою утоплен; кто железом пронзен, кто на древо вознесен за грехи
наши...
Ах, слеза моя горелая, ядовитая!
Не свирелят жаворонки над русской землей, только рыгает броневик свинцовой
блевотиной... в золотую чашу жизни.
И звенит чаша тонким, комариным звоном, сердечным биением.
90
Кто слышит – чует струнного комара, жилку, что в печени матери-земли бьется...
тикает?
Люди! Живы мы или мертвы?
Давно умерли. И похоронены без попа, без ладана...
И крест уже над нами сто лет назад сгнил, трухой могильной рассыпался.
Выжил меня из кельи смертный дух, что золотари напустили.
Закутал я на исход чистым рушником свой любимый образ Софии – премудрости
Божией; – крылата она и ликом багряна, восседает на престоле-яхонте, и Пречистая с
Иваном-постителем ей предстоят главопреклонны.
А Спас золотой, в пламенных кружалиях, за плечьми ее вознесся, благословящие
длани на все миры простирая.
Да еще Некая книга на этой же иконе превыше херувимов здынута.
Пречудное письмо!
Гадали гадатели высокомысленные, Филарет Московский, чернильные люди
разные, которые рапсодии про голые ноги пишут, про мою икону: в чем ее мысль, в чем
красная тайна ее? Так и не умыслили.
На девятую Пятницу летнюю забрела старушонка ко мне – про душу поговорить и,
глаз не крестя, разгадала:
«Нынешнее время – икона твоя. Красная правда на яхонте сидит, в Солнце с Луной
предстоящие. С оболока Разум святодуховский воззрился...»
Закутал я, говорю, на исход из кельи чистым рушником сию все-петую икону и
малыми стопами исшел на зеленую уличку городишка нашего. Гляжу, к забору бумага
прилипла, и таково своим буквенным ртом звонко взвизгивает: «Отделение Церкви от
государства». А собраться христианам к городской каланче, апостольствовать же бу-
дет... Савл из Тарса.
Ноги у меня удрученные соловецким тысячепоклонным правилом, и телеса
верижные: – вериги я девятифунтовые на рамах своих до Красного года носил; в них и
в Питере бывал, и у разных, что ни на есть духобойных писателей и ученых чай пил.
Как раскумекал я подзаборную бумагу, понесли меня мои удрученные нози и телеса
зело поспешно напрямки к каланче.
А когда хватился я сего указанного для сборища места, узрел видение елеонское: на
зеленой мураве, разморенные троицким солнышком, стояли и возлежали алчущие
правды. Все коперщики, тесо-возы, с Кривого Колена да с Солдатской слободки
беднота лачужная. И у всех у них такие церковные, православные лица.
Много детей и младенцев пазушных.
«Видя толпы народа, Он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны,
как овцы, не имеющие пастыря.
Тогда говорит ученикам Своим: жатвы много, а делателей мало, и так молите
Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву
Свою», – припомнило ухо лист евангельский. Стал я делателя выискивать. Стоит
на помосте, в дикую краску крашенном, дитина, годов этак под тридцать, с питерским
пробором, задом же ядрен и сочен, с лица маслен и с геенским угольком на губах.
– Я, – говорит, – в Ерусалиме был и сам видел четыре гвоздя, да в Успенском соборе
четыре, да в Казанском гвоздь, да в Киеве полтора, а всего-навсего двадцать с
половиной – ими был прибит ко кресту Исус Христос. А товарищи мои насчитали
таких крестных гвоздей в Крыму до десятка, да в Костроме пару, а если в плоть
Христову все эти гвозди вбить, то счет им звериный – сорок два (666).
Дрогнул я, дрогнул и мужик рядом меня, благовестнику внимающий, и ребеночек у
женки сухонькой, бескровной, в беремени петушком пискнул.
91
Больно... больно стало народушку – пречистому телу Христову. На небе же
облачные персты начертали тонкий измарагдовый крест.
И крест осенил народ: коперщиков, тесовозов, бедноту лачужную. В солнце же
родимом, олонецком, ясно узрелся серафим трепыхающий, певчий-Христос воскресе
из мертвых, Смертию смерть поправ И сущим во гробех Живот даровав.
❖ ❖❖
Обсчитался товарищ.
Не сорок два гвоздя крестных, а миллионы их в народно-Христо-вую плоть вбито.
Знает это русский народ доточно без крикливой бумаги на заборе, без географии с
арифметикой.
Обуян он жаждой гвоздиной, горит у него ретивое красным полымем. Потому и
любо народушку, если чьи умственные руки гвоздь почтут; к примеру, в Успенском
соборе, в ковчежце филигранном оберегают.
Христова плоть – плоть народная, всерусская, всечеловеческая. Сорок же два
гвоздя – это шило, которое в мешке не утаишь. И как ни вертись и языком ни
блудословь, всё равно никого не проведешь.
Слышит олонецкое солнышко, березка родимая, купальская, что не гвозди, а само
железо на душу матери-земли походом идет.
Идолище поганое надвигается, по-ученому же индустрия, цивилизация пулеметная,
проволочная Америка.
Больно народушку, нестерпимо тошно... Доходят проклятые гвозди до самой
душеньки его.
Если же сие потайное народное чувство детиной с угольком на губах и с
леворвертом у пояса удостоверить, то всё до донушка станет понятно:
На младенца-березку, На кузов лубяной, смиренный. Идут Маховик и Домна
–Самодержцы Железного царства. Господи, отпусти грехи наши! Зяблик-душа голодна
и бездомна, И нет деревца с сучком родимым, И кузова с кормом-молитвой.
❖ ❖❖
Христа-Спасителя последняя завалящая бабенка знает лучше, чем Толстой с
Ренаном.
Носит Его язвы на себе.
И гвозди Его.
Тайна сия велика есть.
Христос и завалящая бабенка – это сладчайший жених и невеста преукрашенная.
Да будут два – в плоть едину.
Христос – свете истинный совокупился с Россией, проспал ночь с нею, даже до
часу девятого.
И забрюхатела Россия Емануилом, Умом Недоуменным, Огненным безумием, от
пламени которого, как писано: «Старая земля и все дела ее сгорят».
И явится Новое небо и Новая земля.
И не будет ничего проклятого.
Спасенные народы будут ходить во свете.
Россия на сносях.
«Остатнюю четверть ходить», – как говорят мужики.
Уже начались «схватки» роженичные, ярые муки. По газетам же, Колчак с
Деникиным наступают, Англичанка с Америкой злоумышляют...
Русский народ! Скоро бабка-пупорезка, повитуха Богоданная, добрым грубым
голосом тебя с «Новорожденным» поздравит.
Зовут бабку Вселенная, по батюшке Саваофовна!
92
Родится Чадо посреди седми светильников стоящее, облеченное в подир, и по
персям опоясанное золотым поясом.
Глава Его и волосы белы, как белая волна, как снег; и очи Его, как пламень
огненный.
И ноги Его подобны халколивану, как раскаленные в печи, и голос Его, как шум вод
многих.
Он держит в деснице Своей седм звезд, и из уст Его выходит острый с обеих сторон
меч, и лицо Его, как солнце, сияющее в силе своей.
И когда ты, русский народ, увидишь Его, то падешь к ногам Его, как мертвый. И Он
положит на тебя десницу Свою и скажет тебе: «Не бойся, Я есмь первый и последний,
и живый, и был мертв, и се жив во веки веков!»
Сорок два гвоздя – шило в мешке, свидетельство ран воскресных.
<1919>
САМОЦВЕТНАЯ КРОВЬ
Недостаточно откинуть ложную веру, т. е. ложное отношение к миру, нужно еще
установить истинное.
Лев Толстой
Ты светись, светись, Исусе, Ровно звезды в небесах, Ты восстани и воскресни Во
нетленных телесах.
Из песен русских хлыстов
Почитание нетленных мощей, составляющее глубокую духовную потребность
древних восточных народов, и неуследимыми руслами влившееся в греческую, потом и
в российскую Церковь, утратило в ней характер гробопоклонения, – обряда с
привкусом мясной лавки, отчего не могла быть свободна восточная чувственность, как
только встретилась с однородным учением «о нетленной мощи», которое, наперекор
тончайшим естественным наукам, маковым цветом искрится в нутрах у каждой
рязанской или олонецкой бабы. Что же это за нетленная мощь? На такой вопрос
каргопольская баба ответит следующее: «Мы (т. е. бабы, женщины, уж так мы
устроены) завсегда "в немощи", а в скиту "мощи", – приложися не к худу: – как в
жару вода». Если такой ответ переложить на пояснительный язык, то ус-лышится вот
что:
Три или четыре столетия тому назад, в известной среде жил человек, который
умственно был выше этой среды, был благ, утешен, мудр, обладал особым
могуществом в слове и всем своим существом производил впечатление рачительного
садовника в великом таинственном вертограде – мире, в жизни, в человечестве.
Умер сей человек и похоронен бренно. Но не умер его образ в сердцах
признательных братьев. Из поколения в поколение, в дремучих избах, в пахотных
невылазных упряжках, витает бархатная птица – нежная печаль об утрате. И чем
длительней и четче вереницы десятилетий, тем слаще и нестерпимее алчба заглянуть
Туда, Где Он. И вот:
Раступися, мать-сыра земля, Расколися, гробова доска, Развернися, золота парча,—
Ты повыстань, красно солнышко, Александр – свет-Ошевенския! Не шуми ты —
всепотемный бор. Не плещи, вода сугорная, И не жубруй, мала пташица. Не бодайся,
колос с колосом, Дым, застойся над хороминой: – Почивает Мощь нетленная В малом
древе кипарисноем, – Одеялышком прикутана, Чистым ладаном окурена: Лапотогное
берёстышко. Клюшка белая, волжоная...
Вот и всё наличие мощей, – берёстышко от лаптя да верхняя часть посоха,
украшенная резьбой из моржовой кости. Народ, умея чтить своего гения, поклоняясь
даже кусочку трости, некогда принадлежащей этому гению, никогда понятие о мощах
не связывал и не связывает с представлениями о них, как о трех или четырех пудах
93
человеческого мяса, не сгнившего в могиле. Дело не в мясе, а в той малой весточке
«оттуда», из-за порога могилы, которой мучались Толстой и Мечников, Менделеев и
Скрябин, и которой ищет, ждет, и – я знаю – дождется русский народ. Какую же
нечуткость проявляют те люди, которые разворачивают гробницы с останками просто
великих людей в народе! (Позднейшие злоупотребления казенной, никонианской
Церкви в этой области отвергнуты всенародной совестью, а потому никого и ни в чем
не убеждали и убеждать не могут.) Народ хорошо осведомлен о том, что «мощь»
человека выявлена в настоящий век особенно резко и губительно. Лучи радия и чудови-
ще-пушка, подъемный кран и говорящая машина – всё это лишь мощь уплотненна в
один какой-либо вид, ставшая определенной вещью и занявшая определенное место в
предметном мире, но без возможности чуда множественности и сознательной жизни,
без «купины», как, определяя такое состояние, говорят наши хлысты-бельцы. Вот
почему в роде человеческом не бывало и не будет случая, чтобы чьи-нибудь руки
возложили воздухи на пушечное рыло или затеплили медовую свечечку перед
гигантским, поражающим видимой мощью, подъемным краном.
По тому же нетленному закону, по какому звук-звон становится «малиновым», т. е. с
привкусом, ароматом и цветом малины, и порождает во внемлющем образ
златоствольного, если звук исшел из металла, и павлиньего, если звук вытек из
животных струн, полного гроздий сада, и человек преобразуется как в некое древо сада
невидимого, «да возрадуется пред ним вся древа дубравные», как поется в чине
Великого пострига.
Плод дерева-человека – «мощи», вызывающие в людях, животных и птицах
(медведь св. Серафима, рыбы и лебеди Франциска Ассизского) музыкальные образы,
по постригу «Великое ангельское воображение», и тем самым приводящие их «во врата
Его во исповедании, во дворе Его в пении». Виноградные люди существуют в мире
розно, в церквах и в кораблях обручно, в чем и сердце молитвы: «Призри с небеси и
виждь, и посети виноград сей, и соверши и его же посади десница Твоя». Отсюда и
«вино внутренне», «пивушко», сладость исповеди и обнажения:
«Како первое растлил еси девство свое, со отроки или с женами, или с девицами,
или с животными чистыми и нечистыми, не палил ли свещи на ядрах, калениема
железными, углием не сластил ли, бичеванием, распятием и прободением себя в ребра
– от ярости похот-ныя?..». Блажен, обладающий властью слова, которая не
побеждается и гробом: «Видяще мя мертва, любезно ныне целуйте, друзии любов-нии
и знаемии! Тем моление творяще: память совершайте ими, яко да покоит Господь дух
мой».
И память совершается, не осыпается краснейший виноград, благословенное древо
гробницы, хотя бы в ней обретались лишь стружки, гвозди, воск и пелены. Стружки с
гвоздями как знак труда и страстей Христовых; воск как обозначение чистоты плоти и
покрывала как символ тайны. Из алкания, подобного сему, спадает плод и с уст русских
революционеров:
Добрым нас словом помянет, К нам на могилу придет.
❖ ♦>❖
Если не прощается хула на Духа жизни, то не останется не отмщенной и поруганная
народная красота. Под игом татарского ясака, кровавой кобылы Биронов и Салтычих,
человекодавов и неусыпаю-щего червя из александровских «третьих отделений», народ
пронес неугасимым чисточетверговый огонек красоты, незримую для гордых взоров
свою индийскую культуру: великий покой египетского саркофага, кедровый аромат
халдейской курильницы, глубочайшие цветовые ощущения, претворение воздушных
сфер при звуке в плод, неодолимую силу колыбельной песни и тот мед внутренний,
вкусив которого просветлялись Толстые, и Петры Великие повелевали: «Не троньте
94
их». (Слова Петра о выгорецких олонецких спасальцах.) Тайная культура народа, о
которой на высоте своей учености и не подозревает наше так называемое общество, не
перестает излучаться и до сего часа. («Избяной рай» – величайшая тайна
эсотерического мужицкого ведения: печь – сердце избы, конек на кровле – знак все-
мирного пути.)
Одним из проявлений художественного гения народа было прекраснейшее действо
перенесения нетленных мощей, всенародная мистерия, пылинки которой, подобранные
Глинкой, Римским-Корсако-вым, Пушкиным, Достоевским, Есениным, Нестеровым,
Врубелем неувядаемо цветут в саду русского искусства. Дуновение вечности и
бессмертия, вот цель великого артиста, создавшего «Действо перенесения».
И если за поддельно умирающего в Борисе Годунове Шаляпина ученые люди
платят тысячи, то вполне понятны и те пресловутые копейки, которые с радостной
слезой отдает народ за «Огненное восхищение», за неописуемое зрелище перенесения
мощей, где тысячи артистов, где последняя корявая бабенка чувствует себя Комиссар-
жевской, рыдая и целуя землю в своей истинной артистической одержимости.
Направляя жало пулемета на жар-птицу, объявляя ее подлежащей уничтожению,
следует призадуматься над отысканием пути к созданию такого искусства, которое
могло бы утолить художественный голод дремучей, черносошной России.
Дело это великое, и тропинка к нему вьется окольно от народных домов,
кинематографов и тем более далеко обходит городскую выдумку – пролеткульты. А
пока жар-птица трепещет и бьется смертно, обливаясь самоцветной кровью, под
стальным глазом пулемета. Но для посвященного от народа известно, что Птица-
Красота – родная дочь древней Тайны, и что переживаемый русским народом на-
стоящий Железный Час – суть последний стёг чародейной иглы в перстах Скорбящей
Матери, сшивающей шапку-невидимку. Покрывало Глубины, да сокрыто будет им
сердце народное до новых времен и сроков, как некогда сокрыт был Град-Китеж
землей, воздухами и водами озера Светлояра.
(Из Золотого Письма Братьям-Коммунистам.)
ПОРВАННЫЙ НЕВОД
В проклятое царское время на каждом углу стоял фараон – детина из шестипудовых
кадровых унтеров, вооруженный саблей и тяжелым, особого вида револьвером, – а все-
таки девушек насиловали даже на улице. Оно, конечно, не так часто, но и нередко.
Черным осенним вечером из какого-нибудь гиблого переулка есть-есть и донесутся,
бывало, смертельные, обжигающие душу вопли.
Искушенный обыватель боязливо привертывал фитиль в запоздалой лампе и с
головой нырял в проспанное, пахнущее загаженной тумбой одеяло: «дескать, не мое
дело», «начальство больше нас знает».
А бравое начальство тем временем спокойно откатывалось на другой конец
квартала и сладострастно, во славу престола и отечества, загибало каналью-цигарку.
На фараонском языке вся Россия, весь белый свет прозывались канальей – вся
русская жизнь от цигарки до участка.
Положим, и сама русская жизни не шла дальше участка. – Все реки впадали в это
поганое, бездонное устье.
Раз во сто лет порождала русская земля чудо: являлись Пушкин, Толстой,
Достоевский – горящие ключи, чистые реки, которых не осиливало окаянное устье.
Мы живем водами этих рек.
Мы и наша революция.
Огненные глуби гениев слились с подземными истоками души народной. И шум
вод многих наполнил вселенную. Красный прибой праведного восстания смыл
95
чугунного фараона, прошиб медный лоб заспанного обывателя и отблеском розового
утра озарил гиблый переулок – бескрайнюю уездную Рассею.
Все мы свидетели Великого Преображения.
Мы с ревностным тщанием затаили в своих сердцах розовые пылинки Утра
революции.
Бережно, как бывало, Великочетверговую свечечку, проносим мы огонек нашей
веры в чистую, сверкающую маковой алостью, грядущую жизнь.
Розовая пылинка творит чудеса.
Тысячи русской молодежи умирают в неравной борьбе с лютым, закованным в
сталь – чудищем старым, мудрым, подавляющим своей мелинитной цивилизацией —
Западом.
Злой Черномор, Кощей бессмертный, чья жизнь за семью замками, в заклятом
ларце, потом в утке, после в яйце и, наконец, в игле, как говорится в олонецких сказках,
пьет нашу кровь, терзает тело, размалывает бронированными зубами наши кости.
Какое неодолимое мужество и волю непреклонную нужно носить в сердце, чтобы
не погибнуть напрасно, не потерять веры во Всемирное утро, не обронить, не погасить
в себе волшебную пылинку, порождающую в слабых дерзание мучеников, радостно
идущих в пасть львиную!
Рабоче-крестьянская власть носом слышит, что вся наша сила в малом, в зерне
горчичном, из которого вырастет могучее дерево жизни, справедливости и возможного
на земле человеческого счастья.
В братском попечении о чудесном зернышке Советская Россия покрывается
бесчисленными просветительными артелями, избами-читальнями, библиотеками, и
хотя несуразно названными, но долженствующими быть всех умственней
агитпросветами при коммунах и военных братствах.
Вся эта просветительная машина обходится народу в миллионы, и цель ее быть как
бы мехом, неустанно раздующим красный горн революции, ее огонь, святой мятеж и
дерзание.
Путь к подлинной коммунальной культуре лежит через огонь, через огненное
испытание, душевное распятие, погребение себя, ветхого и древнего, и через
воскресение нового разума, слышание и чувствования.
Почувствовать Пушкина хорошо, но познать великого народного поэта Сергея
Есенина и рабочего краснопевца Владимира Кириллова мы обязаны.
И так во всем.
От серой листовки до многоликой, слепящей оперы...
По какой-то свинячьей несправедливости Есенины и Кирилловы пухнут от голода,
вшивеют, не имея «смены» рубахи, в то время как у священного горна искусства и
юной красной культуры зачастую стоят болваны, тысячерублевые наймиты, всесветные
вояжёры, дельцы и головотяпы, у которых, как говорится, ноздря во всю спину.
Заплечные мастера Колчаки, Деникины и т. п., идущие с плетью и виселицей на
революцию, как на физическую силу, по глупости и невежеству ничего не могущие
обмозговать, окромя полка Иисуса, стократ менее вредны и опасны для духовных
корней Коммуны, чем люди с обрезанным сердцем, лишенные ощущения революции
как величайшей красоты, мировой мистерии, как возношения чаши с солнечной
кровью во здравие кровной связи и гармонии со всеми мирами.
Тоска народная по Матери-Красоте, а следовательно, и по истинной культуре,
сказывалась и сказывается многолико и многообразно.
Иконописные миры, где живет последний трепет серафимских воскрылий, волок,
преодолев который, человек становится космическим существом и надмирным
гражданином, внутренний гром елова – былинного, мысленного, моленного,
96
заклинательного, радель-ного и еще особого человеческого состояния, которое мужики-
хлысты зовут Рожеством ангелов – вот тайные, незримые для гордых взоров вехи,
ведущие Россию – в Белую Индию, в страну высочайшего и сейчас немыслимого
духовного могущества и духовной культуры. Вещественный узор Ангельского
рожества – совокупления с Богоматерью-девой – следующий: человек лежит где-
нибудь на солнопёке, среди бескрайних русских меж, можно бы сказать в тишине, если
бы не Внутреннее Ухо, в котором
...горний ангелов полет,
И гад морских подводный ход,
И дольней лозы прозябанье,
если бы не трубы солнечные, не мед из чрева девы – души мира, вкусив которого,
Адонайя (одно из бесчисленных имен человека) обуревается, что нередко, «накатом»,
на рассудочном же языке – особым, невыразимо блаженным, супротив телесного,
половым возбуждением, исход коего – рождение херувима и смерть.
Мертвые тела, причиняющие так много хлопот разному начальству, иногда
обретаемые на чародейных русских проселках, на лесных луговинах, обыкновенно под








