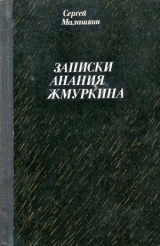
Текст книги "Записки Анания Жмуркина"
Автор книги: Ника Бойко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 27 страниц)
Часть вторая
ПО ТУ СТОРОНУ ДВИНСКА
I
Солнце село, его темно-красные лучи рдели на небосклоне, окрашивая надвигающиеся синеватые сумерки; трава и листья на деревьях потемнели; по берегам реки, на заливном лугу, пестревшем цветами, поднимались клочья бледно-молочного тумана; там в лозиннике и в кустах осинника робко пели соловьи. Я стоял у крыльца деревянного домика и глядел на улицу, на сестру, высокую и довольно красивую женщину, – она совершенно не была похожа на меня, говорят, она вылитая бабушка моего отца, черноволосая, кареглазая, с правильными чертами лица. Детей у сестры не было, и это делало ее лицо печальным, мечтательно тоскующим. Она, в сереньком ситцевом платье и с черными волосами, заплетенными по-девичьи в толстую косу, щипала перья с петуха, из шеи которого, как бусинки, падали на подорожник капли темной крови и рдели на нем: этим петухом она решила угостить меня. Евстигней, сосед ее, только что приехал с поля, не успел отпрячь мерина из сохи (окучивал картофель), как, запыхавшись, подбежала жена и, не дойдя несколько шагов до него, торопливо затрещала:
– Приходил староста, приказал никуда не отлучаться: твой год призывают.
– Призывают? – спросил Евстигней удивленно, опустил безнадежно руки и уронил повод.
– Да, – ответила она грустно и часто заморгала воспаленными веками, – завтра ехать надо на прием.
Он посмотрел на жену: она ничего – не плачет, только часто хлопает веками.
– Меня, наверно, не возьмут, – возразил он и пошел было к лошади, которая, повернувшись к нему костлявым сивым задом, отошла от него и, волоча соху, жадно грызла остарковый подорожник.
– Это почему тебя не возьмут? – дернулась женщина. – Разве ты хуже людей, которых взяли?
Он остановился, тупо и длинно поглядел на жену: она стояла высокая, сухая и смуглая, обожженная в жизни горем и бедностью.
– Ну да, не возьмут, – добавил он и тут же, глядя на нее, тихо сказал: – А не зря тебя, Матрена, прозвали на селе «Рогылем».
Матрена, как заметил я, не расслышала его последних слов, а возможно, услыхав, пропустила мимо ушей, промолчала.
– Тебе, знать, хочется, чтобы забрили меня на фронт, а?
Женщина как-то испуганно округлила глаза на мужа, потом, вздохнув, выпалила:
– Что ж тут, мужик, особенного: все служат – и тебе можно послужить, авось бог не без милости, да и тринадцать рублей на полу не валяются, пригодятся для нашей бедности.
Евстигней ничего не сказал, подошел к мерину, отпряг его, затем спутал, чтобы не ушел далеко, и пустил гулять на выгон – пусть подкормится до ночного травкой, – а сам, не глядя на жену, направился в избу.
– Служить так служить, да и баба этого хочет, – сказал он, обращаясь больше ко мне, чем к своей супруге. – А главное – будут за меня платить ей. Ананий Андреевич, зайди на часок, – пригласил он меня.
Я не отказался от его приглашения. Следом за нами в избу вкатилась и Матрена, стала суетиться по избе. А через каких-нибудь часа полтора на коник, под святой угол, была выдвинута опарница с поставленным тестом, а на столе раскатывался холст, резался ножницами на портянки, полотенца и на другие необходимые вещи. Евстигней сидел на конике и, привалившись к стене, молча наблюдал за суетой жены и необыкновенно удивлялся тому, что он ее такою суетливой до этого ни разу не видел.
– Откуда это у тебя взялось столько прыти? – спросил он.
– Это все тебе на дорогу, Евстигней, – заметив удивленный взгляд мужа на себе, ответила она и фальшиво улыбнулась печальным лицом.
– Рогыль, – бросил он себе под нос и отвернулся: ему в этот миг хотелось, как почувствовал я по выражению его лица, подойти к ней, дать ей по уху хорошего леща, но этого не сделал не потому, что я сидел подле него, не сделал по очень простой причине: она недурно и сама сдавала сдачу; зная это, ее муж, человек робкий, хотя и был высоченного роста, решил лучше не связываться с ней, а выйти на улицу, что он благоразумно и сделал. – Айда, Ананий Андреевич, на свежий воздух, – предложил он. – Там и мухи не кусают, как в избе!
Мы вышли. На улице поговорили с мужиками, стоявшими у амбара Челединцева, но недолго: вышла Матрена и позвала ужинать Евстигнея.
– Собирай! – крикнул он. – Соберешь – подойду!
Матрена накрыла столешником каменную круглую плиту, заменявшую стол, положила краюшку черного хлеба, поставила глиняное блюдо с гречневой крутой кашей и махотку с молоком. Евстигней и я отошли от амбара; Евстигней сел ужинать, а я присел на ступеньку крыльца: от ужина отказался. Матрена язвительно заметила:
– Что ты, мужик, сажаешь Анания Андреевича за черную кашу, когда для него сестра лучшего петуха зарезала, жарить собирается? Вот завтра на блины пригласи его.
Семья Евстигнея ужинала молча, так, что было слышно, как чавкали рты, как шипела лампа и жужжали мухи над столом. Матрена не ужинала – все суетилась. Ребята наелись и пошли спать в сарай, а старший сын, Тимошка, поехал в ночное. Раньше, чем пойти за мерином, он остановился и, перекрестившись на темный восток, где уже начали прорезаться редкие звезды, недовольно спросил:
– На своем поедем?
– На мерине, – не глядя на сына, бросил Евстигней.
– Я знаю, что на мерине, – огрызнулся непочтительно Тимошка. – Я спрашиваю, на своем?
– А ты, хозяин, думал, на чужом?
– Что ж своего гонять, – подчеркнул хозяйственно и рывком парень и собрался уходить.
– На своем поеду! – крикнул отец ему в спину, когда он переходил через дорогу, направляясь к смутно черневшему в густеющих сумерках мерину. – На своем в последний раз по-хозяйски желаю прокатиться до города!
Тимошка ничего не ответил; даже, негодный, не оглянулся.
Евстигней все еще сидел за столом. Потом, позевывая, привалился к углу крыльца и стал об него чесаться спиной. На грубом и костлявом лице его появилось выражение удовольствия, но это удовольствие, получаемое им от почесывания спины об угол крыльца, прекратила Матрена, позвав:
– Давай, мужик, ложиться. Поспим последнюю ночку… – и показала лицо в окне, лучи вечерней зари красно отразились на нем, в ее сонно-мечтательных глазах.
– Почему последнюю? – спросил порывисто Евстигней.
– А потому, – ответила Матрена, позевывая, – тебя обязательно заберут.
Евстигней ничего не возразил ей, а только опять буркнул:
– Рогыль! – Он поднялся и прошел в избу.
Матрена шумно закрыла окошко. От амбара Челединцева мужики давно разошлись по домам. На конце села, налево от избы сестры и Евстигнея, звонко и зло брехала собака. С четким топотом пронеслись парнишки на лошадях в ночное. На меня пахнуло лошадиным запахом, острым и приятным так, что я чихнул. Заря дотлевала, бледнея. Соловьи то отрывисто цокали, то протяжно и нежно свистели. Сестра ощипала петуха и возилась у печки, гремя рогачом и чугунками. Я отправился в сарай, стоявший в двадцати – тридцати шагах от избы, лег в сани, наполненные пахучим сеном, и заснул.
Когда я вышел из сарая, солнце поднялось и весело, красно-золотистое, сияло и грело; Евстигней, довольный и добродушный, с улыбающимся лицом смазывал дегтем оси и втулки колес. Заметив меня, он сплюнул, и лицо его еще больше заулыбалось.
– Вы что-то веселы, сосед? – спросил я.
Евстигней сунул помазок в баклажку с дегтем, поставил колесо на место, воткнул чеку, шагнул ко мне и, косясь взглядом на крыльцо и на открытые окна своей избы, смущенно пооткровенничал со мной.
– Угадали, Ананий Андреевич, я весел нынче, хотя и не выспался, – проговорил Евстигней.
– Что так? Почему?
– Жена живет со мной как кошка с собакой. А живет так потому, что со богатый папенька отдал насильно за меня: выдал только потому, что она была брюхата… Тимошка-то, как вы знаете, не мой сын.
– Не знаю, – признался я. – Это я впервые слышу от вас.
– Верю вам, Ананий Андреевич! Да и где вам знать об этом, когда вы и в селе-то почти не бываете. А если вас и занесет каким-нибудь случайным ветром в него, так ненадолго! Матрена не особенно ублажала меня своими ласками… словом, жили как чужие, хотя и спали в одной постели. А если и было у меня с нею сближение, то это сближение приходилось мне брать бранью или побоями. Чтобы не скандалить в ночное время, не будить детей и соседей, она, скрипя зубами, отдавалась мне… Словом, не жил с нею по-человечески, как живут другие, а маялся, как грешник в аду. А нынче у нас как-то странно получилось… – И Евстигней с такой нежностью рассказал о ласках жены, от которых он не мог заснуть до самого восхода солнца. – Откуда у нее взялась такая ласка ко мне? Ну прямо палила огнем! Ну и баба, черт бы ее побрал! – проговорил он взволнованно. – «Вот если бы ты, Матрена, всегда такой была ко мне, как вот теперича, как бы я был доволен тобою!» Слышу, она что-то прошипела, гмыкнула, затем сказала, прижимаясь ко мне: «Четвертого, Евстигней, после этой ноченьки понесу, и казна будет мне платить тринадцать целковых солдатских в месяц». Я собрался спросить у нее: «Откуда у тебя, Матрена, такая лютая жадность к деньгам?» – но она так обняла меня, что я потерял дар речи. Только недавно вырвался от Матрены, – закончил Евстигней свой рассказ, бросился к телеге и начал смазывать дегтем остальные оси и втулки колес.
Я стоял и удивленно смотрел на него: он работал и загадочно улыбался. Мне казалось, что внутри него все цвело и пело и Матрена, костлявый Рогыль, как он называл ее, была ему мила и дорога как никогда. Заметив, что я неподвижно стою и пристально гляжу на него, он насторожился и, выпрямляясь над обнаженной от колеса осью, золотисто-черной от дегтя, и откинув в сторону помазок, с которого капали янтарно-черные капли дегтя, беспокойно спросил:
– Ананий Андреевич, неужели меня убьют немцы на войне? – И, не дожидаясь моего ответа, возразил решительно себе: – Нет, этого не может быть! Не всякого же убивают там!
Я ничего не сказал ему, но болезненно вздрогнул от его слов.
II
Весь день провел среди родственников, пришедших повидаться и попрощаться со мной. Сестра где-то для такого большого случая раздобыла три бутылки мутного, но крепкого самогона, принесла к нему из подвала моченых яблок – антоновки, блюдо белой, как сахар, шинкованной квашеной капусты. Подав все это на стол, она приветливо пригласила гостей выпить и покушать; затем, когда они чинно уселись вокруг стола, сестра обратилась ко мне:
– Братец, займи место хозяина – угощай! – и вышла на кухоньку, принялась там что-то делать.
Я не отказался от такой роли, взял граненый чайный стакан и, то и дело наполняя его остро пахнущим спиртом, стал по очереди угощать родственников, которых я давно не видел. Первый гость, дядя мужа моей сестры, уже пожилой человек с тоненькой сивой бороденкой и узкими, как у лисы, табачного цвета глазками, сидевший в том месте, над которым должно взойти солнце, предложил мне первому выпить, сказав:
– Потчую хозяина. Выпейте, Ананий Андреевич, первую чарку, а потом уж и мы не откажемся за ваше здоровье.
Я, конечно, не отказался – выпил и сразу, признаюсь, обалдел от чайного стакана самогона, словно меня обухом топора ударили по башке, и я, с помутневшим взглядом и едва держась (угощал стоя гостей, по крестьянскому обычаю) на ногах, с трудом начал подносить стакан со спиртом до каждого родственника. Моя рука тряслась, спирт расплескивался, в моих глазах лица гостей двоились, сливались в одно лицо, потом опять отделялись друг от друга, желтели и серебрились бородами, словно я видел не бородатые лица, а лохматую пелену соломенной крыши, поблескивали ярко и насмешливо взглядами.
Словом, черт знает что представлялось мне.
В это время вышла сестра из кухни и, увидав меня, непривычного к водке, сильно пьяным, взяла под руку и, поддерживая плечом, чтобы я не упал, провела через сенцы в амбарчик и уложила на кровать. Я покорно подчинился ей. В первые минуты я слышал пьяный гул говора, звяканье стаканов, доносившиеся из избы, потом все это оборвалось, наступила тишина, и я куда-то внезапно провалился; проваливаясь, я увидал мельком серую лохматую собаку; она, поглядев удивленно печальными круглыми глазами на меня, тявкнула и пропала. Проснулся я с тяжелой головой, с припухшими веками, мешающими смотреть, с тупой болью в пояснице и в животе.
Рру-у! Рру-у! – трещало в ушах.
Утро было до того прекрасно и благодатно, что все оно было полно радости и жизни: на выгоне на подорожнике бисером горела роса, шел от росы прозрачный, как кисея, дымок, кружились желтые бабочки, гудели на липах пчелы, скрипели ворота, мычали телята, смачно кричали грудные дети, солидно басили старухи, гремели чугунами, а по берегам Красивой Мечи, как и вчера в эту пору, в кустах дубняка, лозинника, насвистывая, щелкали, трещали соловьи, а щелкали и трещали они, надо сказать, так замечательно, что в этот день, полный горя и тоски, их звуки как бы намеревались перевернуть душу во мне. Я долго бы простоял у крыльца, долго бы любовался благодатным утром; если бы не окликнул меня Евстигней.
– Проснулись, Ананий Андреевич, вот и славно! С добрым утречком! Прошу ко мне в гости – кушать блины! Хозяйка ужо начала печь их! – Евстигней сошел с своего ветхого крылечка и приблизился ко мне. – Вчера я был у вашей сестры в гостях… Пожаловал, а вас нет за столом. Анна Андреевна сказала, что вы, не зная убойную силу первача, скапутились в один минт, как пьяницы говорят, с катушек! Ну, и я, доложу вам, назюкался превосходно, что, ввалившись домой, не узнал своей Матрены, несмотря на то, что она с коломенскую версту, ни с одной бабой нельзя ее спутать… Да, да! Я не узнал! Идемте, Ананий Андреевич, на блины! – сердечно и дружески повторил Евстигней.
Я стал отказываться, благодарить соседа, но он, ужасно выкатив глаза, обиделся и громко заговорил:
– Ка-ак? Не хотите отведать у меня, Евстигнея, блинов? Не пойдете – смертельного врага наживете во мне! Это факт! Брезгуете, может быть, своим соседом, а? Думаете, как это вы, интеллигент-студент, пойдете к мужику есть блины и выпивать с ним из одного стакана! Нехорошо, нехорошо, соседушка! Идемте – и никаких! Интеллигенты, вышедшие из мужиков, не должны нас, мужиков, по-барски хлопать рукой по плечу, свысока говорить: «Мы за вас, мы с вами, мы наделим вас землицей; мы дадим вам свободу, равенство и братство». Да пошли такие интеллигенты из бар к чертовой матери!
Я возразил:
– Немало интеллигентов, вышедших из дворян и разночинцев, хороших, которые не хлопают мужиков и рабочих по плечу, не разговаривают свысока с ними, а ведут себя с мужиками и рабочими как равные с равными.
– Прекрасно и это знаем, – не оглядываясь на меня, проговорил Евстигней. – Да и слышал об этом от своего старшего братца, проживающего в Питере. Таким мы верим!
Я улыбнулся и, несмотря на чертовский шум в голове и ломоту в пояснице от выпитого вчера самогона-первача, последовал за Евстигнеем.
На крылечко мы поднялись вместе, и он, довольный тем, что я не отстал от него, иду в гости – на блины к нему, слегка поддерживал меня под локоть левой руки. В сенцах нас встретила Матрена, сказала:
– Я шла за вами. Завтрак готов!
Мы вошли в избу, густо звеневшую мухами, и только что было собрались помолиться на божницу и залезть (помолиться хотел Евстигней, а не я; я просто стоял подле него перед божницей, блестевшей окладами образов) за стол, как в избу с шумом вошел Лаврентий, брат Власа, и, размахивая неуклюже руками и дергая большими рыжими усами, захрипел:
Голова ты моя, голова,
До чего ты меня довела!
– До хорошего не доведет тебя твоя голова, – огрызнулась от печки Матрена. – Где это ты, сваток, так рано насосался? Петухи последние только что пропели, а ты уже пьян как стелька!
– Матрена, молчи, а то я не посмотрю, что ты мне родня, сестра жене моего брата, – дернулся Лаврентий, но, не дойдя до нее, вытянул жилистую руку и погрозил пальцем. – Я тебе покажу!
– Покажешь? Много вас, таких зюзей, найдется показывать! Налакался! Молчал бы, огломон, лучше, а то… «покажу», «покажу»! – затрещала обиженно и вызывающе Матрена от печки.
Лаврентий махнул добродушно на Матрену рукой, повернулся к ней спиной и раскатисто засмеялся.
– Блины?! – воскликнул он. – Что ж, покушаем блинков!
– Блины, – ответил Евстигней и предложил ему позавтракать.
Тот не торопясь сел, пожевал губами, отчего рыжие усы неуклюже затопорщились по сторонам, посмотрел на блины, подумал, потом быстро, как ужаленный, вскочил, ударил кулаком по столу, да так, что тарелка со стопочкой жирно намасленных блинов подпрыгнула, разрезанные блины накренились набок и одна четвертушка отвалилась и упала с тарелки на скатерть.
– К черту! к черту твои, Матрешка, блины! К черту! – И он еще раз ударил кулаком по столу – развалились и остальные четвертушки. – Самогону, чтобы свата и мужа проводить честь честью, чтобы подметки затрещали, не постаралась наварить, а только, чертовка, блинами… Да я, ежели бы был твой муж, показал бы тебе, как надо уважать мужа. Я б тебе… Наверное, не дождешься, как мужа забреют, а?
Женщина рванулась от печки, выгнула туловище и, заложив одну руку за спину, а другой тыча вперед, пронзительно закричала:
– Ах ты рыжий черт! Как ты смеешь мне говорить такие вещи, чтобы я своего мужа…
Лаврентий стоял с широко открытым ртом, с растопыренными и поднятыми к самому носу усами, смотрел застывшим взглядом на жену Евстигнея, который смущенно слушал их перебранку и молчал, кидая взгляды то на меня, то на Лаврентия, своего дружка. Женщина, задетая за живое правдой, исходила в ругани, брызгала слюной, прыгала около печки.
– Пойдем, – взмахнув рукой, предложил Лаврентий, схватил Евстигнея под руку и силой вытащил из-за стола.
– Это куда, сват, его тащишь, а? – метнулась за нами Матрена.
Лаврентий, не обращая никакого внимания на нее, ржал над моей головой:
– Эх, Ананий Андреевич, социалист ты наш праведный, какой у меня самогон! У-ух – держи только ноги, а то разбегутся! Первяк, ей-богу, первяк! Братец, Влас Тимофеевич, постарался, не поскупился: из гнилой ржи выгнал! Иди, говорит, родину защищай, чтоб, говорит, немец поганый не опакостил православную землю. Да, Ананий Андреевич, брат-то у меня умница, – об этом вам и Матрена скажет. Верно, что ли? – обратился он к ней.
– Конешно, не в тебя, повеса.
– Конешно, – передразнил Лаврентий и, освободив руку Евстигнея, остановился на пороге, повернулся назад и как-то странно посмотрел на своего друга; потом, подняв руку, хладнокровно погрозил: – Полдома муженек твоей сестры хочет прибрать к рукам. А когда меня убьют, весь дом хапанет!
– Ах ты! – крикнула азартно Матрена. – Ты наживал полдома-то, а?!
Лаврентий повернулся к ней спиной и, взяв снова Евстигнея под руку и подталкивая вперед, заорал:
– Голова ты моя, голова, до чего ты меня довела!
III
Вошли в избу свояка Евстигнея; жена свояка с кочергой стояла у печки, горевшей желтым пламенем; его отражения розово трепетали на белесом платье женщины и клочьями на деревянной стене. Сестры, жены Евстигнея и Власа, были нисколько не похожи друг на друга. Одна была длинная, костлявая, с тонким, похожим на челнок, лицом, но с довольно большой луковицей носа, на переносице которого были посеяны конопушки, так что за рост ее, за лицо прозвали Рогылем, и это прозвище так и осталось до сего времени. Другая, это сестра-то ее, была совсем не похожа на Матрену: она была небольшого роста, разве чуть-чуть побольше своего мужа, лицо имела необыкновенно круглое, и на этом лице ничего замечательного не было, кроме пуговки носа с розовым пятнышком да безбровых глаз, которые неприятно синели.
Не успели мы путно ввалиться в избу, навстречу нам Влас, брат Лаврентия, круглоплечий, с отвислым брюшком.
– А-а-а, дорогому моему своячку Евстигнею почтенье от любезного своячка Власа Тимофеевича! Почтеньице и вам, Ананий Андреевич: когда изволили пожаловать в наше захолустье? – И, отвернувшись от меня, не дожидаясь моего ответа и жирный отставляя зад с широкими тяжелыми портками, выкрикнул с фальшивыми нотками в голосе: – Мое нижайшее! – и выкинул из-за спины грязную четвертную с желтоватой жидкостью.
– Жарь, братенек, жарь! Говори, распинайся сладким своим сердцем. Стелись, стелись перед братцем и его друзьями скатертью хлебосольной. Не жалей самогона! Ставь на стол! – ржал Лаврентий, толкая меня на коник, в вышки, под святой угол, облепленный газетной бумагой и украшенный бумажными цветами. – Жарь, братенек! Жарь! Разливайся медом перед своим братцем. Да-да! Убьют его – в убытке не будешь!
– Спаси господи! Что ты, меньшой, говоришь! – буркнул Влас и хихикнул обидчиво.
– Жаль, Влас Тимофеевич! – хохотнул зло Лаврентий. – А если ты обидишь мою подружку, невенчанную со мной, с фронта убегу и рассчитаюсь с тобой. Помни, я ей бумагу выдал на свою половину имущества… – Усаживаясь рядом со мной, крикнул сурово Лаврентий: – Вот так! Что воззрился на меня, браток? Аль недовольны на бумагу, что выдал?
– Нет, я, Лавруша, ничего, – процедил сквозь зубы Влас.
– Если, говоришь, ничего, так не станем толковать о хозяйстве. Довольно! Ставь четвертную на стол! Не держи ее за спиной, как камень! А ты, – обратился он к снохе, – все калачи на стол мечи, да живо! Эх, голова ты моя, голова, до чего ты меня довела! – пропел он хриповато. – Ананий Андреевич, вы не знаете, какая сила скрыта в этой вот моей груди, да-да, славный вы человек! Силы – во, а я, верзила необтесанный, раб братца Власа, не знаю, куда ее направить, не знаю, как поступить с нею. Лежит она в груди моей как клад!
Я промолчал, невольно вспомнил плач и слова Серафимы Васильевны Череминой, подумал про себя:
«И она откроет свою силу в себе; откроет свою силу и Лаврентий, если перестанет пьянствовать».
– Ну и весел у меня Лаврентий, – жалобно протянул Влас – И свою подружку, уходя защищать животом своим и кровью Россию, не позабыл. Ну как, Ананий Андреевич, не любить мне такого брата, а? А подружка его живет в городе, зовут ее Симочкой.
– Замолчи! – взревел Лаврентий, наливаясь кровью. – Будешь говорить о ней – возьму вот стол и прикрою им тебя так, что не в жисть не выползешь из-под него!
– Хе-хе! – побледнев, рассмеялся Влас. – Люблю братца за такой веселый характер!
Я промолчал, присматривался к братьям, так не похожим друг на друга, думал о том, неужели Серафима, еще почти подросток, влюбилась в этого рыжеватого Лаврентия, который старше ее на пятнадцать лет. «Где же это они повстречались?» – спросил я у себя и, не ответив на вопрос, задумался над тем, почему я, непьющий, хожу по гостям, пью наравне с лихо пьющими самогон. «А как не пить, как не ходить в гости, когда угощают и зазывают, – проговорил я. – Не пойду в гости, скажут: зазнался Жмуркин, от своего брата, мужика, отстранился, нет, он, Жмуркин, не социалист, а просто блажь господскую на себя напускает, гордится ею перед мужиком».
Я улыбнулся, повеселел.
Желтоватая жидкость, в которой играло солнце, светившее в открытое окно, стала похожа на лошадиную мочу и приковала взгляд Лаврентия.
Влас первый поднял свой стакан и плавно, на уровне подбородка, пронес его и задержал у своего рта, раскрыл пухлые красные губы, взглянул желтыми глазами на меня и на Евстигнея, потом на божницу, крякнул, как будто подмигнул троеручной божьей матери и трем десяткам угодников: смотрите, мол, и вас не забываю, и вы, святые, не забывайте меня, Власа, – и, закатывая под крутой лоб глаза и опрокидывая стакан в широко открытый рот, проговорил:
– За ваше здоровье, желаю вам вернуться с поля брани в полном здоровье и со славой.
– А ты, брат, не рассусоливайся, а пей скорей! – крякнул Лаврентий.
Влас быстро опростал стакан, вытер жирные губы и широкую, черную, как вороново крыло, бороду, потом сыто икнул раза три и стал наполнять стакан.
Самогон, отдавая прелой рожью, резким запахом разлился по избе. Стакан снова на уровне подбородка Власа поплыл через стол ко мне, а когда он доплыл до моего лица, я попотчевал его жену, совой выглядывавшую с порога кухни. Она, не выпуская кочерги, подошла к столу, взяла стакан, взглянула синими желудями глаз на божницу, перекрестилась и, пожелав нам то же, что и муж ее, Влас Тимофеевич, припала губами к стакану, а когда отнесла от губ, Лаврентий заметил:
– А ты что это, Арина, губки только намочила, а?
– Что ты, что ты, братенек, я как следует пригубила, разве не видишь, я, можно сказать, полстакана выпила, – покраснев, возразила Арина и хотела было поставить стакан на край стола.
– Мы этого не желаем! – прохрипел Лаврентий и замахал руками. – Мы этого, понимаешь, не желаем, а ты, Арина, должна для любезного моего друга Анания Андреевича и за всех нас, идущих воевать с немцами, все выпить, обязательно все, расшибиться, да выпить, поняла?
Арина, чтобы Лаврентий замолчал, потянулась к стакану и залпом, по-мужичьи, опростала его, потом потянулась за куском ветчины.
Дернув стакан самогона, она совсем стала похожа на сову: ее глаза округлились на сероватом круглом лице, зло и подозрительно засверкали.
– Вот это дело, – похвалил Лаврентий и подмигнул мне: – Люблю за такую ухватку.
Лаврентий держал свой стакан в руке, словно взвешивая. Вдруг ни с того ни с сего буркнул:
– Будь здоров, Влас Тимофеевич. Не гори, брат, на огне, не тони на воде! Жми и дави бедняков… поправляй хозяйство, а я пойду за тебя воевать… за твое паучье гнездо! – Выпил залпом и подбросил кверху стакан.
– А на-ка, братенек, еще один, – скрипя зубами, проскрежетал Влас и, не подав его брату, запустил неожиданно, с дикой яростью в себя, чтобы подавить в себе поднявшийся гнев к нему. – Все это ты, Лаврушка, говоришь несуразное потому, что мы с тобой от разных матерей. Ты родился от святой кликуши, которую справедливыми побоями наш родитель, пошли ему господь царствие небесное, поторопил отправиться на тот свет, а я родился от хозяйственной женщины, умершей родами. Вот у нас, братенек, и разные пути. Ты у меня лебедь, рвешься в облака, а я, как трудолюбивый жук, ползу по земле. – Проговорив такую фразу, Влас совсем рассолодел от двух стаканов спирта, тяжело двигался на коротких толстых ногах около стола, и кровь густо прилила к его лицу, отчего крепко налитое лицо было готово лопнуть, пролиться густым соком на белую посконную скатерть. – Уважаю я, братенек, того, кто идет царя и Россию от врага грудью своею защищать, – и он, держа в левой руке четвертную, показал правой на горло, – вот как уважаю!
– Мать мою, братенек, не смей трогать, а то… Она истинно была праведной. Да и о пути моем – не заговаривай. Не только ты, Влас Тимофеевич, не можешь видеть его, а и я не могу предугадать его в своей жизни. Может быть, я на войне сквозь смерть людей, потоки крови и сквозь огненное полымя увижу его, а может, и не увижу. Так-то вот, братенек! Больше ни слова! Довольно! – И Лаврентий, положив голову на стол, заорал, не слушая злых, слезоточивых слов брата:
Голова ты моя, голова,
До чего ты меня довела!
После третьего стакана в избу вкатилась и жена Евстигнея.
– Гуляешь! – взмахнула она руками. – Ты погляди, дьявол, на кого ты стал похож-то, а?
Евстигней медленно поднял голову, так же медленно повернул ее в сторону жены, пожевал губами и ничего не сказал ей. Вскинул лицо и Лаврентий на нее, крикнул насмешливо:
– Ты что расставила подсошки-то, жеребец проскочит!
– Небось, не проскочит, – огрызнулась растерянно Матрена и подобрала ноги, потом ближе пододвинулась к столу, а через несколько минут села на краешек коника. – Ну что же, Влас Тимофеевич, не угощаешь? – Тот, покачиваясь и тяжело сопя, поднял четвертную и налил стакан. Матрена, не вставая с коника, взяла стакан, перекрестилась, не торопясь выпила и взяла кусок ветчины, а когда прожевала, обратилась умильным и полным жалобы голоском к Власу: – Горе-то у нас одно с тобой!
– Одно, одно, – подхватил Влас и заплакал. – Я его, Лаврентия-то, как родного сына, люблю, ежели не крепче. А впрочем, что мне родной сын-то – горе одно да непочтенье!
В помещение вошли родственники, соседи, а через каких-нибудь полчаса изба была полна гостей и ребятишек. Влас лениво, раскачиваясь во все стороны, сходил в горницу, принес оттуда другую четвертную, и стакан снова стал совершать свое путешествие «по заходу солнца», начиная с жены Евстигнея. От такого почета она была довольна, рада, и ее длинное лицо стало зловеще багровым, в глазах появились слезинки. То же самое было и с другими бабами.
– Ты бы хоть поголосила, – покачав головой, сокрушенно предложила одна старушка жене Евстигнея и вытерла углом казинетовой шали выцветшие, похожие на цвет пивной бутылки глаза. – Раньше-то мы, бывало, как плакали, любо поглядеть, заслушаться было можно, а нынче совсем разучились.
Все сочувственно и признательно закивали головами.
– Не пройдет, пожалуй, полгода, как война и всех мужиков повыскребет из села, – ввернула молоденькая, в красном платье женщина и шумно вздохнула. – Моего вот убили, а где я теперича найду для себя другого!
– Да что, Фекла, и говорить! Будешь днем и ночью искать и не найдешь! – поддержали сочувственно женщины Феклу и призадумались.
Влас окончательно запьянел, расплакался. Матрена и его жена бросились утешать его.
– А ты, мужик, не плачь: не наши одни, а все идут, и все живы, да еще деньги за них гребут, да еще какие. А убитых из нашей деревни почти никого нет, только Артемка рябой, супруг Феклы, да еще двое; да, говорят, один без вести пропал. Но по рябому Артемке кто будет, кроме Феклы, плакать и убиваться: его на деревне у нас никто и за мужика-то не считал и не считает, а все говорят: туда ему и дорога, непутевому. Да и убит вправду ли он? Это тоже вопрос! Даже урядник, на что человек хороший и начальство серьезное, и то надысь подъезжал к его избе, выкликнул солдатку и говорит ей: «А твой рябой-то в плен сбежал, а поэтому мы тебе денег платить не будем». А она, бедная, как пустится в голос – да в ноги уряднику. «Я, говорит, ваше благородие, и жить только стала с детишками на эти деньги, только-только, говорит, свет в окошке увидела, а вы меня с сиротами лишить пособия хотите. Не берите, говорит, на себя этого греха, а мужик, говорит, мой обязательно окажется».
– Брешешь ты, Матрена! – крикнула Фекла. – Ничего я такого не говорила уряднику! Мне муж нужен, а не деньги! Я не такая кочерга жадная, как ты!
– Как ты, несчастная и зловредная, смеешь так разговаривать со много! Ух ты, нищета коростовая…
Наступила неприятная тишина; в ней остро воняло самогоном и жареной свининой, мухами, густо звеневшими над столом и под потолком.
– Да что, бабоньки, и говорить-то, теперича солдаткам житье, – нарушила ехидно молчание пожилая женщина из-за спин стоявших перед нею. – Раньше-то, бывало, они, бедные, полушки медной от мужей не увидят, а теперича десятками гребут, а то и больше, – пояснила она с еще большим ехидством и шагнула вперед, шаря прищуренными глазами хозяина. – Влас Тимофеевич, попотчуй первачом, ежели не жалко!





