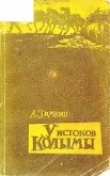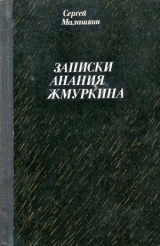
Текст книги "Записки Анания Жмуркина"
Автор книги: Ника Бойко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 27 страниц)
– Безбожник. Сатана. За такие стихи надо повесить тебя, – прохрипел в тишине голос раненого, лежавшего против Игната. – Как придет врач, так я и доложу ему.
– Монашек, не пугай, – посоветовал Семен Федорович. – Мы пережили страшнее… А самое страшное у нас еще впереди. И самое страшное, монашек, – это наша жизнь. Господи, – всхлипнул Семен Федорович, – ужасть как чешется пятка, а хочу почесать – прикоснуться к ней, а ее и нету. – И он заплакал.
Игнат хрипло рассмеялся. Потом, перестав смеяться, равнодушно, без злобы и раздражения, пояснил:
– Гаврюша, лучше сатаной быть, чем последним червем у твоего бога.
Монашек закашлялся, и под ним заскрипели пружины.
– Не сердись, Игнат, – сказал раненый, что лежал в другом конце вагона, – поэма твоя – дрянь. Ты читал ее больше получаса… а я ничего не запомнил из нее. Пушкин восемьдесят девять лет тому назад эту тему изобразил двумя строчками и поразительно верно и точно. Вот послушай. – И он торжественно произнес стихи Пушкина:
На всех стихиях человек
Тиран, предатель или узник.
Раненый вздохнул и, подумав, добавил!
– Так было, так есть, так и будет.
– Нет, не будет, – возразил твердо Игнат. – Пушкин неправ. Узник победит… и тиранов и предателей не будет на земле.
– О, так ли? Молод, вот и веришь в двуногого!
Ответ Игната понравился мне. Если бы я мог пошевельнуть языком, я нарушил бы свое решение – не хвалить и не хулить никого, – похвалил бы Игната за его веру в узника.
– Братцы, – вскрикнул раненый, лежавший на другой стороне, против Семена Федоровича, – на койке мертвец! Он глядит на меня, смеется, а на правом зрачке у него муха. Я не могу, не могу лежать рядом…
– Братец, не кричи, – пискнул монашек. – Положи ему на лицо подушку: белый цвет наволочки нежен. Он даст успокоенье твоей душе.
Монашек вздохнул и стал шептать молитву:
– «Во имя отца и сына и святого духа…»
Семен Федорович безутешно плакал.
IV
Поезд стоял, когда я открыл глаза. Дверь распахнута. В вагоне серый свет утра. Тишина. То близко, то далеко раздавались слова людей, тонкие и толстые, нежные и грубые, свистки паровозов, изредка поднимался, как приглушенный вздох, шум города. Раненые – на койках. Одни тихо, напоминая обиженных псов, стонали; другие молчали, как камни, и провалившимися глазами смотрели в низкий потолок; третьи еще не вернулись из небытия – находились в беспамятстве. Я позавидовал последним, что они ничего не видят, ничего не слышат, а главное – не ощущают своими телами мира, его дыхания, в котором кровь и огонь, горе и слезы. До войны я не боялся мира, так как он всегда волновал меня чудесной радостью. Бродяжничать было по его дорогам – одно наслаждение. Теперь же дороги мира пугают, охватывают ледяным ужасом, и я чувствую себя не в пути, а в чугунном гробу. У двери остановились люди. Их разговор доходил до моего слуха. Он оборвал мои мысли. Я увидел зеленые фуражки, белые косынки. Четыре санитара вошли в вагон и, скользнув безразличными взглядами по койкам, молча приступили к работе. Они спокойно, с обычной и привычной осторожностью и быстротой, поднимали раненых с коек, клали их на носилки и передавали другим санитарам, стоявшим на перроне. Стоны стали громче, протяжнее. Раненых проносили мимо меня. Мелькали воспаленные лица и яркие, расширенные от страдания зрачки глаз. С улицы, с перрона, тоже доносились стоны, вскрикивания. Очередь дошла до меня. Два санитара подошли ко мне, переложили с койки на носилки и подали в дверь. Другие санитары в таких же студенческих фуражках подхватили носилки со мной. Сестра, стоявшая у входа, наклонилась и заглянула мне в глаза, потом что-то сказала санитарам. Студенты понесли. Надо мной – серый куполообразный потолок, ряды белых тонких колонн, а за ними – стены, коричневые двери, высокие мглистые окна. Санитары несли меня мимо этих колонн, дверей и окон. Они, колонны и двери, будто расступались, потолок будто отплывал, как желоб. Нет, это я катился по нему. Вот я в зале, пестром от пассажиров. В лицо пахнуло прелью, из какой-то двери – кислым запахом щей. Люди давали дорогу, словно перед ними был не я, а покойник. Заглядывая снизу им в лица, я плыл и плыл на спине через зал в коридор, из коридора, в котором хлопали двери и гудел сквозняк, на вокзальную площадь. Головы санитаров покачивались и покачивались, как васильки. Что это? Где я? Нет, это санитары. Студенты-добровольцы. Отбывают военную службу в лазаретах. У одного рыжие, ниточкой, усики, тонкое, нежное, с бегающими глазами лицо. Я не мог сосредоточиться ни на его лице, ни на глазах, одни только его усики, казалось, щекотали кончик моего носа; мне очень хотелось поймать эти рыжие усики и подергать за них. У другого санитара синие усы, бабочкой, глаза большие и выпуклые. Пока я плыл на площадь, его глаза, как сливы, катались по моему лицу. Меня подняли, и – стоп! – глаза и рыжие усики пропали. Вместо них – одна пухлая, ватная слякоть. Я на полке линейки. Свет прояснялся медленно, а из него еще медленнее вырастали здания домов. Они то отступали, то надвигались, поблескивая стеклами окон. Линейка сделала поворот. День накренился набок. Пестрый поток людей, извозчиков, трамваев и автомобилей глянул мне в лицо и завернул в сторону. Это был, как узнал я позднее, Невский проспект. Опять – облачное небо, здания домов, золотые и голубые главы церквей. Я оглядываюсь. На полке, рядом со мной, Семен Федорович и монашек. Первый хныкал и лязгал зубами. Второй молчал. У него пухлые сизые губы, тусклые, как скисшее молоко, глаза. Линейка снова сделала оборот вокруг чего-то, поплыла. Опять пестрый поток людей, затем опять, как крышка, небо, а в нем, над моей головой, широкий зад гнедой лошади, за ним – спина всадника, широкие плечи, толстый загривок и голова в полицейской шапке, потом опущенная голова лошади, потом широкая, в медалях и крестах, грудь и бородатое лицо всадника. Его взгляд на мне. Он неподвижен, тяжел. Всадник не ехал. Он уже приехал, и ему больше некуда было ехать. Он приехал на Знаменскую площадь, остановился, и его тяжелый, мертвый взгляд давил, как гнеток, столицу, империю. Линейка простучала за угол другой улицы. Всадник мелькнул и скрылся за спиной кучера. Опять в глаза – верхние этажи домов, золотые и голубые главы церквей, серая полоса неба. Кажется, что все это – дома, церкви – и небо – наклоняется к моему лицу и вот-вот начнет целовать меня. Это мир. К черту! Как мне хотелось тогда плюнуть в него. Но я не плюнул: помешал монашек. Он лежал лицом ко мне, блаженно улыбался.
– Петроград, – пискнул он, и его сизые губы раздвинулись. – Я никогда не был в Петрограде, – пояснил он и стал шептать молитву.
Я не ответил, закрыл глаза, чтобы не видеть его круглых глаз и блаженной улыбки, серого неба.
Темь. Давящая темь! Из нее опять выступил зад гнедой лошади, потом спина всадника, его жирный, как бы налитой, затылок, бок лошади и ее голова, потом грудь и широкое, бородатое, с каменным взглядом лицо всадника. И ужас охватил меня. И я, как собачонка, посаженная на цепь, стал мысленно кружиться вокруг лошади и всадника. Я ходил до тех пор, пока не остановилась линейка, не внесли меня в мраморный вестибюль здания. В нем светло, вдоль стен – стулья и ломберные столики. На белой стене – круглые часы. Под ними в золотой раме – портрет короля бельгийского. Санитары внесли монашка, Семена Федоровича и остальных. Врачи, сестры, няни и санитары встречали раненых. Их белые халаты и косынки успокаивающе действовали на нервы. Толстая пожилая женщина с крупным грустным лицом подошла ко мне и взяла за руку, выше кисти. Выслушала пульс и повернулась к дежурной сестре:
– Иваковская, распорядитесь насчет ванны… Пусть няня приготовит. – Толстая женщина направилась к монашку, от него к Семену Федоровичу. – Вы плачете, – сказала она мягко, с чувством матери. – Не надо. От слез лучше не станет. Ничего, родной… потерпи. – Женщина положила руку ему на лоб, задумалась, глядя куда-то вдаль. Ее маленькие карие глаза светили ласково и печально.
Две няни с пухлыми, румяными щеками, – уж не сестры ли родные? – подошли ко мне, заслонили собой врача и Семена Федоровича, взяли меня под руки и помогли подняться с носилок. Сестра Иваковская, лет восемнадцати девушка, стройная и милая, остановила на мне лучистый темный взгляд, полный искреннего сочувствия к моему страданию, спросила:
– Сумеете дойти до ванной комнаты? Голова не закружится у вас?
– Один не дойду, – признался глухо я, – а вот с нянями ничего.
И я добрался с помощью сиделок до ванной. Правда, с большим трудом: ноги не слушались, стены и колонны, мимо которых меня вели, покачивались и валились, поднимались и опять валились. Сиделок было не две – четыре, не четыре – восемь… потом опять две, четыре и восемь. Они ввели меня в белую предванную, усадили на плетеный диван и стали раздевать. Левая пола шинели в запекшейся крови, закорела. Кисть руки распухла под повязкой, и рукав не снимался. Няни ножницами разрезали рукав шинели до плеча. Потом разрезали рукава гимнастерки, шерстяной фуфайки и рубашек. Они с трудом стащили с меня кожаные сапоги. Освобождая мои ноги от посконных и шерстяных портянок и чулок, няни добродушно говорили между собой:
– Теперь нам понятно, почему зима долго нейдет.
– Не говори. Как не испугаться зиме, когда наши солдатики в такое тепло залезают. Да таких, милая, солдатиков никакой морозяк не возьмет.
Я смотрел на них и не видел. Закрыл веки и увидел опять не две няни, а много-много, и все они разговаривали о солдатах, о зиме и смеялись. И только когда положили меня в ванну, в горячую воду, я поднял набухшие болью веки, пришел в себя и увидал, что их не толпа, а две, что их лица бледны, глаза темны от испуга и жалости к нам, раненым. Заметив, что я открыл глаза, няни оживились, обрадовались.
– Дуня, гляди, – проговорила высокая, и ее щеки покрылись румянцем, – отошел солдатик-то.
– Пусть живет, – ответила добрая Дуня и пояснила: – Одним, значит, женишком больше будет.
– Дура, – выругала высокая подругу и обратилась ко мне: – Служивый, а мы думали, что вы уже скончались.
Я возразил:
– Зачем же? Я не собираюсь умирать. Мне надо долго-долго жить.
– Приятно слышать, – похвалила Дуня. – Лена, – обратилась она к подруге, – слышишь, что он говорит? Служивый отвоевал и совсем не хочет умирать. Вот это я понимаю.
Что ответила Лена, я не разобрал: у меня опять закружилась голова. Темь плескала в лицо. Желтые, зеленые и серые цветы выступили из тьмы, завертелись, как колесики. Потом, когда цветы пропали, поднялся всадник, и я стал ходить вокруг него. «Почему всадник не дает ходу лошади? – подумал я. – Зачем он натянул так поводья, что лошадь ослепла от напряжения?» Всадник повертывался то спиной ко мне, то задом, то лицом. Лю-лю – звенело где-то сбоку. Лю-лю – звенело где-то над головой.
– Черт знает что. Ведь всаднику некуда ехать. Всадник не желает – ни вперед, ни назад! – воскликнул я. Лю-лю, лю-лю – звенело громче сбоку. Лю-лю, лю-лю – звенело над головой. И вдруг все смолкло. И всадник провалился. Мрак исчез. Ударил яркий солнечный свет. В нем ряд высоких окон, простенки. Я на койке, под дымчато-серым плюшевым одеялом, под прохладно-снеговой простынею. Налево – я лежал у стены, в углу – ряды коек. На белых крупных подушках темнели головы, фосфорически горели глаза. Моя левая рука, тяжелая, словно чужая, на груди. От нее пахло марлей и йодом. Загремел трамвай. Я вздрогнул, сжался под одеялом. Гром и лязг трамвая напомнил мне звук падающего снаряда. Трамвай пролетел мимо дома и был далеко, где-то на конце Большого проспекта. Я успокоился. Глянул. «Чьи это глаза? Где я видел их?» Насторожился.
– Не признаешь? – спросили голубые глаза. – Я – Синюков. Рядом со мною – Евстигней, твой земляк. Хорошо, что мы встретились. – Он сделал паузу и вздохнул. – Ем много, а не поправляюсь, даже врачи дивятся. Знать, не в коня корма. – Его глаза улыбнулись болью, и он глухо пояснил: – Поем, а из меня обратно… Это болезнь от контузии… от удушливых газов.
У него серое лицо – кожа и кости, голубые глаза. Они горели слабым светом жизни. Чтобы не видеть их света, я опустил веки и стал бормотать о всаднике, о лошади и о том, что всадник приехал и ему больше некуда ехать. В палате тишина. Не пахло, как в вагоне, запекшейся кровью. Лю-лю, лю-лю – опять звенело где-то сбоку. Лю-лю, лю-лю – отзывалось опять где-то над моей головой. Синюков молчал. Он трудно дышал. Слабый свет его огромных глаз на мне.
– Ананий, я не хочу умирать, – прохныкал Синюков.
– И не надо, раз не хочешь, – отозвался я. – Кто не хочет, тот и не умрет. Живи.
– Меня ждет и никак не дождется мать. Я ведь один у нее. Господи, – вздохнул Синюков, – сегодня я видел ее во сне, маму. Она шла по берегу реки, по узенькой тропочке, которая все время терялась в густой траве. Мать шла и часто подносила ладонь ко лбу, глядела и глядела из-под нее на большак. Как бы я хотел подняться и побежать по нему к ней навстречу.
– Ты пойми, Синюков, лошадь хочет на простор, а всадник…
– Жмуркин, ты мне нравишься, – прожужжал голос с койки, что стояла у стены, против моей. – Я подарю тебе святое Евангелие. За чтением его ты возлюбишь и всадника. Людям не надо стремиться вперед, как не надо и назад, а только к богу. Всадник, о котором ты все время говоришь, понимает это… Как же ему, помазаннику божьему, не понимать судеб наших предназначение.
«Монашек? – удивился я и тут же ответил: – Он, он».
Чтобы не слушать его сладенькое жужжание, я спрятал лицо под простыней и одеялом.
Свежий, прохладный запах постели успокоил меня.
V
«Евстигней жив. Лежит рядом с Синюковым. Не убит, не остался на поле боя. Но что же он молчит?» – размышлял я. Земляк лежал неподвижно и тихо стонал. Лицо у него желтое, как воск. Его рыжие усы росли вверх, топорщились, закрывая кончик носа. Землистые губы полуоткрыты. Он не замечал меня, – ему, видно, не до земляка: собирался в дальнюю дорогу. Да и нехороший дух шел от него. Евстигней был ранен штыком в живот. Об этом сказала мне Нина Порфирьевна, старшая сестра нашего этажа. Игнат в соседней палате. Из полуоткрытой двери долетал до моего слуха его деревянный голос:
– Культура? Что такое культура? Это похлебка из тыквы.
Я вздрагивал. Затем, успокоившись, начинал разговаривать с монашком, который, прижав раненую руку к груди, мог часами смотреть на меня или в какое-нибудь окно. Стихи Игната нелепы, неуклюжи. Я затыкаю уши углами простыни. Дальше, за Евстигнеем, лежали Семен Федорович, Морозов и Первухин. Семену Федоровичу было лет двадцать, не больше. У него интеллигентное лицо, большие синие глаза. До призыва в армию – его взяли в 1915 году – он жил в Москве, работал слесарем на заводе. Семен Федорович держал себя неровно: то смеялся и резвился, как мальчик, то был мрачен и молчалив, то плакал, уткнувшись лицом в подушки. Он был веселым тогда, когда не думал о левой ноге, оставшейся на позиции под Двинском. Он был мрачным тогда, когда приходил с перевязки, после обмороков. Плакал он тогда, когда у него чесалась пятка и шевелились пальцы на отсутствующей ноге. Плакал Семен Федорович потому, что рукой не находил под одеялом и простыней ноги, чтобы почесать пятку и потрогать пальцы: там, где должна быть нога, пустое место. Его надрывный, тихий плач, как и смех его, действовали мне на нервы. Другие раненые чувствовали себя не лучше от плача Семена Федоровича: они, чтобы не видеть содрогания его плеч, прятали головы под одеяла и лежали неподвижно. Только монашек, казалось, относился равнодушно к плачу Семена Федоровича, держал забинтованную руку на груди и, уставившись взглядом в окно, покачивался и покачивался туловищем, как каменный болванчик. Рядом с монашком койка Шкляра.
Шкляр уже выздоравливал, мало лежал, больше сидел.
У Шкляра грудь увешена серебряными и золотыми георгиевскими медалями и крестами всех степеней. Говорят, что он был ранен несколько раз, но не серьезно: в ноги, в руки и в плечо. У Шкляра быстрые черные глаза, смуглое лицо, толстые губы и небольшой, картошкой нос. Волосы, подстриженные под ерша, отливали синью. Он мало говорил, был, как девушка, скромен и застенчив, но георгиевские медали и кресты, украшавшие его узкую грудь, носил гордо, с достоинством. А как же иначе носить? Только так. Ведь Шкляр – еврею не так-то легко получить такие высокие медали и кресты – получил их действительно за свою доблесть на фронте, за проявленный героизм в боях за родину.
Я смотрел на Шкляра с восхищением, когда он поправлял благоговейной рукой на груди георгиевские медали и кресты.
Рядом с ним, против Евстигнея, лежал Алексей Иванович, высокий и широкоплечий, с темной бородкой и ясно-серыми глазами крестьянин, – он был ранен навылет пулей в грудь и кашлял кровью. Вдоль лицевой стены стояли койки Прокопочкина и Первухина. Морозов лежал между Первухиным и Семеном Федоровичем. Первухин и Морозов, как и Шкляр, уже выздоравливали и время проводили больше в клубе или в соседних палатах. У Прокопочкина не было правой ноги. Вместо нее искусственная, которую он прилаживал к обрубку раза два в день и, прихрамывая, учился ходить – ходить по палате, вдоль своей койки. Протез сухо скрипел ремнями и пружинами. Прокопочкин, плача синими глазами, улыбался нижней частью лица, тихо приговаривал:
– Рубь двадцать, рубь двадцать, рубь двадцать.
Признаться, в первые дни моего лежания в лазарете его прогулки с протезом действовали на меня сильнее плача и смеха Семена Федоровича. Я закрывал одеялом лицо и стучал зубами от внутренней боли. Рука начинала ныть нестерпимо, словно в ране, под повязкой, сидел отвратительно-злой зверек и грыз раздробленную кисть. «Лучше бы Прокопочкин плакал навзрыд, как Семен Федорович. Лучше бы он смотрел с койки, как монашек, каменным болванчиком, чем гулять с протезом в обществе людей, измятых войной», – размышлял я. После каждой прогулки Прокопочкин отделял искусственную ногу от обрубка, клал ее на койку и, тяжело дыша от усталости, вытирал платком ее металлические и деревянные части, затем завертывал в простыню и осторожно, как больного ребенка, клал ее на широкий подоконник. Потом снимал халат, ложился в постель и, отдохнув немного, начинал говорить о красавице жене, о том, как она любила его и боялась его.
– Знаете, моя жена первой плясуньей слыла на игрищах. Она, бывало, собирается на улицу, а я – бить ее. Бью и сам приговариваю: «Не ходи, дрянь. Не ходи». Но жена, бывало, отпихнет меня от себя – и марш в дверь… Вот какая была супротивная. А я человек был тогда принципиально-серьезный.
Прокопочкин поднимал голову от подушек и вкрадчивым голосом, в котором были страх и боль, спрашивал:
– Ананий Андреевич, как думаешь, примет меня, такого, жена или не примет?
– Обязательно, – отвечал я каждый раз из-под одеяла и не открывал лица.
– И я так думаю, что примет, – подхватывал Прокопочкин. – И бить я больше ее не стану, – добавлял он и умолкал до следующей прогулки.
Прокопочкин перестал рассказывать о жене только тогда, когда мы узнали из его истории болезни, что он холост, и сказали ему об этом. Выслушав нас, он вздохнул, подумал и ответил:
– Неженат. Хотите, чтобы я говорил сказки?
– Пожалуйста, – отозвался Синюков. – С удовольствием будем слушать.
Оказывается, Прокопочкин плел небылицы о жене, которой у него не было, для того только, чтобы развеселить нас, «выгнать из палаты тягостное настроение», навеянное скрипом его искусственной ноги. Прошло несколько дней, и я привык к прогулкам Прокопочкина, к скрипам его протеза. Я больше во время его прогулок не закрывал одеялом лица, лежал на спине и глядел в потолок, прислушиваясь к стонам раненых. Морозов и Первухин – приказчики. Первый служил в Нижнем. Второй – в Москве. Они были ранены легко и очень сожалели об этом: вторично им не хотелось идти на позиции. Морозов возбужденно говорил:
– Что нога? Нога ничего… и без нее можно жить. А чтобы не скрипела, я стал бы ежедневно на ночь смазывать протез гусиным салом.
Раненые молчали. Тишина. Отчетливее хрипы, стоны, выкрики бреда, бормотанье.
– Петр Денисович, – спросил Прокопочкин, – разве гусиное сало пользительно для такой цели?
– Конечно, божественная мазь, – подхватил Морозов и, подняв густые черные брови, воскликнул: – Ого! Еще как! Разумеется, пользительная! Главное, она будет отбивать запах твоего пота.
«Черт знает что мелет, – вздрагивая, подумал я о Морозове. – Да и мелет ли? – вздохнул тревожно я. – Морозов, быть может, намекает ему на последствия войны, от тяжести которых многим придется потеть до гроба?» Морозов и Первухин встали с коек и, запахнув полы и подтянув пояса халатов, пошли в клубный зал, находившийся в правом конце нашего этажа, – они уже больше недели не ходят на перевязки, в операционную. Там, за игрой в шашки или шахматы, они забывали на время о своей предстоящей вторичной поездке на фронт. Из клуба доносились слабые звуки рояля.
– Закройте! – крикнул Прокопочкин.
Первухин оглянулся.
– Ой-ой, музыки боитесь! Какие нервные! – бросил он добродушно и прикрыл осторожно дверь.
Никто из нас, прибывших недавно с позиции, не ответил Первухину. Вошли сестра Смирнова и санитары с носилками, остановились у койки Алексея Ивановича. Когда санитары подняли его и стали класть на носилки, он очнулся и застонал:
– Ыыы… Ыыы, ыыы…
Санитары молча понесли раненого в перевязочную. Потом, спустя несколько минут, вернулись с ним и, уложив его на койку, взяли Семена Федоровича. Из темного рта этого юноши вылетали ухающие, похожие на крик выпи, стоны:
– О-о-о!
Не стонал один Евстигней, когда санитары укладывали его на носилки. Задрав острый землистый нос, он смотрел неподвижными, как бы вываренными глазами в потолок. Зато я, Синюков и монашек, стараясь не смотреть на Евстигнея, начали стонать сперва тихо, потом громче и громче.
– Мы не прикасались к вам, а вы уже захныкали, – заметила ласково Смирнова, остановилась у койки Синюкова и стала ладонью гладить его лоб. – Жмуркин, как чувствуете себя? – поглаживая лоб Синюкова и бросив взгляд на меня, спросила она.
– Благодарю, сестрица, – постукивая зубами, ответил я. – Вот только в ушах и в теле гул… будто под кожей у меня разлит кипяток.
– Не выдумывайте, – сказала строго Смирнова. – Никакого кипятка у вас под кожей нет. А в вас и вот в нем, – показала на Синюкова, – живут маленькие детки и капризничают.
Открылась дверь – и на пороге высокие и красивые сестры Гогельбоген. У младшей – газеты и журналы «Нива», «Лукоморье», «Солнце России». Они подошли к столу и поздоровались с нами. За ними следом – Стешенко и Пшибышевская. Сестры сели на стулья. Обе Гогельбоген ближе к монашку. Стешенко и Пшибышевская остановились у стола. Стоны раненых затихли. Синюков смотрел на Смирнову. Семен Федорович скосил глаза на стол, на котором белели газеты, журналы и пачки папирос, – его принесли из перевязочной в одно время с Евстигнеем. Монашек свесил ноги с койки, накинул на плечи халат и прижал раненую руку к груди. Его голубые глаза блестели, как новые гривенники. Толстые сизые губы глупо и растерянно улыбались. Прокопочкин повернулся на бок, лицом к нам. Алексей Иванович лежал на спине, его глаза провалились и были закрыты. Из его груди вылетало хлюпанье. Землисто-восковой нос Евстигнея неподвижен, а щетинистые рыжие усы, растущие вверх, шевелились.
«Дышит», – подумал я о земляке, и мне стало страшно.
Младшая Гогельбоген раскрыла «Ниву».
– «Он принес мне алые цветы», – прочла она громко и подняла темные бархатные глаза от журнала. – Чудесное стихотворение. Хотите, я вам прочту его вслух? – обратилась она к монашку, Синюкову и к другим раненым.
– Прочтите, – попросил за всех раненых Прокопочкин. – Мы давно не слыхали хороших стихов.
Младшая Гогельбоген стала читать:
Он принес мне алые цветы
И шепнул: – Душа моя пьяна… —
Я в ответ: – Зачем не в битве ты?
Ведь теперь красивая война.
– Но тебе я предан всей душой,
Как отчизна, ты мне дорога.
– Так ступай же в первый жаркий бой,
Принеси мне голову врага.
– Спасибо, – поблагодарил младшую Гогельбоген монашек, вздохнул и перекрестился.
– Если он любит ее, то он пойдет в жаркий бой и принесет для нее голову врага, – пояснила Стешенко. – Очень возвышенные стихи.
– Но она, наверно, не любит его, – заявил Прокопочкин и добавил: – Ну конечно не любила… Кто любит, тот не посылает любимого в жаркий бой. Плохие стихи.
Синюков беззвучно рассмеялся. Младшая Гогельбоген смутилась, покраснела и закрыла журнал. Стешенко и Смирнова поглядели друг на друга. Старшая Гогельбоген нахмурилась и шепнула что-то Пшибышевской. Та широко открыла серые глаза и покачала головой, затем встала и направилась к Алексею Ивановичу, села на его табуретку, боком к нам. Наступило неловкое молчание. Никто не ожидал такого убийственного суждения Прокопочкина о стихах, только что прочитанных младшей Гогельбоген. Я остановил взгляд на Стешенко. По ее бледному широкому лицу пошли слабые малиновые пятна. Ее глаза сразу высохли и стали колючими. «Сейчас она высыпет на Прокопочкина много-много едких слов, едких и стрекучих, как крапива», – подумал я. Стешенко поднялась, оправила фартук на впалой, похожей на доску, груди и ничего не сказала: помешали няни, появившиеся с подносами на пороге.
– Служивые, обедать хотите? – спросила громко, веселым голосом, таким, что в палате сразу стало светлее, краснощекая и голубоглазая Таня. – Если не хотите, зараз обратно унесем. Отвечайте скорее!
– Давайте первому мне, – позвал монашек, и его глаза оживились и потемнели. Не вставая, он по краю койки скользнул задом к столику-тумбочке.
– Прокопочкин, мы еще поговорим на эту тему, – сказала резко Стешенко и направилась к двери.
Обе Гогельбоген, Смирнова и Пшибышевская встали и, пожелав нам приятного аппетита, последовали за Стешенко.
Няни поставили обеды на столики и удалились.
VI
Я не заметил, как кончились две недели моего лежания в лазарете. В первые дни я много страдал от контузии и от раны в руке. Часто находился в бреду и беспамятстве. То я ходил вокруг тучного, в полицейской шапке всадника, которому было некуда ехать – он давно уже приехал; то стоял в каком-то пепельном мраке, из которого беспрерывно выпрыгивали желтые, синие и серо-грязные цветы и тут же, осыпаясь, пропадали, чтобы появиться опять; то я сам проваливался в неподвижный мрак, вскрикивал и приходил в себя. Бредовые приступы чрезвычайно пугали меня. Находясь в их власти, я чувствовал тело мира, его дыхание. Должен сказать, что бред совсем не похож на беспамятство. Бред – это живешь и не живешь, а страх в сердце острее, обнаженнее. Когда я терял сознание, то я и не ощущал болей в моем теле, не чувствовал телом мира, его дыхания. Не чувствовал мира только потому, что не было меня, а раз не было меня, то и не существовало мира, его дыхания. Когда я пожаловался врачу на частые приступы бреда, она пристально, изучающе посмотрела мне в глаза и, немного подумав, твердо сказала:
– Не придумывайте, Жмуркин, чего не надо. Вредно. Вы начали выздоравливать. Глаза у вас молодые, смеются… вот и бредите. – Не выдержав мой недоверчиво-изумленный взгляд, она отвела в сторону глаза, посоветовала: – Ешьте больше… и вы быстро поправитесь. – Женщина-врач повернулась ко мне спиной. Белый халат сидел на ней широко, как саван. Она стала говорить с монашком.
Нина Порфирьевна наклонилась, сердито шепнула:
– Бред и головокружение бывают у вас оттого, что вы потеряли много крови.
После этого я не жаловался ни врачу, ни сестрам на приступы бреда и головокружения. Они действительно реже стали мучить меня: видно, я уже набрал немного крови за эти дни лечения. Впадал в беспамятство также редко, когда врач чистил рану, набивал щипцами в нее марлю. Да я и не хотел больше терять сознание, проваливаться в небытие: видимый мир и его дыхание, ощущаемое мною, не пугали меня так, как в первые дни моей болезни. Война осталась далеко позади. Я не видел ее пожаров, не слышал ее гулов и скрежетов, не смотрели на меня из опаленной, пожелтелой травы ужасом зрачков глаза… и нога моя не наступала на мозг какого-нибудь товарища. Небытие, предпочитаемое мною бытию, стало страшно для меня, и я твердо сказал себе: «Выздоравливаю, а потому и хочу видеть мир, чувствовать его дыхание на себе». Это желание стало расти во мне с каждым новым днем. В воскресенье, после обеда, зашел брат Евстигнея, – он работал слесарем на Обуховском заводе. Я встречал его редко в своей жизни, не больше трех-четырех раз, когда он приезжал на побывку в деревню. Он был очень похож на Евстигнея, такой же рыжий, высокий и костистый. Поздоровавшись с нами, он сел на стул и склонился к брату.
– Ну, воин, как дела твои? – спросил с наигранной веселостью он.
Усы Евстигнея шевельнулись:
– Плохи. Я рад, что ты пришел… думал, не увижу тебя.
– Ну-ну, – протянул упавшим голосом Арсений, – отчаиваться не надо. Мы еще с тобой нужны…
Евстигней засопел. Арсений, склонив ниже голову, прислушался.
– Не разберу, – вздохнув, проговорил он, поднял голову и остановил взгляд на мне.
«Неужели не признает? – подумал я. – Ведь у меня отросла только борода…»
Арсений пристально смотрел на меня, а я на него. Так мы разглядывали друг друга минуты две-три.
– Ананий Андреевич? – всколыхнувшись корпусом, спросил он.
– Да, Арсений Викторович. Узнали? – отозвался радостно я. – Думал, что не признаете. Я и есть тот самый Жмуркин, которому вы, когда гостили в деревне, не подали руки.
– Прошу прощения. Считаю себя глубоко виноватым перед вами, – сказал смущенно и искренне Арсений Викторович. – Я тогда принял вас…
– За бродягу, – подсказал я. – Не скрываю. Я много походил по России. Да-да, не столько тяпал топором, сколько шлепал опорками по коротким и длинным дорогам. Что ж, я не жалею, что полжизни провел в пути.
– Не за бродягу, а за… – не договорив, поправил извиняюще Арсений Викторович. – А теперь и сам стал большевиком, – признался он тихо, наклонясь к моему лицу.
– Тогда пожмите покрепче мне руку.
– С удовольствием, Ананий Андреевич, – проговорил он и стиснул мою ладонь.
– Позвольте признаться: я и тогда верил, что вы, Викторович, отойдете от меньшевизма. Отход этот ваш я еще тогда, споря с вами, почувствовал. И не ошибся.
– Вы, Ананий Андреевич, тогда много читали…
– И был моложе вас, Викторович, – улыбнулся я.
– Не обижайте меня, Андреевич, – сказал тепло Арсений. – Вы, как я слышал, в университете учились…
– Учился, Викторович… Учиться надо всю жизнь. Признаюсь, чтение – моя страсть. Могу похвалиться тем, что я знаю литературу.
– Вы тогда, как я помню, увлекались Шекспиром.