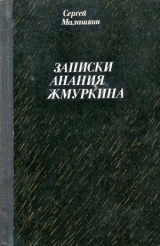
Текст книги "Записки Анания Жмуркина"
Автор книги: Ника Бойко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 27 страниц)
– О, боже мой, – вздохнул Соломон и замахал руками.
Я видел, как у Соломона покраснело лицо и еще больше оттопырилась заячья губа, а глаза, окаймленные женскими ресницами, застыли и смотрели холодно и сухо мимо меня.
– Боже мой! Гляжу, прет на меня здоровенный немец и ревет… «О! – думаю я. – Сарра, помяни непослушного своего Соломона!» А немец все ближе, ближе, и похож он на пузатого Игната… Я почувствовал, как заныли мои колени, а по шине побежали мурашки… «О боже мой!» – закрыв глаза, вскрикнул я и бросился вперед. О! – Соломон снова споткнулся, замер на минуту, дернулся. – Штык, хрипло распарывая, вошел в мягкое, и пронзительный крик немца оглушил меня. Я приоткрыл один глаз, присел на ноги и взглянул: немец, как гора, сидел на штыке, крепко держался за ствол моего ружья и, вырывая его, жутко визжал… О, боже мой! У меня не было сил удержать ружье, у меня кружилась голова. Крик немца и его зверское, искаженное ужасом лицо давило меня к земле, тащило к себе. Я видел, как дуло уходило все больше в его тело… «О!» – вскрикнул я. – Тут Соломон закрыл глаза, улыбнулся. – Я больше ничего не помню… Я долго вытирал мозги с моего лица и шинели, а когда вытер лицо, Евстигней мне крикнул: «Назад!.. А где твоя винтовка?..» Моя винтовка! О, где моя винтовка? Я схватил винтовку убитого немца, побежал за Евстигнеем. О! – Соломон снова дико улыбнулся и закружился по блиндажу. – Как будет рада моя мать Сарра!
– Это черт знает что такое! – крикнул взводный и вплотную подошел к Соломону, толкнул его к бойнице и, втягивая шарообразную голову в плечи и опуская застенчиво мышиные глазки, снисходительно заговорил: – Ну как с вами, ребята, не ругаться? И ты, Соловейчик, браток, не сердись на меня… Да, да… Вы и святого Николая выведете из терпения! Вам говорят – стрелять, а вы о Саррах и Марьях думаете. Я тоже был бы не прочь подумать о своей Оксане, да…
– И, наверное, думаешь, – сказал обиженно Соломон.
– Да некогда, браток. Я бегаю как угорелый, а из чего, и сам не знаю! – И взводный махнул рукой и вышел.
– Все время ругается, черт, – бросил Соломон и повернул ко мне лицо.
В блиндаж вошел Игнат и, ставя к стене винтовку, улыбнулся.
– Не ждали?
Соломон спросил:
– Боже мой! Откуда? Я думал, что тебя вывели в расход.
– Пока еще нет, – держа на лице улыбку, отвечал тихим голосом Игнат. Он очень был похож на суслика и так был смешон, что просто, глядя на него, хотелось пошутить, посмеяться над ним.
– Кто это тебя так вылизал? – спросил я и отошел от бойницы и показал на его гимнастерку.
Игнат икнул и, приваливаясь к стене, присел на корточки. На его лице все так же играла улыбка, так что ее никакие силы не могли спугнуть, согнать с его лица. Он был взаправду смешон. Гимнастерка была мокрой, в особенности на круглом животе, она блестела и, как зеркало, отражала бледно-серый цвет послеобеденного дня.
– Ты что, плавал?
Игнат не ответил. Он смотрел мимо меня, в протнвополож-ную стену, и все так же невинно улыбался.
– Ты что же молчишь?
– Да, плавал, – ответил он после некоторого молчания. – Я все утро плыл животом по траве. А сейчас написал стихотворение, хотите – прочту.
– Ты пишешь стихи? – дернулся Соломон и заиграл женскими ресницами. – Как я, Игнат, люблю стихи! Я очень люблю Бялика. Ты знаешь Бялика?
– Нет, – ответил Игнат, – не слыхал такового.
– Это мировой поэт; он пишет на древнееврейском языке, и ты не знаешь!.. Ты обязательно прочти Бялика, – настаивал Соломон, – он тоже из Одессы, и мы с ним земляки. – И, обращаясь ко мне: – А ты, Ананий Андреевич, читал?
– Я?
– Да.
– Я читал много стихов, но Бялика не читал.
Игнат повернул голову, подозрительно поглядел мне в глаза и, осмотрев меня с ног до головы, спросил:
– Ты много читал? Кого?
– Много, но только имен не помню, – уклончиво ответил я.
Глаза Игната вспыхнули, стали необыкновенно глубокими, а на лице хрупкой зябью солнечных веток заиграла, забегала ярче улыбка.
– Хорошо, – протянул он и стал читать:
Небо – не небо, а голубой бык
С рыжими рогами;
Это он, став на дыбы,
На тебя, на тебя
Все глядит золотыми глазами.
– Всё?
– Всё, – ответил Игнат. – А вот начало другого:
Культура!
Что такое культура?
Это блин, сделанный из костяной муки,
Это блин, поджаренный не на масле, а
на сахариновой воде…
О голубой огонь,
Спаси эту культуру —
Распутную девку с подвитыми рыжими волосами!
О голубой огонь!
– Какие же это стихи, – сказал Соломон, – от таких стихов лопнут ушные перепонки. Это какой-то бред!
Игнат ничего не ответил, он только мрачно посмотрел на Соломона и развалился на соломе.
– Евстигней лежит еще там…
– Там? Убили? Ранен?
– Нет. Там еще много из нашей роты. Они окопались.
– Стихи у тебя плохие, – перебивая его, бросил Соломон. – У тебя совершенно нет тем для стихов.
Снаряды били по брустверам и по насыпи. Со свистом впивались пули в окопный козырек. От пуль тонкими струйками поднималась пыль, от снарядов – большими цветущими кустами сирени.
Я повернул голову в сторону Соломона и встретился с его каштановыми глазами.
– Соломон! Соломон!
Он ничего не ответил. Он смотрел на меня и улыбался. Я стал всматриваться в его лицо: нижняя, заячья губа, обнажив серебро мелких зубов, далеко отвисла от верхней и была бледно-синего цвета; на его голове вместо темно-русых волос оказалась тарелка с манной кашей, через края которой сочилось красное и тонкими струйками медленно стекало к переносице, к вискам, от висков по щекам и к подбородку.
– Соломон! Соломон!
Соломон не шевелился. Ужас приковал меня, к бойнице, так что я не мог пошевельнуться ни одним мускулом. Игнат, не поднимая головы и не открывая глаз, бросил:
– Череп своротило… разрывной!
Потом посмотрели мы друг другу в глаза, вздохнули. Потом, потрясенные, долго молчали. Первым сказал Игнат:
– Надо написать на его родину, у него, наверно, есть мать.
XVIII
Гремели орудия всех калибров. Под лавами огня и железа резко раздавались дикие, короткие вскрики. От рева, металлического треска сжималось тело, гудело, трещало, словно в нем бабы мяли на мялках коноплю; сжимались виски, так что кости трещали, отчего во всей голове была невыносимая, мучительная боль, как будто под черепной коробкой находился небольшой зверек грызун и маленькими острыми зубами медленно пожирал кашицу мозга. От такого ощущения я не мог сосредоточиться и написать письмо. Я напрягал все свои силы, весь свой ум, чтобы вылить на небольшой лоскуток бумаги несколько нежных, утешительных слов… Я писал:
«Многоуважаемая мадам Сарра Абрамовна, сообщаю вам, что вашего сына Соломона ранили и мы схоронили его в большую могилу, засыпали мягкой землей; на могилу поставили большой кленовый крест, насыпали полевых цветов и еловых веток…»
Тут я поднял голову, взглянул на Игната – он лежал кверху животом и, глядя в бруствер потолка, напевал себе под нос:
Тащится поезд товарный,
Тешится поезд над нами!
– Дураки, дураки, дураки… —
Эх! Тешится поезд над нами.
– Игнат! – крикнул я. – Я написал письмо Сарре Абрамовне Соловейчик.
Игнат, не поворачивая тела, повернул в мою сторону голову, спросил:
– Написал? А ну, читай.
Я прочел.
– Как же это так, – протянул он и улыбнулся, – ранили и схоронили в большую могилу? Ты что-то написал неладно. По-моему, его убили.
Игнат был прав.
– Да, это верно, – ответил я, – но я не хотел писать в первых же строках письма «убили», так как это слово слишком было бы тяжело для старческого слуха Сарры Абрамовны, и я написал «вашего сына ранили».
– Ты прав, – согласился он, – слово «убили» жестоко для слуха матери. В этом ты, Жмуркин, тысячу раз прав! – вскрикнул он и громко, как-то неестественно, засмеялся, а когда закончил смеяться, добавил: – Я только сомневаюсь относительно креста…
– Креста?
– Да, – ответил он и пустился было философствовать: – Правда, тут, в земле, все боги и религии смешались, перемешались, а о нашем брате и говорить не приходится… – и он глубоко вздохнул. – Из нашего брата получается месиво, так что не поймешь, какие куски мяса принадлежат русскому, какие татарину, какие еврею… Ничего, Жмуркин, не поймешь! Ничего, все они одного цвета, да и бог не позаботился сделать различие… Да и какое ему дело до простонародия…
– Да, – согласился я и резко оборвал его: – Так ты говоришь, что я написал неудачно, плохо?
Игнат замолчал, задумался, а через пару минут сказал:
– Соломон был иудейского вероисповедания, а ты…
– Ты прав! – воскликнул я. – Я совершенно упустил из виду, что Соломон еврей, а главное – я обидел бы его мать, задев ее религиозное чувство; придется другое написать, – и я разорвал на четыре части письмо.
Игнат сидел и смотрел на свои ноги, улыбался.
– Ты что? – спросил я. – Давай вместе напишем.
– Написать? – повторил он. – По-моему, не надо. Зачем писать, что «убили вашего Соломона»? Не надо. Ничего не надо.
– Ведь он, Соломон, просил и дал мне адрес.
– Но она тебя не просила, – ответил он сердито. – Какое ты имеешь право создавать в ее жизни, перед ее глазами пустое место, а?..
– Позволь…
– Никакого «позволь»! Пусть бедная мать Соломона живет в ожидании сына, пока ее не возьмет земля… – Игнат замолчал и опять развалился спиной на землю и стал смотреть в потолок блиндажа.
Возражать Игнату я не стал: он был, пожалуй, прав. Зачем убивать старого человека жестоким письмом? Пусть она верит и надет, что ее любимый Соломон жив и скоро вернется. И я взглянул на Игната. Он лежал и тянул однообразную песенку, сложенную им:
Тешится поезд…
Дураки, дураки, дураки…
Я отвел от него глаза, уперся в стену блиндажа. Остановился. По стене, спотыкаясь в ноздрях глинистой почвы земли и останавливаясь перед трещинами, лениво полз жирный коричневый клоп. Полз он медленно и тяжело, но его было совершенно не видно. Я стал внимательно рассматривать клопа, и чем я его больше рассматривал, он все больше вырастал, и через несколько минут он превратился в огромного кабана. Сквозь прозрачную, коричневую и блестящую, как лак, кожу я видел, как в нем пузырилась, вращалась человеческая кровь. Я стал наблюдать за кровью.
…Клоп медленно переваливался, полз…
Я в ужасе подумал: это кровь Жмытика, Евстигнея, Игната, Соломона, моя… Я взялся за винтовку, положил ее на колено и острием штыка стал ловить огромного, отливающего бронзой клопа; но клоп, вырастая в огромную гору и раздвигая стены блиндажа, спокойно переваливался, полз вперед, и я никак не мог поймать его на острие штыка, пропороть его блестящую коричневую кожу, чтоб выпустить кровь. Я чувствовал, как дрожали мои руки и блестящий штык скользил по коже клопа, а он все так же спокойно разрастался и полз, раздражая меня… Полз…
– В атаку-у! – раздался протяжный крик по узкой кишке окопа и добежал до моего уха, и, как мотылек, забился в ушную перепонку. Я вздрогнул и опустил винтовку: клоп тяжело шлепнулся на солому.
– В атаку, – сказал Игнат и быстро повернулся животом вниз и громко засмеялся.
– Да, – ответил я и тоже засмеялся. – Я видел большого клопа.
– Клопа?
– Да. И я его никак не мог поймать на штык.
И мы долго и безумно хохотали.
XIX
Прошла неделя, а может и месяц или меньше, как не вернулся из наступления Евстигней, как убили Соломона Соловейчика, а я так и не сумел побывать в Белибейском полку, познакомиться с Васильевым или с полуротным Кремневым: помешали этому знакомству беспрерывные атаки немцев, наши контратаки и дежурство в секрете, да и командиры – ротный, полуротный и взводные – почти все время находились среди нас.
Как-то утром я встал с грязно-перемятой в труху ржаной соломы, вышел в окоп, душный, пропахший потом и кровью, и зашагал медленно по нему. Шелестел шелковистый дождь; в окопе было грязно, кое-где на дне его тускло поблескивали лужи дождевой воды, обочины его почернели от дождя. То здесь, то там попискивали изжелта-серые, пепельно-ржавого цвета, крысы и, услыхав мои шаги, неохотно отбегали от меня в стороны и, прижавшись к обочинам окопа, принимали их цвет и нагло выжидали, когда я пройду мимо них.
Я поднял глаза, глянул на небо; оно сырой и тяжелой, как свинец, полосой, висело над окопами и блиндажами, и его края где-то за обочинами окопа и блиндажей, совсем близко, пропадали. Никогда я не видел такого низкого и страшного неба, как вот нынче утром, и мне, признаюсь, стало до боли страшно, захотелось завыть голосом зверя, попавшего в капкан; но я не заревел, не завыл, не завыл, разумеется, только потому, что в соседнем блиндаже, с которым я поравнялся, услыхал разговор, унесший меня сразу из окопа в город, к обычной, будничной городской жизни простых людей, добывающих себе кусок хлеба упорным трудом.
Прислушиваясь к словам, я постоял минуты три, а возможно и больше, вдумываясь в их фразы: затем, громко кашлянув, направился в блиндаж; спокойно-эпический разговор солдат, понравившийся мне, отвлек меня от фронта, потянул неудержимо к ним, в их общество, которое мне было не только близким по духу, но и глубоко родным, как по крови, так и по идеям. «В этом отделении, судя по разговору солдат, кажется, много рабочих в солдатской одежде», – подумал уверенно я, входя в мрачный, светлевший соломой блиндаж. Защитники этого каземата, как заметил я, не обратили никакого внимания на меня. Только один рассказчик скользнул внимательным, умным карим взглядом по моему лицу и фигуре и, прервав свою речь, поднялся и с какой-то милой и ловкой почтительностью, удивившей, признаюсь, чрезвычайно меня, подал мне толстое полено, заменявшее стул и столик для писания писем.
– Добро пожаловать… – приветствовал он и снова задержал взгляд на моем лице. – Я думал, что вы, Перепелкин, признаете меня, своего соседа по блиндажу, и подойдете ко мне, но вы почему-то не подходите. Возможно, не признали меня в солдатском наряде? А может, ошибаюсь я? Скажите, вы Перепелкин, Георгий Иванович?
– Нет, вы, братец, ошиблись, – вздрогнув от его вопроса и признав в нем паяльщика, работавшего на Мамонтовской фабрике красок, с резкой твердостью возразил я. – Не знаком с вами, браток!
– Удивительно, как это я обознался, – проговорил разочарованно солдат, и на его загорелом лбу собрались морщины. – И глаза и борода у вас, братец, такие же, как у Перепелкина. Надеть вот сейчас на вашу фигуру синеватый костюм, в котором был Перепелкин, так вы точно станете Перепелкиным. Ну ладно! Простите, что принял вас за него! А на этот стульчик все же сядьте, пожалуйста.
– Это, видно, братец, вы потому обознались, что я похож на Перепелкина, знакомого вам, – улыбнулся я и заглянул в глаза солдату.
Он выдержал мой взгляд, согласился:
– Видимо, выходит так. А жаль… Верно, вы не похожи: у Перепелкина борода была темнее, чем у вас.
– Моя фамилия Жмуркин, – чувствуя, что солдат немножко догадался, к чему я клоню, представился я. – Ананий Андреевич Жмуркин! – подчеркнул я.
– А я – Чесноков, Константин Алексеевич, – представился солдат; назвав себя, он шумно вздохнул, нахмурился, сел на доску, прилаженную к стене, и, отвернувшись от меня к своим слушателям, стал ровным голосом продолжать рассказ, прерванный моим приходом:
– После вооруженного восстания я был, как участник боев на Пресне, арестован и выслан в Архангельскую губернию. Словом, легко отделался, а отделался так легко, видно, только потому, что мне не было и шестнадцати лет… но меня все же арестовали и отправили в ссылку. На фабрику красок я поступил снова в 1910 году, проработал в паяльном цехе три года, затем был вынужден уволиться, выехать из Москвы в Луганск. Прибыв в этот город шахт и заводов, я стал искать для себя работу. Время, как вы знаете, было тяжелое для рабочего люда. Знакомых в Луганске у меня не было. Поселился я у дряхлой старушки. Добрая старушка для меня поставила койку на кухне, сказала: «Спи, красавчик, тут, лучшего места не ищи: в комнате мне и одной повернуться нельзя». Харчился в трактире. Я ежедневно вставал то к воротам шахт, то к заводским проходным, возле которых стояли сотни таких же, как и я, рабочих, – все они надеялись найти работу. Работы не было для молодых здоровых рук, а не только для пожилых, везде отказывали. Так прошла неделя, вторая…
– Да, годы были жестокой безработицы, – сказал сухонький, с густыми темными усами солдат. – Я крепко испытал ее: чуть не подох с голоду, хорошо, что холостым был, один рот числился за моим горбом – собственный… и его я не знал, как накормить.
– И дохли, – поддержал скуластый, с пшеничными усами, светло-голубоглазый, горбоносый солдат. – Меня у проходной фабрики в Питере подняли… и я очнулся на второй день в больнице. Хорошо, что на войну взяли, а то б сыграл в ящик или в рогожку.
– Если у ворот фабрики на умерли от голода, то и здесь, хотя и кормят нас черствым хлебом и гнилым мясом досыта, не проживете долго: или блиндажом придавит, или же осколком голову оторвет, – сказал хриплым, простуженным, злым голосом чернобровый солдат и сверкнул на меня глубоко запавшими под лоб, острыми густо-карими глазами, как бы налитыми горькой печалью.
– Ох, этот Луганск… шахты! – воскликнул неожиданно солдат, пришивавший пуговицу к шинели и все время молчавший, с бритым серо-бледноватым и курносым лицом. Чесноков оборвал рассказ, улыбнулся и глянул на солдата, пришивавшего пуговицу. – И я был… Поступил шахтером. Мне дали маленькую лампу, толкнули в люк; он со свистом спустил меня в шахту. Я чуть не задохнулся от пыли, пропитанной газом. Ну и воздух в ней! И, я вспомнив деревню, луг, поле и реку Ворона (я из-под Кирсанова), затосковал о сельском воздухе, даже о бедности… Эх, тоскуй не тоскуй о нем и о бедности, а работать надо, пыль с вонючим газом глотать надо, чтобы заработать кусок хлеба! Это так! Спал я в бараке, набитом шахтерами, старыми и, как я, молодыми. Сосед разбудил меня, сказал: «Пора в шахту». Я вскочил, с ужасом опять подумал: «Снова туда…» И стал одеваться, чтобы не отстать от рабочих. Вдруг барак зашатался от взрыва. Обезумевшие люди, схватив свои жалкие пожитки, выбежали на пыльную улицу. Вылетел и я; зарево ослепило. Кто-то, плача, сказал, что взорвался пороховой завод. Утро наполнилось плачем и громкими рыданиями женщин, детей. От взрыва погибло более четырехсот рабочих, а сколько их было ранено, изувечено – не счесть. И я заорал благим матом: «Домой! Домой!» – и в этот же день, не заглядывая в барак, убежал. Только вот теперь, как стал взрослым, попривык к шахте…
Солдат, пришивавший пуговицу, так же внезапно замолчал, как и начал.
– И вот однажды заревели гудки, густо, один за другим, как бы собираясь перекричать друг друга, – возобновил рассказ Чесноков. – Комнатушки и углы в бараке проснулись, закашляли, зафыркали, застучали, заскрипели старыми, разболтанными на петлях дверями. Дверь в кухню полуоткрылась…
Вошел полуротный, из взводных, командир. Чесноков с неудовольствием оборвал речь, так как он не сказал главного. Мы все пожалели о том, что не выслушали конца его рассказа, поглядели хмуро и недовольно на него.
– О чем вы здесь толкуете, а? И всегда-то вы, как я ни войду, все о заводской и шахтерской жизни треплетесь?
– Вы уже, господин полуротный, раньше, чем войти к нам, послушали в окопе, а потом и вошли, – оказал с приветливой наигранностью Чесноков.
– Не понимаю я вас, солдаты! – пропустив слова Чеснокова мимо своих красных ушей, продолжал он. – Уж не крамолу ли вы тут разводите, а? – и его круглое, с тупым и твердым подбородком лицо насупилось. Он малость помолчал, пристально и длинно поглядел на каждого из нас своими выпуклыми свинцовыми глазками. – Смотрите у меня! Наши батальоны позавчера ходили в наступление, а в соседнем полку, в Белибейском, два батальона отказались выступить… и нашему полку, из-за их измены, не удалось захватить немецкие позиции. В Белибейском и Кабардинском полках выловили врагов царя и отечества, предателей родины, которые подняли на неповиновение начальству солдат двух батальонов. И все это сделали какой-то солдат Васильев и прапорщик Кремнев, командир третьей роты. Прапорщик из студентов, большевик… Что глаза-то вытаращил на меня? Смирно! Встать! – рявкнул он.
Мы медленно поднялись, не веря его сообщению. Солдат с пшеничными усами больно ударился головой о накатник, втянул голову в плечи, презрительно-почтительным взглядом уставился на взводного.
– Вольно! Говорите, знаете такого солдата, которому фамилия Перепелкин? Из штаба дивизии сообщили, что он находится в нашем полку, вот и ищут его!
– Никак нет, господин взводный! Мы не знаем такого, – отчеканил громко Чесноков. – Мы о солдате с такой фамилией и слыхом не слыхали! Живых солдат на пополнение к нам в роту еще не присылали в этом месяце! Может, этот Перепелкин находится где-нибудь в пути, в какой-нибудь маршевой роте!
– Что ты порешь, балбес! Разве к нам в роту мертвые поступают?
– Виноват, господин полуротный. Оговорился. Прошу прощения, господин полуротный!
Фельдфебель снова обвел взглядом солдат взвода и, задержав взгляд на мне, наигранно прорычал:
– А ты, Жмуркин, почему не в своем блиндаже?
– Оправиться, господин полуротный, бегал, вот и на обратном пути заглянул к соседям за табачком, – проговорил я и пояснил: – Сам я, господин полуротный, не трубокур… товарищи просили.
– Ох! И почему-то ты, Жмуркин, дюже не нравишься мне? Иногда мерещится, что в тебе черт сидит! Скажи, крест носишь на груди? – спросил грубо и с напускным страхом фельдфебель и опять сверкнул на меня свинцовым взглядом.
– Господин полуротный, как это может солдат с такой чинной бородой и быть без креста на шее? Да у него крест-то этот не только на шее, а и на горбу, – возразил почтительно чернобородый.
– Молчать! Не рассуждать! – прикрикнул фельдфебель, но уже не так громко и грозно. – Так говорите, что никакого Перепелкина вы не знаете?
– Так точно, господин полуротный, – хором рванули солдаты.
– Гм. Ладно, хвалю за то, что не знаете. Так мы пойдем искать его дальше! Да, а вот эту писанину небось все читали? – и он выхватил из кармана шинели тоненькую, в восемь страничек, известную мне брошюрку и показал: – Вот эту самую, на папиросной бумаге?
– Не читали, господин полуротный. Впервые видим в ваших руках, господин полуротный, – отчеканил с удивлением в глазах Чесноков.
– И видеть не видали! – подал голос чернобородый. – А жалеем, господин фельдфебель, что не попалась она нам на цигарки!
– Молчать! Я вам покажу такие цигарки! – потрясая брошюркой над своей круглой головой, вскрикнул полуротный. – Вы знаете, кто я? Я временный помощник ротного!
– Так точно, господин фельдфебель, – выпрямляясь, ответил чернобородый, и его лицо приняло тупое выражение.
– Не «господин фельдфебель», а «господин полуротный»!
– Так точно, господин полуротный! Виноват!
– То-то!
Глядя на него, своего отделенного командира, и остальные солдаты подтянулись.
– На цигарки, на цигарки! Так как вы, дураки, смеете! Вы знаете, что это зловредная писанина? Не знаете?
– Так точно, господин полуротный! – отчеканил с непонимающим и почтительным выражением Чесноков.
– Не знаете, – так я вам сейчас зачитаю места из нее, а может и всю, и вы поймете, что и дым ее зловреден… Да, да, остолопы, зачитаю, чтобы вы знали, что в такой писанине содержится! Гм! Читаю для того, чтобы вы больше никогда не брали в руки таких вредных… – Он не договорил, опустил руку с брошюрой и сдержанно сердитым, четким голосом начал читать: – «Война и российская социал-демократия». Слышите? Таково заглавие преступной брошюры. Читаю! Что вытаращили глаза? Вникайте лучше во вред ее! Я прочел эту писанину в двух взводах, охрип… Вот и вам читаю, чтобы вы поняли ее пагубный вред для государя нашего и… читаю! Слушайте и раскусывайте каждое слово. «Европейская война, которую в течение десятилетий подготовляли правительства и буржуазные партии всех стран, разразилась. Рост вооружений, крайнее обострение борьбы за рынки в эпоху новейшей, империалистической стадии развития капитализма передовых стран, династические интересы наиболее отсталых, восточноевропейских монархий неизбежно должны были привести и привели к этой войне. Захват земель и покорение чужих наций, разорение конкурирующей нации, грабеж ее богатств, отвлечение внимания трудящихся от внутренних политических кризисов России, Германии, Англии и других стран, разъединение и националистическое одурачивание рабочих и истребление их авангарда в целях ослабления революционного движения пролетариата – таково единственное действительное содержание, значение и смысл современной войны».
– Понимаете, что автор пишет, а? – не поднимая глаз от брошюры, спросил глухо полуротный.
– Никак нет, господин полуротный! – крикнул Чесноков. – Ужасно мудрено, господин полуротный!
– Мудрено, остолопы! – рявкнул полуротный. – Слушайте не глазами, а ушами!
И он продолжал:
– «На социал-демократию прежде всего ложится долг раскрыть истинное значение войны и беспощадно разоблачить ложь, софизмы и «патриотические» фразы, распространяемые господствующими классами, помещиками и буржуазией, в защиту войны. Во главе одной группы воюющих наций стоит немецкая буржуазия. Она одурачивает рабочий класс и трудящиеся массы, уверяя, что ведет войну ради защиты родины, свободы и культуры, ради освобождения угнетенных царизмом народов, ради разрушения реакционного царизма. А на деле именно эта буржуазия, лакействуя перед прусскими юнкерами с Вильгельмом II во главе их, всегда была вернейшим союзником царизма и врагом революционного движения рабочих и крестьян в России. На деле эта буржуазия вместе с юнкерами направит все свои усилия, при всяком исходе войны, на поддержку царской монархии против революции в России.
На деле немецкая буржуазия предприняла грабительский поход против Сербии, желая покорить ее и задушить национальную революцию южного славянства, вместе с тем направляя главную массу своих военных сил против более свободных стран: Бельгии и Франции, чтобы разграбить более богатого конкурента. Немецкая буржуазия, распространяя сказки об оборонительной войне с ее стороны, на деле выбрала наиболее удобный, с ее точки зрения, момент для войны, используя свои последние усовершенствования в военной технике и предупреждая новые вооружения, уже намеченные и предрешенные Россией и Францией».
Полуротный оборвал чтение, вскинул оловянные глаза на солдат, спросил:
– Понимаете?
– Так точно, господин полуротный! – ответили дружно солдаты.
– Чувствуете, остолопы, вред такого писания?
– Так точно, господин полуротный!
– Рад за вас, братцы! – И полуротный продолжал все таким же приглушенным, хриповатым и злым голосом.
Я поглядел на солдат: они стояли неподвижно, с застывшими лицами. Только в их широко открытых глазах, как подметил я, были удивление и непонимание того, с какой целью и для чего полуротный читает им эту брошюру, уже тайно прочитанную ими.
Полуротный стоял боком ко мне, в трех-четырех шагах от меня, со склоненной головой. Я заглянул снизу ему в лицо, в неподвижно холодное и злое, подумал, что он, полуротный, или глуп до отчаянности, или… разыгрывает тонкую и рискованную для себя игру перед солдатами своей родины, чтобы они, слушая его чтение, лучше осмыслили содержание брошюры Ленина. Не отводя глаз от лица полуротного, я вдруг обнаружил, к своему удивлению и страху, не подлинное лицо, а только гипсовую маску. Признаюсь, такое открытие меня ужасно поразило, взволновало. «Нет, полуротный не грубый солдафон, каким он представлялся мне вот до этой минуты, а наш товарищ, довольно опытный и умный», – решил уверенно я. Видят ли сейчас солдаты, слушая его наигранно злой голос (да и зло, как почувствовал я, направлено не к автору брошюры, а к тем, о ком говорится в брошюре), как вижу я, видят ли его подлинное лицо, лицо товарища и друга? А может, я ошибаюсь? Может, на лице не маска, а точное лицо солдафона? Может, он и читает брошюру Ленина только потому, что до идиотизма предан царю, до идиотизма глуп в своем монархическом усердии? Может, читает для того, чтобы поймать кого-нибудь из солдат, а потом и предать? Полуротный, почувствовав мой внимательный взгляд на себе, вздрогнул, и его лицо на мгновение оживилось, приняло естественное, теплое выражение, но сейчас же снова скрылось за каменно-злую маску.
– «Во главе другой группы воюющих, – продолжал он, – стоит английская и французская буржуазия, которая одурачивает рабочий класс и трудящиеся массы, уверяя, что ведет войну за родину, свободу и культуру против империализма и деспотизма Германии. А на деле эта буржуазия на свои миллиарды давно уже нанимала и готовила к нападению на Германию войска русского царизма – самой реакционной и варварской монархии Европы».
– Гм! – отдуваясь, гмыкнул полуротный. – Вы понимаете, как автор брошюры чернит союзников России, божественную личность российского монарха? Проще – чернит преступного нашего государя! Надеюсь, что вы, остолопы, поняли?
– Так точно, слышим, господин полуротный!
– То-то, братцы! – крикнул командир. – Бумага брошюры сейчас недостойна пойти на цигарки! Слышите?
– Так точно, слышим, господин полуротный?
– Так вот, братцы, если она у кого-нибудь из вас имеется, проглотите ее! – И он так же наигранно злым, как и начал, дочитал до конца брошюру «Война и российская социал-демократия». Закончив чтение, он поднял гипсовое желтоватое лицо и сверкнул оловянными глазами, – его лицо еще больше показалось мне не лицом, а маской солдафона, – малость подумал, что-то соображая, и раздраженно рявкнул: – Так вы, мерзавцы, не знаете Перепелкина?
– Так точно, не знаем, господин полуротный! – ответили хором солдаты.
– Молчать! Смирно! Со дна океана достаньте мне этого Перепелкина! В Кабардинском и Новогинском полках сейчас идет обыск… Чтобы ни одной такой гадости не оказалось в моей роте! – И он показал нам всем брошюру, пригрозил: – Если у кого окажется она, пусть сейчас же проглотит… Иначе, если найдут, расстрел! А сейчас все – в ружье, к бойницам!
Солдаты метнулись к винтовкам.
Полуротный, озираясь по сторонам, выскочил из блиндажа. Я, дав ему скрыться в извилистом окопе, последовал к своему. Не успел я сделать и трех шагов, как нагнал меня Чесноков. Его лицо было смертельно бледно, в умных глазах беспокойство и страх. Он наклонился к моему уху, прошептал:
– Ананий Андреевич, неужели вы действительно не признали меня?
– Что вы, Константин Алексеевич! Сразу признал. Но я не стал говорить при солдатах, что я знаком с вами, моя подпольная кличка Перепелкин. Да ее никто, кроме вас, и не знает здесь… Говорили вы кому-нибудь из солдат, с которыми вы в дружбе?
– Да, говорил.
– Напрасно, Константин Алексеевич.
– Кому я говорил – это верные люди, члены партии, не выдадут, – заверил убежденно Чесноков.





