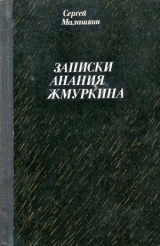
Текст книги "Записки Анания Жмуркина"
Автор книги: Ника Бойко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 27 страниц)
– Так же, как и у меня, – вскидывая голову от мяса и горбушки хлеба, соврал Евстигней. – Это, братенок, хорошо, а главное – меньше заботы, когда жены нет, а то думай и майся из-за нее: какому она Ваньке подсыпает свою меморию?
– Правильно! – крикнул визгливо в проходе окопа Вавила и вывалился к нам в блиндаж. – Правильно! Жены нонче обманцивы, и я им на одну капельку не верю, – Вавила показал кончик мизинца, – вот на сколько!
– Да-а, – вытирая усы от крошек, мычал Евстигней, – бабы нынче пошли изменчивые, как погода в октябре. Да-а… Так, значит, у тебя, Игнат, нет жены?
– Нет.
– Хорошо, брат. А главное – меньше заботы. А от кого это ты письмо-то получил: от матушки или от…
– От одной знакомой, – густо покраснев, улыбнулся Игнат, – я с ней, можно сказать, как с женой жил.
Евстигней вытаращил каштановые глаза, полуоскалил рот и, дергая рыжими усами, восторженно посмотрел на Игната и дико заорал:
– Молодец! Дай руку! Дай скорее руку!
Игнат еще больше покраснел, осторожно погладил брюшко, шариком подкатился к Евстигнею и подал пухлую руку.
– Вот как, – рычал Евстигней, – А теперь давай облобызаемся… Вот так, братенок.
Мы все трое – я, Соломон и Вавила – удивленно смотрели на эту трогательную картину. Нам было как-то странно, что двое мужчин объясняются в своих чувствах. Евстигней хрипел:
– Молодец, брат. Молодец! И очень правильно. Эх, братенок, и у меня осталась зазноба, да еще какая… Эх, голова ты моя, голова… Да мы с тобой, Игнатушка, два сапога с одной ноги! Так что же она тебе пишет, а? – отпуская друга и любуясь им так, как любуется мать своим первенцем, когда он только что в первый раз собирается ходить, ласково спросил Евстигней. – Что она тебе, дружище, пишет, а?
– Хорошо, Евстигней, пишет, даже очень хорошо.
– А ну, читай, – потирая руки и усаживаясь рядом с Игнатом, предложил Евстигней и лукаво подмигнул левым глазом. – Жарь!
Игнат осторожно вытащил из кармана письмо, развернул. Письмо было написано мелким почерком. Игнат, наливаясь густым красным соком, стал читать:
– «Дорогой, горячо любимый мой Игнатушка, шлю тебе низкий поклон, целую тебя несчетно раз в губки, в твое пухлое пятнышко…»
– Это что за пятнышко?
– А это она пишет насчет моего носа, – застенчиво ответил Игнат и стал продолжать: – «Слов у меня нет, чтобы рассказать тебе, как я без тебя живу одинешенькой, как ужасно мучаюсь и ночей не сплю…»
Евстигней откинулся к стене блиндажа, и его лицо резко изменилось. Он, глядя мимо друга, в проход окопа, сердито крякнул:
– Брось! Сволочь!
Игнат, ничего не понимая, поднял голову, забегал острыми точками глаз по Евстигнею.
– Это как? Это кто сволочь? – робко спросил он и поднялся на четвереньки. – Это?..
Евстигней захохотал:
– Разве ты, дружище, не чувствуешь, что она тебе мажет, а? Не чувствуешь? Это плёха. Я никогда таким плёхам не верю, а тебе прямо скажу: не верь ей!
– Это как? – пряча письмо и поглядывая робко на нас, пыхтел Игнат. – Это как?
– Как? – поднимаясь на карачки, рычал Евстигней. – Да разве ты, еловая дуга, не чувствуешь по письму? Да ты дай-ка это письмо, как я тебе его расшифрую, я тебе точно докажу, что у твоей Агриппинушки тут же после твоего отъезда машинка развинтилась… и пошла писать.
Игнат совсем растерялся, а мы – я, Соломон и Вавила – не знали, что делать, и только растерянно улыбались.
– Теперь твоя очередь, Петр, – крикнул Евстигней Вавиле и насмешливо посмотрел на него. – Докажи, как честная жена пишет.
– Я читать не буду, – ответил тот и приступил к еде.
Мясо было ужасное и воняло, а когда вынул шпильку, то в дырочке оказались маленькие белые, с черными головками черви.
– Это черт знает что такое! – крикнул он и зло запустил мясо в стену окопного прохода.
– Ты что это, Вавила, мясом-то шикуешь? – показываясь из прохода, проговорил взводный и остановился. – Пожрали?
– Так точно, – ответил Евстигней и вылез из блиндажа. – Изволили зубами поскрипеть.
За спиной взводного стояли четыре человека. Взводный, с круглой головой, посаженной глубоко в плечи, осмотрел каждого из нас и остановился на мне.
– Жмуркин, живо в секрет!
Я стал одеваться, а когда оделся и взял винтовку, взводный, пропуская нас вперед, мягким, как пареная репа, голосом выкрикнул:
– Тяпкин!
– Здеся.
– Феклушин!
– Я.
Голова взводного метнулась в сторону Феклушина, влилась в него злыми, колючими глазками.
– Ты что, сукин сын, не научился все еще, как надо отвечать, а? Я тебя сейчас выучу!
– Здеся! – громко выкрикнул Феклушин и бросился вперед.
Голос взводного снова стал мягким, и голова опять ушла в плечи.
– Синюков!
– Здесь.
– Жмуркин!
– Здесь, – выдохнул я и проскочил мимо взводного.
– Шагом марш, – прошипел еле слышно взводный.
Я только в конце окопа вспомнил, что я не простился с Евстигнеем, с Соломоном, и, вспомнив это, почувствовал, как от моего сердца что-то оторвалось и с тупой болью упало.
– Это хорошо, что мы будем в секрете! – вздохнул Синюков.
– Тише!
XIV
Мы благополучно вышли из окопа, прошли ползком мимо разрушенной стены, в которую неустанно немцы долбили «чемоданами», потом в сад какого-то очень большого и роскошного имения, подбежали к барскому дому, спрятались в него и стали бродить по комнатам. В доме ничего, кроме стекла от выбитых окон да еще осколков от большого трюмо, не было. Все это стекло валялось по паркетному полу, звенело и неприятно хрустело под ногами. Мы прошли в заднюю комнату, что выходила в парк и к большому, с открытой сценой театру. В этой комнате тоже, кроме шкафов, битого стекла и раскиданных по полу книг, ничего не было. Книги валялись по всему полу в ужасном беспорядке, словно их кто-то пропустил в какой-то особенный самотряс, специально приготовленный для книг. Синюков, Феклушин и Тяпкин стали отыскивать мягкую и удобную для цигарок бумагу, но книг с мягкой бумагой не оказалось, все они были из довольно толстой бумаги, а то и просто попадались одни переплеты, из которых бумага была вырвана такими же искателями, как и мы. Синюков нашел роскошный том «Войны и мира» Толстого, стал его перелистывать и, рассматривая картины, восхищенно выкрикнул:
– Братцы, нашел, вот так бумага! – и приступил к работе.
К этому времени, когда мы рылись в книгах, пришел офицер, крикнул добродушно на нас и приказал следовать за ним. Мы осторожно вышли в густой парк, потом свернули в сторону и, пробираясь сквозь чащу деревьев и мелкие заросли, скатились под довольно крутую гору, к большому озеру, густо обсаженному высокими деревьями, а местами – густым кустарником. На берегу самого озера стоял небольшой, окрашенный в темно-красный цвет двухэтажный дом. Нам приказали войти в этот дом, а когда мы вошли, за нами вошел офицер и сделал распоряжения старшему.
– Слушаю, ваш-бродь, – сказал шепотом взводный и глубже вдавил шарообразную голову в плечи. После этого офицер повернулся к нам спиной, вышел из дома в сопровождении солдат, которых мы только что сменили.
– Прощевайте, – сказали они и бесшумно скрылись с офицером в чаще леса.
Взводный объяснил нам, что надо смотреть в сторону озера, чтобы немцы не переправились на лодках и не ударили бы в тыл. Потом строго-настрого приказал:
– В окна не показываться, также и не курить, и главное, боже вас упаси, – тут он загнул довольно основательно крепкое слово и показал нашим физиономиям загорелый кулак, – дрыхнуть.
– Слушаемся, – протяжно вздохнув, ответили мы и заняли указанные места.
Взводный быстро вышел и так же бесшумно, как и офицер, скрылся в чаще леса. Мы остались одни. Я и Синюков стояли на втором этаже и из-за простенков смотрели в окна на раскинувшееся стальное озеро, которое жалобно плескалось волнами в берега и что-то печальное рассказывало о себе: впрочем, это только мне так казалось, – возможно, оно ничего не рассказывало, а просто плескалось, играло с берегами и с густой осокой и с деревьями, которые черной каймой отражались в нем. Остальные товарищи находились внизу, и нам их было хорошо видно, так как крутая лестница выходила из кухни в комнату второго этажа, где находился я и Синюков. Мы, стоя у простенков, тихо перекидывались через эту лестницу с товарищами, что сидели на первых ступеньках.
– Вот если накроют «чемоданом», – вздохнул Синюков, – и ничего не останется!
– Не накроют, – ответил авторитетно снизу Тяпкин, – а ежели накроют, то можно уцелеть!
– Нет, это уж, брат, дудки, – ответил Синюков. – Попади он, «чемодан»-то, только сюда – будет только одно мокрое место и больше ничего.
– На все, брат, счастье, – вздохнул Тяпкин. – Ты вот спроси у Феклушина, как он попал под бомбу, и он тебе расскажет, а то ты говоришь, счастья не бывает, нет, брат, что ни говори, а счастье – великое дело, и оно человеку сопутствует. – И Тяпкин обратился к Феклушину: – Расскажи, как было дело?
Феклушин поднял голову, посмотрел на Синюкова, на меня и ничего не сказал, а только махнул рукой и показал на окна.
– Не хочет, – улыбнулся Тяпкин, – так я вам расскажу.
Стоял наш поезд на одной станции, верстах в двадцати от фронта. Стояли мы на этой станции около двух суток. Так мы простояли и прождали до третьего утра. Это утро было солнечное, и мы бродили около своего поезда: в это время в одном вагоне, в котором ехал Феклушин, – я ехал в соседнем вагоне, – было полно солдат, и такое было в нем веселье, что, как говорится, дым валил коромыслом, так что вагон трещал от звуков балалайки, венской, от топота пляшущих. Я только что было подошел к двери и хотел ввалиться в вагон, посмотреть, как ребята откалывают плясовую, а возможно и сам бы тряхнул стариной – я ведь в молодости здорово плясал, – и я только что поднял ногу на висячую доску, уцепился за дверь, вскинул голову и вскрикнул: «Батюшки, аэроплан!» – и тут же отошел от двери, а вокруг меня, слышу, тоже кричат: «Немецкий!», «Бомбы бросает!» И верно: только что я успел отскочить в сторону, как он бросил бомбу в вагон, в котором откалывали плясовую; в котором сидел Феклушин, мой земляк, – мы с ним из одной деревни. Я видел, как вся верхушка вагона со всем содержимым взлетела вверх и оттуда посылалась кусками обгорелого мяса, горящими тряпками шинелей, котелками. Я видел, как на меня летела рука и револьвер вместе с кобурой. Я бросился в сторону, сильно ударился головой о какой-то предмет и упал между рельсов, а недалеко от меня упала рука и кобура с револьвером. Я поднялся и подошел к вагону: вместо вагона стояла платформа и на ней груда тлеющего мяса и вершков на восемь крови. Кровь густо сочилась через края… Это месиво местами дымилось, обдавало нас запахом гари; через несколько минут оно погасло и стало как студень. Я с ужасом бросился от этой платформы, но не успел я сделать и трех шагов, как вонзился в мои уши пронзительный крик, заставил меня остановиться и приковал к одному месту. «Уби-ли! Уби-ли!» Крик был с платформы, из кровавого месива. Я широко открыл рот, глаза, впился в ужасный студень. Остальные тоже окружили платформу, так же безумно смотрели на ее ужасную поверхность. «Уби-или! Уби-или!» – «Да тут кто-то живой! – крикнули из толпы солдат. – Ишь как орет, словно он не на войне, а в лесу и на него разбойники напали». – «Черти! И верно, родимые! – пронзительно, как-то по-женски, крикнул сутулый солдат. – Шевелится!» – и бросился бежать от платформы. А это он был, – Тяпкин показал на Феклушина. – Живой и невредимый.
– Ладно уж тебе, – проворчал Феклушин.
Я посмотрел на Феклушина: он все так же спокойно сидел на ступеньке лестницы, с необыкновенным спокойствием смотрел вперед, как будто старался пронизать из открытой двери густую лесную чащу.
Ночь медленно, но тяжело опускалась на землю.
XV
Феклушин сменил Синюкова. Он остановился около окна и стал упорно смотреть на озеро, на начало окопов, которые отделяла от нас бешено ревущая полоса огня и железа. Временами эта полоса обрывалась и, яростно крутя вершины деревьев, падала в озеро, поднимала огромные фонтаны воды, выворачивала землю, выкидывала вместе с водой далеко на берег. От таких взрывов колебалась почва, а темно-красный дом дрожал, как пух одуванчика, каждую минуту готов был подняться и улететь в безвоздушное пространство. Густая свинцовая мгла ночи то и дело разрывалась на части, шарахалась в разные стороны; двухэтажный дом, в котором мы сидели, освещался розово-красным заревом. Воздух ревел, вертелся огромными воронками, обрушивался шквалами огня, железа на окопы, делал свое жестокое дело, вырывал из земли многосаженные гнезда спрятавшихся людей, разрывал и сплющивал в сплошное месиво землю, деревья, железо и бросал на вздрагивающую землю – и так без конца. Слушая эту дьявольскую музыку, у меня не было силы подчинять себя собственной воле: меня всего трясло, нижняя челюсть отстала и стучала о верхние зубы. Мне все время хотелось сказать какое-нибудь слово, поговорить с Феклушиным, но язык не слушался и настолько был тяжел, что я не был в состоянии пошевельнуть им. Я только широко открытыми глазами смотрел на Феклушина, жадно искал его глаза, старался уловить выражение его лица, но и это мне не удавалось до тех пор, пока он не заговорил со мною.
– Ты что, земляк, – спросил он, – в первый раз в секрете? – и посмотрел на меня кроткими, как будто ничего не говорящими светло-голубыми глазами.
– Да, – ответил я и пододвинулся ближе к окну.
– В секрете гораздо лучше, – не слушая меня, ответил Феклушин и переступил с ноги на ногу. – Теперь там ужасное творится. Наши скоро будут наступать.
– Наступать?
Феклушин помолчал. Потом, отступив от стены, отошел от окна, посмотрел на меня, улыбнулся.
– Надо бы покурить.
– Что ж, покури, а я посмотрю, – ответил я и ближе подошел к окну, но не успел я отвести глаз от Феклушина, взглянуть в окно, как наш дом дернулся, припал к земле, потом закачался из стороны в сторону.
– Ложись! – крикнул Феклушин и быстро повалился на пол.
Я последовал его примеру, но было поздно: снаряд тяжело прогромыхал над крышей, грузно вонзился позади дома в гору и, вырывая с корнями деревья, ошеломляюще лопнул и вместе с глыбами земли поднялся вверх и градом земли и щепок осыпал дом, отчего дом прогремел, как бубен. Мы неподвижно лежим на полу, освещаемые ежеминутно вспышками, Феклушин заговорил первым:
– Живы? – это он бросил по лестнице вниз.
– А вы? – поднимаясь по лестнице, опросив Синюков и, как черепаха, вытянул голову.
– Живы, – ответил Феклушин и прислушался. – Сейчас пришлют еще…
– Тогда нам нужно отсюда утекать, – прошептал я.
– Этого мы не можем сделать, – сказал Феклушин и приглушенно засмеялся.
– Ложь! – выкрикнул я и сам испугался своего голоса.
Феклушин приподнял от пола голову, выпустил из рук винтовку и, упираясь руками в пол, приподнял туловище, долго лежал так и смотрел на меня. В этот момент он был похож на большую, только что потревоженную жабу, которая нацеливалась броситься в пропасть, чтобы спастись от врага.
– Ты что? – Он быстро прыгнул ко мне. Я испуганно подался от него в сторону. – Ложь? – выдохнул Феклушин и замер.
– Ложь, – ответил я и тоже облокотился на руки и приподнял туловище.
В это время, когда я поднимался, Феклушин что-то хотел мне сказать, но ничего не сказал, так как ночь, налитая огнем и металлом, вздрогнула и зеленой бабочкой затрепетала за окнами. Мы, ослепленные трепетом ее огромных крыльев и неожиданно наступившей тишиной, припали плотнее к полу, вытаращенными орбитами глаз кричали друг другу в упор:
– Ложь!
– Ложь!
Сколько мы так пролежали, я хорошо не помню, только помню одно: Феклушин поднялся первым, смахнул с шинели приставшую солому и не торопясь подошел к простенку окна, привалился плечом к стене и, склонив голову, облокотился на ружье.
– Пошли.
За Феклушиным подошел к окну Синюков, остановился за его спиной.
– Пошли, – вздохнул вторично всем своим чревом Феклушин.
– В штыки? – не поднимаясь с пола, спросил я у Феклушина. Он не ответил.
Я подошел к окну, остановился позади Феклушина и Синюкова и стал смотреть на зеленое море ночи.
– Ты видишь, как немцы тревожно освещают поле боя?
– Сейчас заработают пулеметы.
Огненный шквал был позади немецких окопов. Такая же завеса огня была и позади наших окопов. Огонь красно-желтой цепью протянулся по высокому холму и, подпрыгивая кверху, танцевал какой-то необыкновенно причудливый танец, – это был наш заградительный огонь, чтоб немцы не могли бросить подкреплений, а также удрать из окопов. В этом танце огня что-то было ужасное: он прыгал, подскакивал; от его топота дрожала земля, глухо бушевало озеро, кружились вершинами деревья.
– Пулеметы, пулеметы, – вздохнул Синюков, – это наши.
– Немецкие: разве ты не слышишь, как они тявкают? – И Феклушин, несмотря на то, что мы великолепно разбирались в звуках оружия и орудий, подробно объяснил нам.
– Да и нашим стрелять нельзя, когда наши наступают, – сказал я.
Мне не ответили: Феклушин и Синюков плотно припали к окну, прислушались. Пулеметная и ружейная стрельба застряла в каком-то узком проходе, издавала еле уловимый всхлипывающий свист. Но это было только неверное восприятие слуха: били тысячи пулеметов, тысячи орудий. А ружейные выстрелы трещали, как грецкие орехи, – это наши: немецкие хлюпали, как крупные дождевые капли в жирную землю. Потом вдруг, как-то внезапно, все стихло. Зеленая бабочка дернулась и, помахав прозрачными гигантскими крыльями, грузно провалилась в какую-то бездну, и мы погрузились в зловещую темноту. Но вот ошеломляюще спокойно вспыхнула ракета, плавно скользнула по небу, осветила на одно мгновение нас и снова погасла перед нашими окнами, и мы опять погрузились в рокочущую тьму. Мы все трое стояли не шевелясь, и время, что бежало мимо нас, мимо нашего дома, казалось нам вечностью. Слушая тишину, нам хотелось спать, спать, спать. А из этой глухой и знойной тишины до нашего слуха отчетливо, как всплеск далекого океана, доносился потрясающий человеческий крик и смертно-животное кряканье:
– Уууурррааа!
А нас неудержимо тянуло: спать, спать, спать.
XVI
Мы, когда в нашу комнату в сопровождении двух солдат вошел офицер, прислонившись к стене и облокотившись на винтовки, крепко спали; мы только тогда, как он сказал: «Дрыхнете?», очнулись от сна, но никак не могли открыть тяжелых век, а когда открыли, нас охватила зевота, и, как назло, принялась мучительно корежить, да так, что скрипели челюсти и мы не имели возможности повернуться к офицеру и ответить… «Дрыхнете, черти?!» – повторил он придушенным голосом и более грозно, чем в первый раз. Я открыл глава и повернул голову.
– Никак нет, ваш-бродь.
– Ты еще врать!.. Как фамилия? – наседая на меня, кричал шепотом офицер. – Как фамилия? Я тебе покажу, как в карауле спать! – Офицерский крик пробудил и Феклушина. Он спокойно выпрямился около простенка и стал смотреть в окно. Потом, через какую-нибудь минуту, пока меня распекал офицер, он сумел сообразить, как нужно отвести угрозу офицера, которая не выросла бы в полсотню розог, стукнул прикладом и тихо кашлянул.
– Я тебе, мерзавец, покажу… Я тебе покажу, как надо в карауле стоять. Я тебе…
Феклушин громче кашлянул.
– Это еще кто? – крикнул офицер. – А-а?
– Я, ваш-родь, – отчеканил Феклушин и повернулся к офицеру, – стою в карауле и…
– Тоже дрыхнешь, мерзавец! Только что сейчас проснулся?
– Никак нет, ваш-родие, смотрю в сторону врага.
– Смотрите, – бросил офицер и погрозил пальцем Феклушину.
– Слушаю, – отчеканил Феклушин и впился в окно.
– А тебя я сейчас возьму с собой, – обратился он равнодушно ко мне, – я тебе покажу, как надо стоять в карауле! Как твоя фамилия?
– Жмуркин, ваш-бродь!
– Выходи, мерзавец, сюда!
В комнате стояла густая и мягкая, как черный бархат, ночная мгла. Я осторожно отделился от стены, так же осторожно двинулся на голос ротного, а когда подошел, он крепко схватил меня за левое плечо и шепотом закричал:
– Это что такое, а?
– Воин, ваш-родие, – ответил огромного роста солдат, пришедший вместе с офицером.
– Откуда такого взяли?
Я стоял между офицером и огромным солдатом, удивленно, но спокойно смотрел то на того, то на другого и ждал дальнейшего распоряжения. Я смутно видел в темноте, как на лице офицера играла улыбка и боролась с суровостью.
– Жмуркин, – глядя на меня и измеряя меня всего, чтоб не расхохотаться, бросил он. – Жмуркин! Вот так Жмуркин! Откуда тебя, такого, взяли, а?
– Я…
– Как стоишь, мерзавец?! Как стоишь?! Я вытянулся.
– Какой роты?
Офицер раздражался и стал входить в азарт: я видел, как быстро менялось его лицо и принимало зловещий вид, который ничего хорошего мне не предвещал; я при виде такого лица начинал терять спокойствие и нервно подергиваться всем телом; глядя на офицера, я чувствовал, сознавал, что он сейчас меня ударит, потом пойдет беспощадно бить, как это часто бывает на фронте; после избиения доложит начальству, которое это дело обсудит и спокойно вынесет авансом пятьдесят розог.
– Я…
– Откуда тебя, такого, взяли? Неужели дошли до того, что стали брать…
– Я…
– Ваше благородие, – перебивая меня, вмешался огромный вояка, – это ничего, что он мал ростом.
– Что-о?! – дернулся офицер в его сторону. – Что-о?!
Вояка растерялся, вытянулся, зашевелил огромными усами, потом серьезно доложил:
– Бывают.
– Что бывают?
– Такие люди, которые не растут кверху, а тянутся, ваш-родие, в сук.
– Что-о?! В сук? Это в какой сук? – вглядываясь в вояку, сурово проговорил офицер. – В какой? – И, не дожидаясь ответа, посмотрел на меня: – Это верно, Жмуркин?
Я густо покраснел:
– Так точно, ваш-бродь.
Офицер громко рассмеялся и повернулся ко мне спиной.
– Ты думаешь, – обратился он к своему солдату, – земля примет и великана и карлика с одной почестью?
– Так точно! Для земли безразлично, – ответил вояка и широко осветил улыбкой свое лицо. – Она всех и всё принимает в свои недра и каждой весной все лучше наряжает себя.
– Ишь ты какой философ, – улыбнулся офицер и повернулся ко мне, но ничего не сказал мне, так как черная тишина вздрогнула от какого-то жуткого крика.
Мы застыли, впились слухом в тишину. Крик протяжно резал:
– Ооо! Омооггиитееэ!
– Сова? – бросил офицер и втянул голову в плечи. – Я ужасно не люблю этих птиц. Их так много в разрушенном имении.
– Это человек, – вздохнул Феклушин, – кажется, русский.
– Какой человек? – дернулся офицер. – Какой человек?! Здесь, на войне, нет человека! Нет!
– Так точно, ваш-бродь! – подтвердил вояка и напомнил офицеру, что пришло время уходить.
– Ооммоогитееэ!
Офицер и солдат спустились по лестнице. Феклушин повернулся ко мне, улыбнулся.
– Тут человека нет.
– Нет, – ответил я и подошел к окну и вспомнил Евстигнея.
От крика вздрагивала ночь, изредка трещала ружьями.
– Скоро будет свет, – вздохнул Феклушин. – А все-таки, Жмуркин, и тут есть человек.
Я молчал; я смотрел на озеро: я видел, как густая мгла поднималась от воды и удалялась, а вместо мутно-беглой мглы по гладкому зеркалу озера ползали небольшие прозрачные, похожие на руно косички беловатого тумана; мне казалось, что озеро проснулось и задышало всей грудью.
– Есть и тут человек, – повторил упрямо Феклушин, – я знаю, что он скоро вырвется и я его скоро увижу.
А рассвет кричал, и его крик был похож на крик только что показавшегося из чрева матери ребенка.
Ничто так не сближает, как минуты опасности, проведенные вместе, бок о бок. После этого я почувствовал, что друзей у меня стало больше.
– Ооомогтииттеэ!
На крик, вылезая из грязно-бурого горизонта, поднималось солнце и как бы красно-желтой кровью плеснуло в комнату.
Мы оба – я и Феклушин – вздрогнули и отступили назад.
XVII
В обед нас сменили. Мы прошли в окоп все тем же путем, которым проходили в караул вчера вечером, и разошлись по своим блиндажам. На душе у меня было тяжело, мрачно; мне совершенно не хотелось думать ни о настоящем, ни о будущем, так как у меня ничего этого не было, а было только одно: окопы, жуткое время, оторванное от всего мира, свободно разгуливающая смерть, которая бегает, вертится вокруг и издевается надо мной: «Не торопись, не торопись! Еще, голубок, не пришло твое время проститься с этой жизнью. Не пришло. Я сама знаю, когда нужно тебя подкосить, прахом твоим напитать червей, прахом твоим унавозить землю. Не торопись, голубь мой, не торопись. Наберись терпения и жди. Я тебя не забыла». Так нашептывала смерть из времени, оторванного от всего мира, бегала, как безумная, по обожженному и по глубоко взрытому снарядами полю, косила, жалила беспощадно моих товарищей, с которыми я приехал сюда из далекой и пышно цветущей России. Такое было у меня настроение, когда я вошел в блиндаж, но, когда я осмотрелся и в блиндаже не нашел Евстигнея, меня охватил чудовищный испуг, стиснул огромными тисками, так что я оцепенел на несколько минут, остался стоять на одном месте и тупо стал смотреть на Соломона, что сидел в углу блиндажа и дремал. Я видел, как густые, женские ресницы неподвижно лежали в орбитах, от орбит и ресниц падала темно-серая тень на желто-землистое лицо Соломона, я подошел к нему и толкнул его:
– Соломон, Соломон!
Соломон взмахнул ресницами, и я видел, как с его лица сбежала тень, из орбит взглянули кроткие глаза, осыпали темной пылью.
– Что?
Потом он быстро вскочил на ноги, побежал к бойнице и принялся стрелять. Я подошел к Соломону и взял его за плечо.
– Соломон, Соломон!
Он повернулся ко мне: на его лице возбужденно играл жидкий румянец и дрожала заячья губа; мне показалось, что его губа снова дразнилась, подсмеивалась надо мной и как будто выговаривала: «Жмуркин, я, брат, того, великолепно сдремнул, а ты, Жмуркин, проворонил… Да-да, ты, брат, проворонил». Соломон ничего не говорил: только стоял передо мной, шевелил заячьей губой.
– Где Евстигней? – спросил я и пристально посмотрел на Соломона.
Он улыбнулся, оттопырил губу, но ничего не сказал.
– Где Евстигней? – повторил я и коснулся Соломона. – Евстигней?
Соломон расплылся в улыбку, замахал рукой.
– Евстигней?.. Он остался там… А я убежал сюда нынче ночью. Немцы нас не допустили до себя… Евстигней остался там!
– Убит?
– Убит? – не понимая меня, дернулся Соломон и закружился по блиндажу и весело замурлыкал какую-то песенку на своем жужжащем языке.
– Да ты с ума сошел, что ли, а? – заскрипел я и схватил Соломона за грудь гимнастерки. – Ты что обалдел, а?
От такой неожиданности Соломон остановился, испуганно вытаращил на меня глаза, зашевелил губами:
– А-а-а… Ананий! Андреевич?
– А ты думал, это кто?
– Так это ты?
– Я.
– А я думал, тебя убили.
– Пока еще не убили, а гуляю, – улыбнулся я и крепко обнял Соломона. – Рассказывай, как потерял Евстигнея?
Соломон, волнуясь и целуя меня в щеку, привалился к стене, а когда мы кончили лобызаться, я сел на выступ и приготовился слушать. В соседнем блиндаже кричал взводный, приказывал становиться к бойницам и стрелять. Потом взводный пришел к нам, строго-настрого приказал не отходить от бойниц и все время стрелять. Он грозно сказал:
– Вы должны выбить врага.
– Как его достать? – огрызнулся Соломон и посмотрел на взводного. – Он, как крот, сидит в земле, а вы – достать…
– А ты еще поговори у меня!
Соломон замолчал, пошел к бойнице. Я пошел тоже к бойнице, и мы принялись стрелять. Взводный, проверяя нашу стрельбу, сказал:
– Нынче в ночь пойдем в атаку.
– Слушаю, – ответил Соломон и старательно принялся выпускать обоймы.
Немцы отвечали так же горячо и добросовестно. Ружья, пулеметы хлестали ливнем свинца в насыпь нашего блиндажа: некоторые пули, не долетая, ударялись около насыпи, поднимали небольшие струйки пыли. Создавалось такое впечатление, что будто бы шел крупный ливень дождя, капли которого падали на землю, на сплошные лужи воды, дымились легким дымком. Стреляли мы долго, сильно, так что затворы винтовок и патронные коробки невыносимо стали горячими. Первым заговорил Соломон:
– Евстигней остался там, и я думаю, что он не ранен.
– Как это – там и не ранен? Я не понимаю!
Соломон дернулся и застыл.
– Это ты, Ананий Андреевич? – и пощупал меня рукой.
– Я.
Соломон, захлебываясь словами и дергая то и дело заячьей губой, стал рассказывать:
– Да, это ты, Ананий Андреевич. Сколько мне пришлось пережить. Боже мой, сколько мне пришлось пережить! О, если бы ты знал, сколько пришлось пережить в эту ночь! Ты поверь, Ананий Андреевич, немцы долбили по нашим окопам «чемоданами» так, что было никак невозможно не только показаться из блиндажа, а и мизинца высунуть. Как они долбили… О-о, ужас! А пулеметы как из пожарных кишок поливали… Боже мой! – Соломон повернул лицо ко мне и захлебнулся словами. – О, как они, Ананий Андреевич, поливали… – и замолчал.
Я смотрел на него. У Соломона тряслась губа и все шире открывались каштановые глаза. Я чувствовал, что Соломону было тяжело и трудно говорить: слова, пухлые от ужаса, застревали в его горле, душили его. Он говорил:
– Боже мой, как немцы поливали! Мы все, я и Евстигней, припали к земле и не дыша лежали. Поверь, Ананий Андреевич, нас не было, не существовало… Боже мой, нас совершенно не существовало! Я тебе прямо скажу: был Соломон – и не было Соломона! Боже мой, что только делалось над нашими головами… О!
«Вылазь!» – зашипел взводный над нами и забегал по окопу. «Вылазь!» – зашипели за взводным отделенные командиры и тоже забегали по окопам. А мы, как будто не слыша, лежали и не шевелились. «Вылазь!» – прохрипел надо мной взводный и двинул меня носком сапога по заду.
«О! – вскрикнул я. – Зачем же так драться, можно и толком сказать…» Боже мой, что тут только было!
Тут Соломон широко открыл рот и замер и так стоял несколько минут.
– Ну? – выкрикнул за мной Соломон и заиграл заячьей губой. – «Вылазь!» – грозя кулаком, приказал взводный и пошел в соседний блиндаж. «Ну, – поднимаясь с земли, сказал мне Евстигней, – придется вылезать». – «Да, придется, Евстигней», – ответил я и хотел было снова повалиться на землю. «Ты, – говорит Евстигней, – держись около меня. Я, – говорит он, – имею огромную силу и в штыковом бою защищу тебя, – и стал вылезать из окопа, а когда вылез, бросил мне: – Лезь, да скорее». О боже мой, что тут и было! Я хочу кверху, а меня тянет книзу. А пулеметы так и режут, так и режут козырек засыпи!..
Соломон замолчал, ближе прижался к бойнице, с азартом выпустил несколько обойм.
– Ночь была светлее дня. Все дрожало, лопалось, как яичная скорлупа, свистело: под ногами гудела земля и, как гигантская палуба корабля, качалась из стороны в сторону. А мы припали к ней и крепко держались за нее. «Вперед! Вперед!» – раздавался голос взводного. Мы оторвались от земли, рванулись вперед, побежали. Ярко-зеленая завеса огня, земли и металла преградила нам путь и все заградила собой.
Огонь походил на цепь, на неумолкаемо бьющие фонтаны ярко-зеленой воды. Мы остановились, упали на качающуюся землю, прижались к ней… О боже мой! Мы лежали около цепи фонтанов, и брызги земли, огня и металла летели на нас… «Вперед! Вперед!» – кричал взводный. Мы не могли оторваться от земли. Боже мой, что была за ночь! Первым поднялся Игнат, бросился в зеленое пламя фонтанов, и пламя охватило его и скрыло за собой. За ним побежал Яков Жмытик. Но он не добежал до огня: он, вскидывая кверху руками и откидывая без головы туловище, застыл на раскорячившихся ногах. О, – вздохнул Соломон, – и был Яков Жмытик на зеленом фоне огня как черное пугало на гороховом поле… «Вперед! Вперед!» – раздался за нами голос взводного. Я бросился за Евстигнеем, нырнул за ним в зеленое пламя огня. «Соломон! Соломон!» – кричал Евстигней и бежал вперед. Я бежал с ним рядом. «Вперед! Вперед!» – гремела команда. Впереди было тихо и светло, как днем; позади бесновались фонтаны заградительного огня. Перед нами чернели немецкие окопы, а над ними моталась половинка луны, бодалась рогами. Вдруг немецкие окопы зашевелились, поползли к нам навстречу. Мы сгрудились в кучу, рванулись: «Уурраа!»





